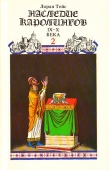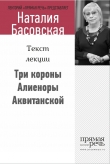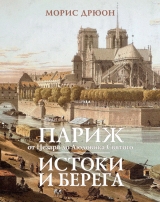
Текст книги "Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега"
Автор книги: Морис Дрюон
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Скорее парижанам надо было кричать «Аллилуйя!» – ведь пройдет больше восьмисот лет до того дня, когда германская армия снова решится пойти на их город.
А сейчас… Вскоре придет конец продолжительным династическим колебаниям: Эд спас Париж от норманнов, Гуго Великий создал герцогство с центром в Париже, Гуго Капет только что избавил Париж от немцев – и неувядаемая слава озарила этот род, в прошлом насчитывавший уже трех королей. Состязание за трон вошло в завершающую стадию. При первой же ошибке рода-соперника победа останется за Парижской династией.
Когда подходишь к 1001 году и осознаешь, что половина истории столицы уже позади, когда начинаешь подсчитывать столетия и понимаешь, что между Цезарем и Гуго Капетом стоит столько же веков, сколько между этим последним и нами, как не удивиться и не задаться вопросами: «Да как же время могло пройти так быстро? Каким образом годы пролетели настолько незаметно, оставив так мало следов?»
А это потому, что царствовали Каролинги, и из-за них двух веков словно бы и не было. Годы их правления напоминают наши самые неудачные дни: когда, за что бы ни взялся, дело не клеится, когда прикладываешь силы явно не к тому. Дни, которые не оставляют по себе ни каких-либо творений, ни настоящих воспоминаний, а только сожаления.
IV. Главный город Капетингов

Ассамблея Адальберона[218]218
Адальберон – сын графа Готфрида Арденнского, аббат бенедиктинского монастыря Горце в Лотарингии, стал архиепископом Реймсским в 969 году, умер в 989-м. Был главным канцлером Франции и министром при Лотаре, Людовике V и Гуго Капете.
[Закрыть]
Пусть даже избрание Гуго Капета королем имело место не в Париже, города оно непосредственно касалось, поскольку возвращало ему роль столицы, утраченную после смерти Дагоберта. Давайте посмотрим, как все это происходило.
Оттон II отступал, и король Лотарь двинулся вдогонку. Нет, вовсе не для того, чтобы добить, напротив – чтобы заключить с ним союз. Объединиться против герцога Франции! Со стороны Лотаря это было больше чем неблагодарностью по отношению к своему первому вассалу, к человеку, который только что его спас.
Немного времени спустя Оттон II умер. Он умер скоропостижно, неожиданно для всех, в Риме, и в империи тотчас же началось ожесточенное соперничество между саксонцами и баварцами.
И Лотарь, единственным советником которого было собственное благородное сердце, немедленно бросил своих вчерашних союзников, саксонцев, и присоединился к Генриху Баварскому: вместе с ним сподручнее было обобрать нового Оттона, лишить его Лотарингии. В самом деле, зачем трехлетнему ребенку Лотарингия?
Иногда предательство отвечает нуждам большой политики, но оно не содержит в себе системы правления, и человек не может стать великим королем лишь потому, что он хорошо умеет предавать.
Случилось так, что архиепископом Реймса в это время был выходец из Лотарингии по имени Адальберон, обязанный своей удачей и своим богатством Оттону и сохранивший к нему глубокую привязанность.
Взяв Верден, Лотарь арестовал и заточил в темницу всю семью Адальберона. Но опять-таки – принуждение не есть залог победы, и то, в чем преуспел Карл Великий, вовсе не обязательно должно было удаться какому-то Лотарю.
Реймсский архиепископ был важной персоной, его положение в феодальной иерархии соответствовало положению герцога или графа. Кроме того, Адальберон был человеком образованным и одаренным живым умом и известностью своей в христианском мире был обязан школе, основанной им при кафедральном соборе, где служил, – в этой школе преподавали самые выдающиеся ученые. Слово Адальберона имело немалый вес, а ученики способствовали распространению его авторитета далеко за пределами Реймса. Лотарь пошел в атаку на сильного соперника.
Адальберон в ответ вступил в тайные переговоры с Гуго Капетом, после чего взялся за перо, и послания его странным образом напоминали аналогичные времен папы Захарии и Пипина Короткого: «Король Франции Лотарь – всего лишь обладатель титула, зато Гуго Капет – хотя и без титула, но король…»
Лотарь почуял неладное, заподозрил заговор и вызвал архиепископа в Компьень, чтобы тот предстал перед церковной ассамблеей. Однако стоило ассамблее собраться, как в городе появился Гуго Капет со своими войсками и разогнал ее. Это случилось в мае 985 года.
Что оставалось Лотарю? Он притворился, будто не заинтересован в продолжении процесса, а дальше – у него только и хватило времени на то, чтобы умереть, не оставив по себе никаких сожалений. Это случилось в марте 986 года.
Престол оказался свободен? Вовсе нет: Лотарь позаботился о том, чтобы еще при жизни короновать своего сына Людовика и посадить его рядом с собой на трон. И Людовик V,[219]219
Людовик V (Louis V le Faineant; 967–987) – король Франции в 986–987 годах. Сразу же после восшествия на престол Людовик вступил в конфронтацию с могущественным архиепископом Адальбероном, пользовавшимся поддержкой Гуго Капета и императора Оттона, но, пробыв на троне чуть более года, неожиданно умер. По одной версии, он упал на охоте и от полученного сотрясения у него начался жар; по другой – был отравлен собственной матерью. В истории этот король сохранился под именем Людовика Ленивого, что вполне соответствует эпитету, данному ему в летописях: «nihil fecit», но эти слова можно понять и так, что он «ничего не успел сделать», поскольку правление его было очень кратким.
[Закрыть] дабы не прерывалась связь поколений, едва похоронив отца, начал осаду Реймса. Адальберон заявил во всеуслышание, что городу совершенно не пристало страдать из-за обвинений, выдвинутых в адрес его прелата и к тому же требующих доказательств. И тут же предложил королю собрать какую его душе угодно ассамблею или какой ему вздумается трибунал, перед которым епископ произнесет речь в свое оправдание и докажет, что наветы не имеют под собой почвы. Вся Франция встала на дыбы, Людовик понял, что придется уступить общественному мнению, снял осаду и снова созвал ассамблею в том же Компьене. Это случилось в мае 987 года.
Вот и вся история противостояния Адальберона с Людовиком V Ленивым: как раз в тот день, когда должна была начаться ассамблея, король во время охоты в лесу споткнулся и упал, да так неудачно, что падение стоило ему жизни. Божий промысел в виде то ли ветки дерева, то ли кабаньего рыла весьма своевременно встал на сторону Капета и Адальберона – а может быть, это они чуть-чуть помогли Провидению? Все Каролинги любили помериться силой с дикими животными: Пипин Короткий выходил как гладиатор на арену; Карл Великий, наставив на кабана рогатину, был ранен; Людовик Заморский пострадал от страсти к охоте, заполучив в результате несчастного случая слоновью болезнь, от которой и скончался… Самый естественный и самый правдоподобный способ уйти из жизни для этого рода.
Гуго Капет сразу же возглавил ассамблею. Адальберон – все немедленно забыли, что он явился сюда в качестве обвиняемого, – открыл собрание, но, так как ассамблея оказалась слишком малочисленной, тут же ее и распустил, предложив каждому из участников дать клятву ничего не предпринимать для избрания нового короля до следующего собрания. И первым поклялся в этом тому, кого назвал «великим герцогом», – конечно же, Гуго Капету. Продолжить заседание в увеличенном составе – должна была прибыть вся французская знать – решено было в конце месяца, только не в Компьене, а в Санлисе – на землях Капета.
Избирательную кампанию провели стремительно, но четко. У Каролингов оставался один-единственный представитель, чье имя могло бы быть названо среди имен претендентов на престол: Карл Лотарингский,[220]220
Наследник Каролингов – Карл Лотарингский совершал попытки занять престол, пока в 991 году не был схвачен. Позже Карл скончался в Орлеане, и таким образом последнее препятствие было устранено.
[Закрыть] дядя Людовика V. Вот только мало кто среди французских сеньоров Карла поддерживал…

Монограмма Гуго Капета, основателя династии Капетингов
Верховенствовал на ассамблее в Санлисе все тот же Адальберон. Сохранилась его речь, которая проложила путь на престол монархам династии Капетингов. Этот интеллектуал отличался еще к тому же и незаурядным ораторским даром – с его речи началась новая эпоха, вошел в обиход иной стиль.
Взывая к национальной гордости, реймсский архиепископ для начала постарался очернить претендента из рода Каролингов. «Мы знаем, что у Карла есть свои сторонники, которые утверждают, будто именно он должен занять трон, доставшийся ему от предков, – говорил Адальберон. – Но если рассмотреть это дело пристально, то Карл по праву наследования не имеет права на престол. <…> Какими достоинствами обладает Карл, чуждый всякой чести, Карл, чье бездействие раздражает, Карл, потерявший голову настолько, что посмел служить чужому королю и жениться на неровне, женщине из сословия вассалов? <…> Поразмыслите основательно над этим и поймите, что Карл оказался в удалении скорее по своей вине, чем по вине других…»
А что было сказано им про Гуго? «Решите, чего бы вам больше хотелось для государства: блага или несчастья. Если вы настроены на процветание королевства, коронуйте Гуго, славного герцога. <…> Изберите главой герцога, славного своими деяниями, своей знатностью и военной мощью, герцога, в котором вы найдете защитника не только государства, но также и ваших личных интересов. Благодаря его благосклонности вы найдете в нем отца. Кто когда-нибудь просил у него помощи и не получил покровительства? Кто, оставленный заботой близких, не добивался при его содействии своего?»
«Престол, – сказал еще Адальберон, – получают вовсе не по праву наследования. Во главе королевства должен оказаться тот, кто славится не только знатностью происхождения, но и мудростью, тот, чья честь достойна уважения и на чье благородство можно положиться».[221]221
Речь Адальберона привел в своем обширном труде, озаглавленном «Historiarum libri IIII», монах из монастыря Святого Ремигия Рихер (лат. Richerus, другие варианты: Рихерий, Ришер и Рикер). Это сочинение охватывало период с 888 по 962 год, уже освещенный в трудах Флодоарда, которыми воспользовался Рихер, и почти всю вторую половину X века, особенно плохо отраженную в источниках. Автор его был, без сомнения, человеком хорошо образованным, жил в Реймсе, так что мог быть в курсе многих важных событий, был знаком с Гербертом из Орийяка, ученым-энциклопедистом и будущим папой Сильвестром II (999–1003), и включил в свой труд краткую биографию последнего и рассказ о преподавательской деятельности Герберта в Реймсе – настоящий подарок для ученых.
[Закрыть]
Гуго Капет был избран 1 июня 987 года. Париж проводил в Санлис герцога, а встретил короля.
А коронация состоялась месяцем позже в Реймсе: в торжественной обстановке новый правитель получил из рук архиепископа корону – ведь именно архиепископу он был обязан этой короной. Отныне собор в Реймсе станет местом коронаций – вовсе не из-за святого Ремигия, не из-за крещения Хлодвига, а в память о коронации Капета.
Дворец РобертаДевять лет царствования Гуго Капета были девятью годами трудного правления.
– Кто тебя сделал графом?
– А кто тебя сделал королем?
Пусть даже этот обмен репликами между Гуго и Альдебертом Перигорским был придуман летописцем, он тем не менее очень хорошо иллюстрирует и подытоживает проблемы, которые стояли перед властью в начале династии. Нет никаких сомнений в том, что феодалы, оказавшие монарху поддержку на выборах, обращались к нему именно таким тоном. И ничего тут не было удивительного: наибольшие затруднения причиняли новому режиму обычно те люди, которые помогли его основанию, а потом неизменно считали, что их недостаточно внимательно слушают и не воздают им по заслугам.
В 996 году Гуго Капет умер, и корона перешла к его сыну Роберту.[222]222
Роберт II Благочестивый (971–1031) – король Франции (996–1031), поэт и композитор – лучшим его произведением считается «Veni, sancte spiritus». Полученный им королевский домен был невелик, и все свое правление Роберт пытался его расширить.
[Закрыть]
У Франции не было своего Шекспира, иначе бы она лучше знала странного персонажа со странной судьбой, которого судьба сделала вторым Капетингом. История знает немало правителей, которые заслуживали прозвища Благочестивый, знает довольно много таких, кого подвергали анафеме, но только этот один был одновременно и Благочестивым, и отлученным от церкви.
Роберт и физически отличался от обычных людей, и парижане замечали это, когда он проезжал верхом по улицам города: ступни его были настолько гибкими, что большие пальцы, обогнув стремя, едва не достигали каблука. И он был особенным человеком не только в этом плане.
Теолог, музыкант, мистик – он еще и пел в церкви лучше всех, и, по имеющимся сведениям, сам сочинил несколько псалмов. Знатные сеньоры должны были присягать ему на ковчежце – он изготовил великолепный золотой ковчежец, вот только тот оставался пустым, потому что король не хотел рисковать: а вдруг случится клятвопреступление? Зачем же допускать профанацию святых мощей! Разве из этого не ясно, насколько мало король, до такого додумавшийся, доверял своим вассалам? Можно вспомнить, что, кроме золотой, была у него еще и серебряная рака, в которой лежало яйцо дрозда, – для присяги крестьян и подданных скромного происхождения…
Он щедро раздавал милостыню, а в дни праздников приглашал к столу бедняков и делал им подарки. Но иногда его реакции были весьма неожиданными: однажды слепой приблизился к Роберту в то время, когда он омывал руки перед пасхальной трапезой, и король выплеснул бедняге в лицо всю воду из сосуда. Но… Скорее всего, этот человек не видел, потому что глаза его были покрыты корками, а когда король смыл эти корки – слепой тотчас же прозрел, и народ закричал о чуде. С тех пор, стоило королю где-то появиться, его так и осаждали больные, калеки и просто любопытные.

Королевский дворец на острове Сите (ныне Дворец правосудия)
Похоже, основу характера Роберта II Благочестивого составляли именно такие странности – они отразились и во всех его политических деяниях, и в частной жизни. Несомненно, он был великим утопистом – иначе не предложил бы императору Генриху II[223]223
Генрих II Святой (Heinrich II der Heilige; 973–1024) – император Священной Римской империи, последний в Саксонской династии, сын герцога Баварии Генриха II Строптивого и правнук германского короля Генриха I Птицелова.
[Закрыть] проект всеобщего мира и не поддерживал бы со времен собора в Эльне идею установления мира Божьего среди христиан, – и в то же время он был предтечей инквизиции. Роберт внезапно решил преследовать ересь и гордился тем, что сжег живьем в Орлеане четырнадцать человек – «из лучших клириков и лучших мирян города».[224]224
В 1022 году в Орлеане вспыхнул громадный скандал: была обнаружена секта, проповедующая бунт против церкви, отказ от догматов, уничтожение богослужения и святых икон и отрицающая воскресение Христа. Членами секты оказались многие священники, каноники, профессора университетов и… духовник королевы. Король Роберт Благочестивый приговорил 14 главных еретиков к сожжению на костре. Они сгорели, не отказавшись от своих убеждений. Это было первое аутодафе в истории Римской церкви (Rops D. L’Eglise des temps barbares. Paris, 1950. P. 647–652).
[Закрыть]
Этот благочестивый король развелся с первой женой – Розалией (Сусанной) Итальянской и женился по любви на своей кузине Берте Бургундской, вдове графа де Блуа.
И наконец, этот фанатичный служитель церкви ни на минуту не утрачивал своего королевского достоинства, вовсе не желал умалять свою власть, а, наоборот, хотел закрепить за собой право назначать священнослужителей в епархиях по своему выбору, что и лежало в основе его конфликта с Римом. И тут папа, терпевший куда более тяжкие грехи в капитулах соборов и монастырей, не выдержал. Сославшись на то, что брак между королем Робертом и королевой Бертой – это брак между близкими родственниками, отлучил виновника от церкви,[225]225
Когда папа Григорий V объявил королевский брак недействительным вследствие родства супругов и наложил на короля семилетнее покаяние, Роберт, обыкновенно рабски подчинявшийся церкви, отказался повиноваться. Папа отлучил короля от церкви, и тот, покинутый всеми приближенными, был вынужден подчиниться папскому решению, развелся с Бертой и женился на Констанции, дочери графа Тулузского. Ср.: Pfister. Etudes sur le régne de Robert le Pieux. Paris, 1885.
[Закрыть] на королевство был наложен интердикт.[226]226
Интердикт (от лат. interdictum – запрещение) – одна из форм церковного воздействия и наказания в католицизме, заключающаяся во временном запрете папой (иногда епископом) совершать богослужение и религиозные обряды (без отлучения от церкви) в пределах той или иной территории (интердикт локальный); иногда налагался на определенных лиц (интердикт персональный). Широко применялся в XI–XII веках (с XIII века реже). Интердикт являлся мощным средством давления на государей и феодалов, использовался для борьбы с ересями. В Новое время потерял прежнее значение, хотя и поныне сохранился в каноническом праве.
[Закрыть]
По легенде, короля покинули не только приближенные к нему лица, но все его подданные – бежали от него, словно от зачумленного. Все его благодеяния, все псалмы и даже совершенное им чудо в одночасье стали не в счет. Только где-то в недрах дворца в Сите, как скажет летопись, «у него осталось двое хилых слуг, которые обеспечивали пропитание, но даже и они смотрели на посуду, из которой ел и пил император, как на что-то омерзительное и тотчас после королевской трапезы бросали объедки в огонь».
Милая картинка, которая запечатлелась в нашем воображении с детства, вместе с картинами великого ужаса накануне 1000 года от Рождества Христова, когда народ, набиваясь в церкви, ожидал увидеть там, как под трубы Страшного суда разверзнутся своды… Во всем этом, как часто случается со свидетельствами летописцев, есть, разумеется, зерно истины, но оно почти затеряно в большом мешке со всякими баснями.
Тысячный год прошел, как и все остальные, небеса безмолвствовали.
И король Франции остался королем.
Пять лет Роберт сопротивлялся давлению со стороны папы, потом наконец уступил. Расставшись с королевой, которую он любил, король женился на Констанции Арльской из Прованса. Да, конечно, она не состояла с ним ни в каком родстве, зато характер у нее был хуже не придумаешь. Теперь день за днем Роберту приходилось переносить ярость и бесконечные упреки, королевский двор наводнили сиятельные господа из Средиземноморья, чьим главным достоинством оказалась склонность к интригам, воровству и разврату. Ох как сильно выиграла от этого нравственность – невооруженным глазом видно!
Среди прочих реконструкций, осуществленных при Роберте, – таких как восстановление монастырей Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жермен-л’Оссеруа, лежавших в развалинах со времен нашествий норманнов, Париж обязан Роберту Благочестивому полной перестройкой королевского дворца в Сите.[227]227
Здание нынешнего Дворца правосудия на набережной Орфевр (Quai des Orfèvres).
[Закрыть]
Может быть, король надеялся, что новое убранство дворца поможет изгнать печальные воспоминания об отлучении, может быть, рассчитывал, что великолепие жилища восстановит его на время пошатнувшийся авторитет, а может быть, дворец попросту малость обветшал?
Это здание, опиравшееся на фундамент, несколько веков назад заложенный римлянами, служило Меровингам, Каролинги презрели его, а графы Парижские – затем герцоги Франции – затем короли Франции сделали дворец своей резиденцией и отсюда правили государством. Предыдущие короли, в эпоху битв и неуверенности, поддерживали дворец в таком состоянии, чтобы он отвечал лишь их сиюминутным нуждам, и только Роберт, перестраивая здание, пожелал, чтобы дворец сразу бросался в глаза красотой и пышностью, чтобы он превратился в palatium insigne.[228]228
Необычайный, заметный, выделяющийся дворец (лат.).
[Закрыть]
Династия Капетингов, едва начавшись, приступила к перестройке Парижа.
И как же он стал на самом деле прекрасен, дворец Роберта Благочестивого! Этот дворец послужит резиденцией семнадцати королям – с 1000 года до середины XV века. Его расширяли и перестраивали, к нему пристраивали башни и новые здания, одни короли его ухудшали, другие улучшали, от Людовика IX он получил Сент-Шапель,[229]229
Святая часовня (La Sainte Chapelle), построенная в середине XIII века, была предназначена Людовиком Святым для хранения купленных им у константинопольского императора святых реликвий. Один из самых великолепных памятников парижской архитектуры, особенно прекрасны витражи.
[Закрыть] от Филиппа Красивого – Торговую галерею,[230]230
La Galerie Marchande (фр.).
[Закрыть] от Карла V – Часовую башню…[231]231
L’Horloge – прямоугольная угловая башня, выходящая на набережную возле моста Менял, носит название Часовой башни. Название Часовой она получила после того, как в 1334 году на ней были установлены первые в Париже городские часы. В XVI веке они были переделаны и украшены скульптурными работами Жермена Пилона. Часы эти много раз останавливались, их много раз чинили, сейчас они не ходят – просто украшают город.
[Закрыть]
А когда после выхода из Столетней войны Карл VII решил обосноваться в Лувре, он даровал дворцу в Сите одну из главных в королевстве функций, ему была отдана одна из основных ветвей власти: здесь стали творить Правосудие. И до сих пор это так.[232]232
Здание королевского дворца в Сите часто называют коротко – Консьержери, хотя собственно замок Консьержери, находящийся в северном крыле Дворца правосудия, представляет собой лишь часть королевского дворца эпохи Капетингов. Название связано с тем, что в начале XV века канцлер Франции был назначен на должность консьержа, то есть привратника королевского жилища.
От средневековой эпохи в замке сохранились зал ратников, зал вооруженной охраны, кухонные службы, внутренний двор и другие помещения.
В период Великой французской революции замок Консьержери был превращен в государственную тюрьму. Здесь находились в заточении королева Мария-Антуанетта, поэт Андре Шенье, Шарлотта Корде, убившая Марата, жирондисты, Дантон, Сен-Жюст, Робеспьер и др.
[Закрыть]
Большой колокол Часовой башни, звонивший лишь для того, чтобы известить о рождении или смерти очередного короля, начнет раскачиваться в Варфоломеевскую ночь, вторя набату Сен-Жермен-л’Оссеруа,[233]233
Варфоломеевская ночь – массовое убийство гугенотов, начавшееся в Париже в ночь на 24 августа 1572 года, праздник святого Варфоломея. Резня началась по набату между двумя и четырьмя часами ночи, и за эту ночь и в последующие дни только в Париже было убито от 3000 до 10 000 человек. Но после Парижа волна убийств прокатилась по провинциям – здесь точное количество убитых неизвестно, оценки сильно разнятся, но нередко упоминается 50 000 человек, около 200 000 гугенотов бежали в соседние государства. 28 августа, спустя четыре дня после страшной трагедии, духовенство, гордясь своими подвигами, торжественно отпраздновало кровавую победу; Карл IX и его двор не постыдились принять участие в благодарственных молебствиях и прочих религиозных фарсах. Массовое избиение гугенотов, последовавшее сразу за восшествием на престол папы Григория XIII, почти совпало с церемонией коронования нового папы. Римский двор встретил сообщение о резне с неописуемым восторгом. В замке Святого ангела гремели пушечные салюты. Его святейшество распорядился устроить народные празднества в ознаменование счастливого исхода Варфоломеевской ночи, а затем в окружении кардиналов торжественно проследовал в три римских храма, чтобы вознести благодарность за радостную весть. Мало того, папа Григорий отправил своего легата поздравить короля со столь великим событием, и легат провозгласил, что «День св. Варфоломея будет предметом похвалы для всех веков», мало того, папа приказал отчеканить памятную медаль и заказал известному итальянскому художнику Вазари картину, изображающую избиение еретиков, с одобрительной надписью. Картина эта и теперь еще красуется в Сикстинской капелле.
[Закрыть] парижский парламент, воплощавший в этом же дворце преемственность власти, во время религиозных войн не позволит папству подбирать своих кандидатов на пустующий королевский престол. Советники парламента из недр своей крепости закона не раз пойдут на прямое сопротивление самому королю, отказываясь утверждать его решения.
Вспыхнувший в XVII веке пожар, уничтоживший бо́льшую часть сделанного при Филиппе Красивом, в том числе прекрасные мраморные статуи правителей и знаменитый мраморный стол,[234]234
La Table de Marbre (фр.). В XVI–XVIII веках во Франции Мраморным столом называли высшую инстанцию в делах, проходящих по лесному ведомству (дословно – вод и лесов: Eaux et Forêts). Название свое этот орган юрисдикции получил от огромного мраморного стола, стоявшего во Дворце правосудия в Париже – в том зале, где вершили свой суд коннетабль Франции, адмирал Франции и главный королевский лесничий. Стол этот погиб впоследствии при пожаре 1618 года. Читаем его описание у Дюма: «Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, слог которых мог бы возбудить аппетит у Гаргантюа, „подобного ломтя мрамора еще не видывал свет“».
[Закрыть] и другой пожар, в XVIII столетии, привели к необходимости частично реконструировать здание, но работы производились уже с учетом стиля того времени, в котором его реставрировали. В XIX веке дворцу окончательно придали тот вид, который нам знаком. По этому строению в композитном стиле можно изучить все периоды развития французской архитектуры.

Королевский дворец в Сите. Интерьер зала. XII в.

Печать Роберта Благочестивого
Истцы продолжают приносить сюда жалобы по поводу какого-то конфликта, адвокаты все так же выдвигают аргументы в защиту подсудимого, судьи по-прежнему выносят приговоры… Здесь расследуют преступления, как и во времена первых королей, а Кассационный суд заседает почти там же, где при Людовике Святом помещалась Судебная коллегия.
Кто спорит, в мире есть куда более красивые здания, более цельные, а главное – более гармоничные, но вряд ли можно найти такое же волнующее, как это: камни, из которых оно сложено, скреплены, связаны, соединены между собой человеческими судьбами, и когда ты идешь по нему, то с каждым пройденным метром углубляешься в саму историю.
А ведь построивший его король в последние годы жизни жаловался на то, что не может добиться справедливости для себя самого. Сыновья взбунтовались и принялись грабить и жечь его владения, по его же собственным словам, они вели себя по отношению к отцу как крупные феодалы.
Разочарование АнныЖалоба в такой форме была не случайна: истинным бедствием для новой династии стало наследство, полученное от прежней, – феодализм.
Редкий правящий класс обладал таким низким культурным уровнем, как этот – класс сеньоров, крупных и мелких землевладельцев, сидевших взаперти в своих унылых квадратных башнях и выбиравшихся оттуда только для того, чтобы заставить людей склониться перед ними, а животных – в ужасе разбежаться. Война, охота, адюльтер, а в качестве побочного занятия – грабежи и насилие: вот и все дела, которыми они занимались. Женщины в этом смысле были не лучше мужчин, они были столь же воинственны, так же увлекались охотой, так же легко шли на любое злодеяние, лишь бы утолить скотскую – иначе не назовешь – страсть… Словом, обольстительности у какой-нибудь владелицы замка в 1000 году было примерно столько же, сколько у солдата-наемника. А если одной из этих дам случалось полюбить изящные искусства, это пробуждало в ней (вспомним Обре д’Иври[235]235
В Нормандии (в Ivry-la-Bataille) и сегодня можно увидеть остатки каменной башни, возведенной примерно в 1000 году. Экскурсоводы рассказывают, что архитектору, построившему эту башню, по приказу Обре (Aubrée d’Ivry), жены владельца замка, графа Рауля д’Иври, отрубили голову, чтобы несчастный зодчий не мог построить подобного для кого-нибудь еще.
[Закрыть]) желание казнить архитектора, чтобы он не выстроил другим нечто похожее на то, что сделал для нее…
В деревнях практически не осталось свободных людей: сеньоры вынуждали тех, кто живет на их землях, признавать себя сервами, то есть рабами. Что же касается семей, которые поколениями жили в рабстве, то случалось, что при передаче наследства они оказывались собственностью нескольких владельцев, и детей из такой семьи делили, как скот или выводок домашней птицы…
Ни одно общество не было столь реакционным, как это, потому что право здесь было основано лишь на повторении предыдущих действий: «Наши отцы этим владели, им была дарована вот эта вот привилегия, им принадлежало на это исключительное право пользования…» – вот и весь разговор. Таков кодекс законов феодала. Разбой, совершенный дедом при въезде в свой домен, ограбление им путника, выкуп, который он потребовал с прохожего, при внуке становился дорожной пошлиной, которую он взимал постоянно. Никаких законов – одни обычаи, да и те сами по себе чаще всего были лишь повтором старых злоупотреблений.

Анна Киевская – королева Франции. XVII в. Собор Сен-Венсан в Санлисе
Церковь, владевшая огромным количеством земли, недвижимости и послушной рабочей скотины, благословляла этот общественный строй. Когда читаешь вот такие заявления, вышедшие из-под пера монаха, можно подумать, будто уже прекратили проповедовать Евангелие: «Всякая власть – от Бога, который дивным и высочайшим образом устроил так, чтобы на земле были цари, герцоги и другие люди, долженствующие приказывать другим. Богом положено, чтобы малые, и это логично, зависели от великих. Самому Господу угодно, чтобы между людей одни были сеньорами, а другие – сервами».
Этот текст приводит в замешательство, но вспомним, что многие из нас были современниками Гитлера, который, стремясь к иным целям, руководствовался теми же принципами.
Помимо всего прочего, владельцы поместий так хорошо ими управляли, что два года из трех там не было урожая, а стало быть – люди голодали. Единственным средством, которым могли воспользоваться сервы, были мятежи, бунты. Крестьянские восстания, подобные тому, которое позже назовут Жакерией,[236]236
Жакерия (Jacquerie) – восстание французских крестьян в XIV веке. Название произошло от бытовавшей среди аристократии презрительной клички крестьян Jacques Bonhomme – Жак-простак.
[Закрыть] начались приблизительно на рубеже тысячелетий. Первой песней свободы, прозвучавшей на французской земле, первой революционной песней была такая:
Нормандцам, которые ее пели, отрубали руки и ноги. Когда Анна Ярославна[238]238
Анна Ярославна (или Анна Киевская; 1025/1036–1075/1089) – третья из четырех дочерей Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, получила хорошее образование и уже в юности знала греческий язык и латынь. Судьба ее удивительна и романтична. В 1048 году в далекий Киев, где она жила вместе с отцом и сестрами, французский король Генрих I Капет направил пышное посольство. Послам было поручено получить согласие на брак одной из дочерей киевского властителя с Генрихом, ибо даже до Франции «дошла слава о прелестях принцессы, именно Анны, дочери Георгия (Ярослава)». Король велел передать, что «очарован рассказом о ее совершенствах». Согласие родителей на брак княжны с французским королем было получено, и 4 августа 1049 года Анна Ярославна, совершив длительное путешествие через Краков, Прагу и Регенсбург, прибыла в Париж, где и была обвенчана с Генрихом I. Молодая королева сразу же показала себя дальновидным и энергичным государственным деятелем. На французских документах той поры, наряду с подписями ее мужа, встречаются и славянские буквы: «Анна Регина» (королева Анна). Римский папа Николай II, удивленный замечательными политическими способностями Анны, написал ей в письме: «…дошло до нашего слуха, превосходнейшая дочь, что твоя светлость в богоугодной щедрости своей одаряет нуждающихся, проливает пот в пылу благочестивейшей молитвы, печется о трудностях жестоко угнетаемых и прочими благими деяниями по мере возможности исполняет возлагаемые на тебя королевским саном обязанности». (Перевод с лат. Елены Леменевой.) В 1060 году, после смерти мужа, Анна переселилась в провинциальный городок Санлис, в 40 км от Парижа. Здесь ею были основаны и женский монастырь, и костел (на портике последнего в XVII веке воздвигли лепное изображение русской княжны, держащей в руках модель основанного ею храма). Оставаясь главным воспитателем подрастающего сына и его руководителем в государственных делах, Анна тем не менее отказалась от регентства. Одной из причин отказа была страстная – и взаимная – любовь Анны к графу Раулю III из рода де Крепи и Валуа. В 1062 году, когда любившая охоту Анна отправилась в санлисский лес, граф похитил королеву – разумеется, с ее согласия, увез к себе в замок и вступил с нею в тайный брак. Супруга Рауля Алиенора Брабантская обратилась с жалобой на двоеженство графа к папе Александру II, тот приказал Раулю расторгнуть союз с Анной, но влюбленные этим пренебрегли. Они жили в согласии и счастье еще долгих 12 лет в родовом поместье Валуа…
В 1074 году Анна вновь овдовела. Потеряв Рауля, она пыталась забыться, окунувшись вновь в государственные дела: поселилась при дворе сына и опять стала подписывать указы и распоряжения. В них она называет себя уже не «королевой», а «матерью короля», но все-таки ее уверенная подпись не раз встречается на деловых бумагах французского двора рядом с крестами неграмотных королевских чиновников. Существует предание, что в конце жизни Анна Ярославна вернулась на родину и, прожив там несколько лет, умерла. Русские летописи об этом молчат. Вероятнее всего, Анна ездила в Киев, но остаток жизни провела во Франции, где она любила и была любима.
[Закрыть] в середине XI века приехала из Киева во Францию, чтобы стать женой Генриха I,[239]239
Генрих I (фр. Henri I; 1011–1060) – король Франции в 1031–1060 годах, сын короля Роберта II и Констанции Арльской. Отец объявил его герцогом Бургундским еще в 1015 году, а в 1027-м, после смерти старшего брата, – наследником престола. Когда Генрих I унаследовал королевство, он отдал Бургундию младшему брату, который стал родоначальником особого герцогского рода. Королевская власть во Франции была в то время слаба, но еще больше ослабела из-за интриг матери Генриха Констанции и политики нормандских герцогов, которым Генрих принужден был делать большие уступки, чтобы утвердиться на престоле. В 1051 году потерявший первую жену сорокалетний Генрих женился на Анне Ярославне (во Франции она известна как Анна Русская или Анна Киевская). От этого брака родилось четверо детей, в том числе и Филипп I (1052–1108), преемник Генриха на королевском престоле.
[Закрыть] унаследовавшего престол от Роберта Благочестивого, она писала отцу Ярославу Мудрому отчаянные письма. Жаловалась на то, что ее отправили в варварскую страну с мрачными жилищами, уродливыми церквами и чудовищными обычаями. Несмотря на то что русские как нация насчитывали к тому времени всего-навсего два века существования, Киев считал себя соперником Византии, почти равным ей. И вовсю копировал пышную византийскую архитектуру, ориентировался именно на византийские изящные искусства, помпезную роскошь, богатство и изобилие, великолепие церемоний.
Во время всего долгого путешествия княжна Анна тешила себя надеждами, что вот – она выходит замуж за короля Франции, Хлодвига и Карла Великого в одном лице, что едет в город Париж – вторую Византию, западную…
Как же горько она была разочарована, увидев почти сорокапятилетнего, преждевременно истощенного бесконечными кавалерийскими атаками жениха, который что-то невнятно лопотал на латыни, тогда как она предпочитала греческий, без зазрения совести извлекал выгоду из торговли церковными бенефициями[240]240
Бенефиций (от лат. beneficium – благодеяние) – в Средневековье: 1) земельное владение, передаваемое в пожизненное пользование на условии несения службы – придворной, административной, но главным образом – военной. Невыполнение условий держателем влекло за собой ликвидацию бенефиция, а в случае смерти получателя бенефиций возвращался собственнику или его наследникам и мог затем быть передан на основе нового соглашения. Появление бенефиция – одно из проявлений аграрного переворота, происшедшего во Франкском королевстве в VIII веке: аллоды, дарения в полную безусловную собственность, были заменены пожалованиями в пожизненное пользование. Бенефиций раздавали не только короли, но и крупные феодалы, и вскоре многие бенефициарии стали могущественнее королей; 2) доходная должность или земельный участок, получаемые духовными лицами в качестве вознаграждения. Подобная практика установилась с начала VI века.
[Закрыть] и всегда пребывал в неуверенности, вернется ли необворованным, если отъезжал от дворца дальше чем на три лье.
Ну а о чем мечтал, какие цели преследовал Генрих I, заключая этот первый франко-русский союз? Хотел ли он произвести впечатление на своих объединявшихся против него вассалов, показав им, какой важной персоной его считают на другом конце света? Или ему потребовалось так далеко идти, чтобы найти собеседников, у которых еще сохранились иллюзии насчет него?
Этот король Парижа, этот призрачный король, пославший в степную даль епископов Суассона и Мо: привезите мне, дескать, оттуда жену, – ведь он тот самый король, который позволил окружить себя в Фекане, тот самый, кто на протяжении всего своего правления пытался заставить признать его власть в Сансе, тот самый, кому только и удалось победить близ Вильнёв-Сен-Жорж!
Вот таковы были границы его державы, таково было его королевство на самом деле… Никогда Франция не была такой маленькой, как в его царствование, но никогда она не распространяла своих притязаний так далеко.
Далеко – потому что несколько капель византийской крови, смешавшейся в жилах Анны Киевской со шведской кровью ее предков по материнской линии, позволяли молодой королеве искренне верить в то, что она наследница по прямой Филиппа Македонского и Александра Великого, именно из-за этого она назвала своего старшего сына Филиппом. Шесть королей Франции обязаны русской княжне этим греческим именем.
Если бы Филипп I,[241]241
Филипп I (фр. Philippe I; 1052–1108) – король Франции с 1060 года. Поскольку корона перешла к Филиппу, когда ему было всего восемь лет, опекуном маленького короля был назначен Балдуин V, граф Фландрский, но тот умер, когда Филиппу едва сравнялось пятнадцать. Рано полюбивший распущенную придворную жизнь, лишенный талантов правителя, Филипп был спокойным свидетелем одного из наиболее крупных событий всего Средневековья – завоевания Англии его вассалом, герцогом Нормандии Вильгельмом, – и не сделал даже попытки воспользоваться этим обстоятельством. Несколько позднее он стал во главе войска, чтобы вмешаться во внутренние дела Фландрии, но, разбитый в 1071 году при Касселе, с тех пор уже не затевал крупных походов. Так же как и его дед, Роберт II, Филипп был отлучен от церкви, это произошло в 1094 году, и причиной также стал брак: король разошелся со своей первой женой Бертой Голландской и женился на Бертраде де Монфор, графине Анжуйской. Десять лет он прожил под интердиктом, в 1104 году раскаялся, обещал прекратить сношения с Бертрадой и был прощен, но продолжал жить с ней. Из-за отлучения он не мог принять участие в Первом крестовом походе.
[Закрыть] находившийся на престоле почти полвека – если точно, то сорок восемь лет, из которых тридцать восемь правил единолично, – был великим монархом, об этом как-нибудь да стало бы известно…
Зато нам известно, что король не обладал ни единой из сколько-нибудь заметных добродетелей, да и не очень заметными – тоже, напротив, кажется, Филипп был целиком соткан из мелких пороков. Он был прожорливый, жадный, продажный, циничный, вполне возможно – трусливый, заботился только о собственном комфорте и чувственных наслаждениях, его слову нельзя было верить. Когда ему не хватало денег, он брал их откуда придется, лишь бы добыча была легкая: опустошал сокровищницу Сен-Жермен-де-Пре, сдавал внаем вассалам королевскую армию – кто даст больше, тот и получит!
Отлученный от церкви за брак, связанный с двойным адюльтером, он даже и не подумал переживать это драматически, как его дед в аналогичных обстоятельствах, вполне равнодушно выслушал все анафемы, произнесенные в его адрес церковными соборами в Клермоне, Туре, Пуатье, самом Париже, а ведь они и назначались специально, чтобы осудить его. Правда, в конце концов он пообещал развестись со своей супругой, но это обещание ничего не стоило: еще десять лет они продолжали жить вместе как ни в чем не бывало.
Филипп I ухитрился не сделать ничего существенного за все время своего царствования, хотя в этот период происходили великие события.
Герцог Вильгельм Нормандский[242]242
Вильгельм I Завоеватель (Вильгельм Нормандский, или Вильгельм Незаконнорожденный, англ. William I the Conqueror, William the Bastard, фр. Guillaume le Conquérant, Guillaume le Bâtard; 1027/1028–1087) – герцог Нормандии (как Вильгельм II) с 1035 года и король Англии с 1066-го, один из крупнейших политических деятелей Европы XI века, незаконный, но единственный сын герцога Нормандии Роберта Великолепного, внучатый племянник жены английского короля. В 15 лет был посвящен в рыцари королем Франции Генрихом I. Для начала Вильгельм присоединил к своим владениям графство Мен (1062) и часть земель графа Анжуйского, затем, объявив себя наследником англосаксонского короля Эдуарда Исповедника, во главе войска нормандских, французских и итальянских феодалов высадился в 1066 году в Англии; разбил при Гастингсе (14 октября 1066) войско англосаксонского короля Гарольда и стал английским королем. Конфисковав земли англосаксонской знати, Вильгельм I в своей политике опирался на нормандских рыцарей, мелких и средних местных землевладельцев, перешедших на сторону завоевателей, и церковь. При нем была установлена прямая вассальная зависимость всех феодальных землевладельцев от короля, что способствовало укреплению королевской власти. Положение крестьян при Вильгельме I значительно ухудшилось. В 1086 году по его приказу была проведена земельная перепись (так называемая «Книга Страшного суда»), которая перевела многих свободных крестьян в разряд крепостных (вилланов)…
[Закрыть] отправился завоевывать Англию, и Филиппу было даже приятно, что беспокойный вассал теперь далеко. Конечно, ему стало не так приятно, когда этот самый бастард-завоеватель, основав за Ла-Маншем свое королевство, с оружием в руках появился на дороге, ведущей к Парижу, но тут королю повезло: Вильгельм был смертельно ранен во время захвата и разграбления Манта, и Нормандская кампания на этом остановилась.
Папа Урбан II объявил Первый крестовый поход, и Филипп вполне благосклонно смотрел на то, как Петр Пустынник[243]243
Петр Амьенский (лат. Ambianensis), он же Петр Пустынник, или Отшельник (Heremita; ок. 1050–1115), – аскет, которому приписывалась организация Первого крестового похода. Петр сначала был военным, потом удалился от света и стал монахом-пустынником. В то время католический мир был одержим идеей Крестовых походов, наиболее активно продвигал эту идею папа римский, но, по преданиям, во главе Крестового похода стоял именно Петр, своим воодушевлением увлекший даже папу. Небольшого роста, с жалкой наружностью, он таил в себе великую доблесть, был ума «быстрого и проницательного, говорил приятно и свободно». Уверенность в успехе Крестового похода возникла у «жалкого, бедного и лишенного всяких средств пилигрима» с помощью самого Христа Спасителя, который явился Петру во сне, ободрил его и предписал выйти в путь на Иерусалим – завоевать Гроб Господень, и вот после этого, если верить легендам, Петр обратился с призывом к папе Урбану II, а тот смиренно и радостно выслушал воззвание, благословил Петра на проповедь и обещал свое ревностное содействие. Во всех странах, где Петр проповедовал необходимость Крестового похода, народ окружал его толпами, приносил ему дары и прославлял его святость. Собрав многочисленную армию, Петр решил направить свой путь через землю венгров. Тогда поднялись все земли и все князья и рыцари во всей Франции на освобождение Гроба Господня. По этому преданию, Петр сделал уже половину дела, когда в 1095 году с призывом к походу прибыл в Клермон папа Урбан. Между тем современники в массе своей Петра не знали, организации Крестовых походов ему не приписывали и не говорили о нем как о посланнике Божьем. На севере Франции Петр известен был лишь как один из многих народных проповедников; фанатик-аскет, собравший ополчение из крестьян, нищих, крепостных, бродяг, и судьба этого ополчения, во главе которого стояли Петр и Готье Нищий, была плачевна, потому что битвы в Венгрии и Болгарии, общая беспорядочность лишили вождей влияния на массы, а венгры и болгары уничтожали крестоносцев тысячами. После переправы в Азию Петр покинул ополчение, которое вскоре было истреблено турками, и присоединился к армии Готфрида Бульонского. Когда крестоносцы в 1098 году были осаждены в Антиохии эмиром Кербогой, настал такой голод, что многие бежали толпами, другие спускались на веревках со стен и уходили в леса. В числе таких «веревочных беглецов» был и Петр, но ему не удалось бежать – его поймали. Имя Петра упоминается во время переговоров под Антиохией. После взятия в 1099 году Иерусалима крестоносцами Петр вернулся на родину, прибыл в Пикардию и основал там августинский монастырь, настоятелем которого и умер 16 лет спустя.
[Закрыть] ведет через Германию, Венгрию и Болгарию несчетные орды нищих – голодных, зараженных его фанатизмом крестьян и искателей приключений. Народное ополчение Первого крестового похода, участники которого по пути грабили Европу, постоянно уменьшалось в численности из-за болезней и истощенности долгой дорогой, а избежавшие гибели были разбиты при первой же встрече с турками.

Печать с изображением Филиппа I – сына Генриха I и Анны Киевской
Еще более благосклонно смотрел Филипп на «официальный» Крестовый поход – дворянский. Эта армия, в которой числилось сто тысяч всадников, то есть в целом насчитывалось не меньше миллиона одержимых страстными и честолюбивыми стремлениями человек, двигалась разными дорогами посуху и по морю к Константинополю и Малой Азии. В то время как крестоносцы переживали приключение, о каком мы и сейчас не прочь помечтать, в то время как они, несмотря на сокрушительные потери, зной, жажду, чуму, массовое дезертирство, соперничество между военачальниками, добирались и добрались-таки до Антиохии и после восьмимесячной осады взяли ее и основали в Иерусалиме королевство для Готфрида Бульонского,[244]244
Готфрид Бульонский (Godefroi de Bouillon; ок. 1060–1100) – герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей Первого крестового похода на Восток (1096–1099), после взятия Иерусалима был провозглашен правителем Иерусалимского королевства, но отказался короноваться в городе, где Христа увенчали терновым венцом, и вместо королевского принял титул Защитника Гроба Господня (лат. Advocatus Sancti Sepulchri). Погиб, по одним сведениям, при осаде Акры (Акки), по другим – от холеры.
[Закрыть] Филипп… А что Филипп? Он удовольствовался тем, что заполучил Монфор-л’Амори и как следует пощипал Септей и Удан.[245]245
Небольшие городки километрах в 60 к северу от Парижа.
[Закрыть] Самые смелые замыслы влекли его к Валуа или Солони, больше всего неприятностей доставил ему донжон Монлери, логово мелких сеньоров-грабителей, загородивших ему путь из Парижа в Орлеан.
Незадолго до смерти Филиппу все-таки удалось взять эту крепость, и это оказалось самое оглушительное его достижение за всю жизнь. «Береги сию башню, – писал он сыну Людовику. – Из-за нее я состарился раньше времени. Злоба и вероломство тех, кто ее населял, не давали мне и минуты передышки!»
Один из обязательных признаков великих установлений – то, что они могут функционировать даже при незначительных личностях. Если монархия Капетингов смогла пережить таких королей, как Генрих и Филипп I, значит она была достаточно прочна.
Монархов били, их имущество грабили, но никто уже не оспаривал законности династии.