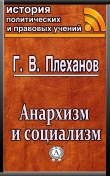Текст книги "О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 2"
Автор книги: Моисей Рубинштейн
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Конечно, даже и диалектическое знание, оставаясь все-таки абстрактным, не может вполне приблизиться к адекватному воспроизведению конкретных черт всего качественного многообразия осуществления абсолюта. В этом источник иррациональности, «ограниченной постижимости» жизни абсолюта. Но ядро познаваемо для нас именно потому, что действительность есть реализация единой жизни, в которой нет места разрозненности, поэтому достаточно прийти в соприкосновение с этим единым в одном пункте, чтобы познать основную суть его.
Итак, единое рождает из себя многое, не утрачивая своего единства. Но тут мы встречаемся с вопросом, почему существа и вещи этого мира раздельны и как бы подчеркивают на каждом шагу свою «самость», свою независимость друг от друга? В своем ответе на этот вопрос Л. М. дает изложение, в котором, несомненно, в смысле выполнения и средств витает тень великого Гегеля. Произвольность абсолюта и его «нужды», за которые Гегель подвергся исторически такому несправедливому порицанию, выступают во всей силе и здесь. Нет только педантизма тезиса, антитезиса и синтеза, но противопоставление, гегелевское «Gegensatz» фигурирует и тут и вызывает целый мир. «В самом деле, – говорит Л. М. [133] , – как мыслить, что абсолютное утверждает себя как единую мощь многообразных актов? Это можно понять только так, что оно себя как субъект противополагает тому, что составляет его объективацию… Но противопоставление очевидно подразумевает внесение некоторой положительной мощи в то, что противопоставляется; многое, чтобы идеально присутствовать в едином, должно актуально противостоять ему, и каждая из частных форм многого, чтобы сохранять свою индивидуальную природу, должна утверждаться в своих особенностях».
Но чтобы в этом многом были возможны существа, они должны обрести известную самостоятельность, самостоятельность двигателя. Этому помогает различение в степени интенсивности силы. Смотря по тому, обладает ли это многое бытием «для себя» или «для другого» и т. д. – тут невольно вспоминается «аn sich» и «für sich» Гегеля – оно наделяется соответствующей самостоятельностью. Интенсивность обособляющей силы проистекает из того же единого источника всего, утверждающего множественность конечных форм: самораскрытие абсолютного, единой основы ведет не только к возникновению множества, но та же внутренняя сущность самораскрытия абсолюта ведет к обособлению и к известной самостоятельности существ. Таким образом становится мыслимым происхождение конечных существ из абсолютной субстанции. А так как самодеятельность абсолюта безгранична, то мы не можем поставить границ его интенсивности, и дальнейшее разнообразие существ оказывается поэтому невыводимым. Но то, что с точки зрения конечных существ происходит , для абсолютного от века есть как идея всего, чему этот абсолют дал бытие со всеми его силами и свойствами. Это значит, что единство и самодовление сущего, первоосновы остаются ненарушенными. При этом, так как в данном случае нет предшествования единого многому, мы вправе говорить здесь только о творческой причинности, и при том в абсолютном смысле.
Признавая за конечными существами некоторую долю «самости», самостоятельности «двигателей», а не только действий, Л. М., конечно, не мог уже затрудниться проблемой свободы. Мы на этом вопросе останавливаться в этом коротеньком очерке не можем. Само собой разумеется, что свобода воли находит в Л. М. горячего защитника на почве метафизики, так как «разгадка бытия в свободном самоопределении, в живом осуществлении абсолютной творческой мощи» [134] .
Мы все время пользовались понятием силы, затем это понятие заменяется субстанцией, которую далее у Л. М. уравновешивает понятие абсолюта, сущего, кульминирующего в понятии Бога. Эта эволюция понятия силы мотивирована у Л. М. тем, что он рассматривает силу как внутреннюю суть субстанции. Но существование силы немыслимо без актов, так как сила, не проявляющаяся как сила, не может существовать, поэтому понятие субстанции и реальной силы совпадают. «Субстанция – это конкретная сила в живой полноте ее внутренних моментов, как деятельная основа собственных проявлений» [135] . Тот же актуализм выражен в не оставляющей никаких сомнений форме в 12-м из тезисов, приложенных ко второму тому «Положительных задач философии»: «По коренному устройству разума идея о бытии не должна содержать ничего другого, кроме мысли о действовании в его наиболее общем значении. Все, что существует, есть или деятельная, себя полагающая сила (субстанция), или явление силы (отдельный акт), или способ действия силы (свойство) » . И нет сомнения, что на метафизическом пути такое решение вопроса о сущем является наиболее целесообразным, потому что мертвым бытием объяснить ничего нельзя. Субстанция и у Л. М., как этого требовал Гегель, есть единый субъект всего многообразия качеств и состояний. У нее те же признаки, старые, выкованные традицией и наиболее ярко формулированные Лейбницем: внутреннее единство, простота и постоянное пребывание. И Л. М. сам говорит о лейбницевском определении субстанции, что его «можно считать изящным и точным выражением того, что аналитически заключается в самой коренной его сути. Субстанция есть источник своих действий или, отбрасывая метафору, живая мощь их» [136] .
И все-таки, в конце концов, за понятием силы – полного активизма – вырисовывается традиционный образ субстанции как « носителя » силы. Это ясно проявляется уже в том, что, указав на соотносительность понятий действования и субстанции, Л. М. энергично подчеркивает, что мы неизбежно должны признать известный субстрат как основу, потому что безсубстратное действие есть продукт отвлеченного мышления, точно так же как и бездейственный субстрат. Наличность такого «носителя» у Л. М. подтверждается и его концепцией времени, как мы это увидим дальше. Да и защищаемый автором теизм, в сущности, указывает нам в ту же сторону. В этом введении субстрата Л. М. возвращается по меньшей мере к докантовской философии, а то и дальше. При этом нельзя не отметить как очень симпатичную черту этой теории, что субстанция эта живет как деятельная сила во внутренней целостности ее конкретного бытия. Как абсолютная сила и начало всего, сущее есть Бог. Этот вывод, к сожалению, у Л. М., на наш взгляд, не мотивирован, хотя переход этот представляет уже переход от просто абсолютного к абсолютно ценному сущему. Что в этом понятии Бога перед нами уже не простая субстанция, это обнаруживается ясно в дальнейшем изложении.
Подымаясь по лестнице рациональной онтологии, Л. М. подходит как к первооснове к воле , воскрешая этим основной мотив немецкого идеализма. Фихте, Шеллинг, отчасти и Гегель, Шопенгауэр, Лотце, Гартман, Вундт – все они в той или иной мере жили этой идеей, и большинство из них оказало, как это видно особенно из второго тома «Положительных задач философии», огромное влияние на Л. М. Что и Л. М. видит в воле первооснову, это является, с его точки зрения, вполне последовательным выводом. Ведь источником, открывающим нам путь к знанию умозрительных истин, является наше я, именно наши непосредственные внутренние переживания, непосредственное чувство собственной самодеятельности знакомит нас с внутренней силой самоопределения – с тем, что мы называем волей. Такое внутреннее самоопределение принадлежит в абсолютной форме сущему, и таким образом мы с полным правом перенесем ее как на Творца, так и на все сотворенное им. Мы все подчиняем категории силы, а последняя в законченной форме есть воля; таким образом воля должна дать заключительный ответ о действительности. Ею обладают по Л. М. не только люди, но и животные, органический и неорганический мир, вообще «все, что имеет бытие, представляет раскрытие и осуществление Божественной воли» – не слепой и неразумной, как, например, у Шопенгауэра, а осмысленной и разумной, даже абсолютно разумной, потому что это воля Бога. «Вот почему в отношении к миру абсолютное есть живой (т. е. всецело проникнутый волей) творческий разум », говорит Л. М. [137] , присоединяясь к основному мотиву Фихте и Гегеля, утверждавших идею разумной и нравственной пригодности мира. Этим у Л. М. кладется завершающий камень: основа, истинная сущность всего – дух .
Л. М. метафизический оптимист. Оптимизм присущ ему если не больше, то во всяком случае не меньше, чем Гегелю и Лейбницу. Оставаясь верным этой традиции, продолжавшей жить в различных вариациях в XIX веке, в особенности в немецком идеализме, Л. М. приходит на основе признания разумности изначальной мировой воли и свободы абсолютного творчества к утверждению, что этот мир – лучший из миров. Как создание разумной воли мир являет осуществление закона добра, причем этот закон у Л. М. не сила, а правило , по которому мир творится и устраивается. Так как абсолютный корень всего, проявляясь, идет путем свободного полагания, то мы вправе говорить о творческом отношении между абсолютным и условным, и конечным. Таким образом, «свобода творчества есть последний ключ ко всем тайнам жизни… Эта истина, однажды понятая, нанесет решительный и неисправимый удар всякому пантеизму и заставит признать теизм за неизбежное предположение философии. Философское признание живого Бога вызывается потребностью дать живое объяснение тому, что само индивидуально и живо» [138]
Такова основа всего. А мир с его пространственно-временным характером, каков он? В каком отношении пространство и время – эти два абсолюта эмпирического сознания – стоят к абсолюту?
Пространство у Л. М. не только не субстанция, но его прежде всего приходится характеризовать как понятие чисто отрицательное, а это отнимает у него возможность быть principium individuationis . Л. М. как динамист или актуалист видит его в другом: наполнять пространство значит не пускать на свое место другое, т. е. протяженность, непроницаемость есть просто некоторого рода активность. Таким образом на протяженность вещей надо смотреть как на реальное, но относительное свойство действительности: протяженность вещей исчерпывается реальной соотносительностью образующих их субстанций. С тем же выводом мы встречаемся у Л. М. и в вопросе о времени. У времени еще меньше прав на самостоятельность и субстанциальность. «Действительность времени заключается в его нереальности». Так, если субстанции приписывается как основной признак реальное пребывание , то этим самым субстанция освобождается от власти времени, она сверхвременна; но сверхвременность не безвременность, и время является действительной формой совершающихся в субстанции процессов, обретая таким путем относительную реальность. Время есть по Л. М. форма деятельности каждой конечной субстанции и их отношений между собою, в то время как сущее, Бог сверхвременен, вечен. Итог анализа пространства и времени Л. М. формулирует так [139] : «Мир состоит из сверхпространственных и сверхвременных центров бытия, которые находятся в живом непрерывном взаимодействии; пространство и время только необходимые формы этой никогда не прекращающейся взаимной связи существ. Все внешнее коренится во внутреннем – всякая изменчивость вырастает на почве в себе единого и неизменного. В основе даже наиболее грубых и осязательных проявлений реальности лежат созидающие их идеальные духовные отношения. Все действительное духовно в своей сути» и разумно, добавим мы на основании предыдущего, а вместе с тем и свободно.
Высшую истину Л. М. видит в установлении всемирной духовности. И в этом царстве духа отведено соответствующее место личности, интересы которой так мощно говорят вообще в нашем философе. Личность – субстанция, это гарантируется в глазах Л. М., помимо общих оснований, реальным единством и тождеством нашего я. Конкретный спиритуализм – так характеризует Л. М. свое философское миросозерцание, проникнутое, как я уже указал, необыкновенно подкупающим оптимизмом. Для этого метафизического или онтологического оптимизма характерно до некоторой степени отождествление реальности и совершенства, и его мы встречаем и у Л. М. К сожалению, в общем очерке конкретного спиритуализма, которым он заканчивает свой труд «Положительные задачи философии», Л. М. ничего не говорит о проблеме зла и мировой дисгармонии, преграждающей путь всякому оптимизму. Правда, он ссылается на свободу воли и относительную самостоятельность личности как конечной субстанции, но нам этот ответ представляется недостаточным, если только еще не большим усложнением проблемы.
В заключении отметим коротко у Л. М. понимание задач метафизики вообще. «Метафизика, – говорит он в предисловии ко второму изданию первого тома «Положительных задач философии» [140] , – имеет своим содержанием необходимые истины разума, и только их». Само по себе это определение оказывается очень широким, потому что ведь и Кант, и его последователи настаивают в своем априори на необходимых истинах разума. Меж тем между ними фундаментальная разница, намечающаяся отношением обеих сторон к проблеме объяснения этого априори мира: одна сторона видит его в формах разума, другая пытается обосновать ими реальность вещей в себе и их познаваемость. Но в сущности, и это определение окрашивается в определенный цвет вполне согласующихся с дальнейшей формулировкой задач метафизики у Л. М. Он и тут идет последовательным путем. В самом деле. Широта этого определения, как будто позволяющая распространить его на критицизм, немедленно оказывается мнимой, если мы припомним, что метафизик должен понимать под истиной. Сознают это или нет, но в основе чисто метафизической системы неминуемо должно лежать понимание истины как бытия в самом простом непосредственном смысле. Этот, на наш взгляд, своего рода познавательный фетишизм ясно подчеркивается отождествлением мышления и бытия. Познать истину значит у Л. М. познать истинное бытие, или истина есть то, что есть на самом деле. Она уже не простое выражение ценности или значимости нашего суждения как чисто логического акта, но логика – это собственно онтология. Придав такой характер своей логике, Гегель только поставил точку над и. То же понимание истины свойственно и Л. М. Его определение вполне согласуется на почве такого понимания истины с данным им построением конкретного спиритуализма, теории чисто метафизической: познание необходимых истин разума, составляющих содержание метафизики, есть познание истинного бытия, сущего, вещей в себе. «Метафизика, – говорит Л. М. [141] , – есть знание действительной природы вещей в их независимой реальности и в их внутренних отношениях и связи; другими словами, она есть знание вещей в их истине, т. е. не такими, какими они являются нашему ограниченному чувству, возбуждая его различные состояния, а каковы они на самом деле, в своей внутренней сути». Это определение становится только более подробным воспроизведением первого и вполне согласуется с ним, если мы припомним то понимание истины, к которому примыкает и Л. М.
Как велика ожидаемая мощь метафизического знания, это видно из того, что, поняв самое сокровенное, глубочайшее ядро действительности, познав сущее, мы по Л. М. оказываемся в силах заглянуть в будущее, уразуметь смысл и конечное назначение мира. Метафизика таким образом есть «знание действительных вещей в их началах и конечном назначении» [142] . Правда, Л. М. оговаривается, что конкретные свойства вещей со всем их многообразием открываются нам только опытом, но собственно, продолжая последовательно идти намеченным путем, с точки зрения метафизика надо признать логически мыслимым, что более совершенная постановка рациональной онтологии должна дать все, ибо, как говорит в первом томе «Положительных задач…» сам автор, знание действительной сути дает знание и ее самой, и ее явлений.
III
Такова в общих чертах спиритуалистическая теория Л. М., занимающая с полным правом одно из самых видных мест среди творений русской философской мысли. Я ограничусь в данном случае короткими замечаниями, в которых подчеркну критическим разбором стороны, наиболее интересные с точки зрения наших современных философских споров.
В центре их стоит модная в наше время борьба против философии Запада во славу и процветание родной, «национальной», русской философии. Критицизм немцев с его подчеркиванием теории познания как истинного базиса философского знания стал мишенью постоянных нападок. У нас не перестают повторять в различных вариациях один и тот же упрек по адресу адептов критицизма, что теория познания не базис философии, что это запрет, оковы для философской мысли, что требование гносеологического обоснования это вотум недоверия познавательным силам разума и т. д., и в поучение адептам философии «подгнившего Запада» указывают как на назидательный пример на русских философов, среди которых рядом с Соловьевым, кн. С. Трубецким приводят и имя Л. М. Лопатина. И сам Л. М., к сожалению, не раз высказывал эти упреки. Это заставляет нас поставить вопрос о том, исчерпывается ли отношение нашего ученого к немецкому критицизму отрицательными отзывами, каким путем шел он в построении своей теории? Этот вопрос приобретает тем больший интерес, что положение метафизической системы после Декарта и Канта не может быть прежним. Великий завет Декарта все принимать только в меру его очевидности налагает и на метафизиков определенные обязательства, и когда они бьются над познанием вещей в себе, то вполне понятно, что в первую очередь возникает вопрос, да есть ли у нас вообще основание говорить о вещах в себе. И позиция критицизма в этом отношении более выгодна, так как обязанность доказательства падает не на него, а на представителей метафизики. Если нас заставляют искать, то мы вправе знать, что у нас есть основание предполагать это искомое и возможность познать его. Нельзя голословно отрицать пресловутую истинную действительность, но не следует отказываться от обоснования правомерности этого вопроса, не надо сетовать на «запреты», когда мы, оберегая себя в науке от «воздушных замков», разлетающихся в прах при первом дуновении критического ветерка, пробуем использовать урок, данный историей, и, избегая дискредитирования философской мысли, ждем критической проверки, а она – в теории познания.
И вот тут обнаруживается, что Л. М. фактически признает необходимость того пути, на котором в принципе настаивает критицизм. Как поступали традиционные метафизики? Даже Спиноза, казалось бы, насыщенный духом Декарта и знакомый с его методологическим сомнением, начинает свою систему словами: « Substantia prior est natura suis affectionibus… » [143] и т. д. В то время еще теплилась действительная наивная вера во всемогущество человеческого разума. В наше время этой наивной вере, по существу, не может быть места. Критицизм Канта сделал свое дело – и это лучше всего видно на положительных современных попытках построения метафизики. Они встречаются с тремя задачами: 1) доказать неудовлетворительность не только данной, но всякой неметафизической – в указанном смысле – теории; 2) доказать возможность умозрительного знания и 3) доказать наличность объекта его. Иначе все построение неубедительно.
Капитальный труд Л. М. и посвящен выяснению этих вопросов. Очерку самой системы метафизики, хотя он и выявлен с большой отчетливостью, посвящена сравнительно небольшая часть второго тома, а весь остальной труд занят исследованием, которое мы не можем назвать иначе как критическо-гносеологическим. Сам Л. М. видел задачу своего труда в том, чтобы в первом томе обосновать субъективную необходимость метафизики, во втором – ее объективную необходимость и возможность [144] , т. е. и Л. М. не начинает с «Бога, души» и т. д., которые по нему прежде объясняли все, а теперь в «болезненном» периоде развития стали сами объектами объяснения. Ведь и тут перед нами не непосредственное построение метафизики, а тщательная критическая подготовка фундамента для рациональной онтологии критикой условий познания и его выполнения. Это и есть принципиально то требование, которое выставляет критицизм. Его основная мысль заключается собственно в этом пункте не в прямом отрицании метафизики, а только в признании теории познания за необходимый базис философии. Пусть будет метафизика, но только предварительно покажите необходимость и возможность ее – вот что прежде всего вытекает из подчеркивания научности философии. Догматизм – голословное отрицание метафизики, в этом мы вполне согласны с Л. М., но тот же догматизм сказывается и в голословном утверждении обратного характера. И в своем труде Л. М. идет, несомненно, теоретико-познавательным путем, потому что после Канта никакая система философии вообще невозможна в иной форме. Это один из плюсов теории Л. М., полагающий огромную разницу между ним и прежней наивной, большей частью чисто дедуктивной метафизикой. Выполнив первую задачу, т. е. показав критикой существующих теорий необходимость метафизических допущений, Л. М. берется за вторую задачу – обоснование возможности умозрительного знания : он дает свою теорию знания и познания, на основе которой, т. е. уже в результате гносеологического исследования, строится конкретный спиритуализм. Второй том начинается характерным образом с указания на «философию и сомнение», причем автор становится, безусловно, на сторону правомерности сомнения в декартовском смысле, а этот смысл сомнения лежит и в основе критицизма. «Философия, – говорит Л. М. [145] , – должна исходить из сомнения во всем, что не доказано и не имеет прямой очевидности, – это требование Декарта навсегда сохранит для нее свою силу», а ведь это именно и значит, что теперь уже немыслимо начинать философскую теорию мыслями « de Deo et substantia » [146] , что надо дать отчет разуму, предъявляющему свои права на сомнение, И далее у Л. М. следует тщательный анализ «Различных видов суждений» с ясно теоретико-познавательным характером – пожалуй, даже в некотором отношении с кантовским различением аналитических и синтетических суждений. Как и Кант в «Критике чистого разума», Л. М. от исследования суждений переходит к исследованию «математических истин», математического познания; далее идет исследование причинности и т. д. Пусть исследование этого вопроса приводит у Л. М. в конце к обоснованию умозрительного знания, но ведь речь идет в данном случае не о выводах, а о том пути , каким надо идти. И тут труд Л. М. говорит не за его последние горячие выступления против теории познания как базиса философии, а против них. Проблема причинности как ярко гносеологическая стоит в центре и у Канта, и у неокантианцев, например, у Риккерта. Этим гносеологическим характером труда Л. М. и объясняется тот факт, что изложение его стоит, как мы надеемся показать дальше, в самой тесной связи с немецким послекантовским и кантианским идеализмом. На наш взгляд, весь труд Л. М. красноречиво говорит за то, что к метафизике он теоретически пришел путем исследования условий объективности познания, т. е. перед нами тут прежде всего теория познания.
Этот вывод звучит, вероятно, для многих до некоторой степени парадоксально, и при том для многих, как метафизиков, так и неокантианцев. И та и другая сторона странным образом заранее допускает, что признание теории познания за базис философии является смертным приговором метафизике. Как адепт определенной школы, я тоже разделяю взгляд, что умозрительное знание немыслимо, но этот вывод дается не признанием теории познания за базис как таковым, а самим гносеологическим исследованием. Иными словами, было бы большим догматизмом без основательного гносеологического исследования предрешать судьбу умозрительного знания и его объекта. Единственное требование, которое диктуется этим признанием, – это не строить метафизической теории догматически, а показать необходимость и возможность умозрения, т. е. его обоснованность, а затем уже дать положительный продукт умозрения.
Так именно и поступил Л. М. в своем труде, вопреки его теперешним заявлениям по поводу того, что разум не терпит оков, подразумевая под этим оковы «критицизма и теории познания». Мы подчеркиваем особенно этот критицизм метафизики Л. М., нам думается, что в современных философских разногласиях является большим положительным фактором единодушная оценка догматизма как крупного философского недостатка. Таким его считает и Л. М. [147] , и он же показывает своим трудом, что избегнуть этого недостатка можно только одним путем – путем критического исследования познания и его объективности, т. е. с помощью теории познания. У Л. М. теория познания, по существу, сведена только на ветвь психологии , но это уже вопрос иного порядка. На наш взгляд, это ложный путь, на котором нельзя достичь убедительности, и теории Л. М. это отождествление сослужило отрицательную службу, тем более что психология у Л. М. чисто метафизического характера; на наш взгляд, и его ссылкам на психологию можно отчасти противопоставить обоснованно противоположные данные современной психологии, хотя бы того же Вундта, на которого так любят ссылаться у нас; для нас тут, пожалуй, даже некоторый круг: психология обосновывает метафизику, утверждающую, между прочим, субстанциальность души, а метафизика основа всего, основа и психологии, так как без метафизики нет души как субстанции, т. е. нет ядра психологии в концепции Л. М. Но, повторяем, это уже имманентный вопрос теории познания, о котором можно спорить, в принципе же и Л. М. стоит на той же почве, за которую он упрекает неокантианцев, да и иначе оно и быть не может. Тут он на том же пути развития главного русла западноевропейской философской мысли.
Он блестяще разграничил задачи богослова и философа, с редкой убедительностью показал, что философ должен строго отделять то, во что он верит, от того, что он знает, и третья глава первого тома, посвященная этому вопросу, является у нас более современной и поучительной, чем когда бы то ни было. Л. М. показывает тут, что так называемое религиозно-философское течение зовет, в сущности, на путь философских заблуждений. «Мы подвергли, – говорит он [148] , – тщательному анализу оба вида философии веры и пришли к тому заключению, что они не оправдывают своих притязаний, потому что идеи их смутны и произвольны, потому что, отказываясь от умозрения в принципе, они постоянно исходят от него в действительности, потому что в учениях, к ним принадлежащих, мнимая независимость от разума оказывается простым предлогом вносить непоследовательность и неясность в развитие идей, чисто логических по своему содержанию». Тем не менее, пройдя эту Сциллу, Л. М. не избег опасности, угрожавшей со стороны Харибды, и теория познания слилась у него с психологией, а это в свою очередь ввело в заблуждение многих относительно того пути, каким шел наш ученый.
Итак, Л. М. стоит в отношении своего пути в тесной связи с Западом. Какое же положение занимает он в развитии общей философской мысли?
Читаешь основной труд Л. М. и поражаешься, до какой степени большинство его учеников и почитателей обманываются относительно зависимости его от Запада и прежде всего от немецкого идеализма. Этот самообман можно было бы понять у самого автора – история философской мысли на каждом шагу указывает нам на такие факты как на постоянное явление: сами авторы редко верно и справедливо оценивают свою преемственную связь, и пример Шопенгауэра, который слышать ничего не хотел о Фихте и Шеллинге и поносил их, есть не исключение, а то же явление, только выродившееся при характере Шопенгауэра в уродливые формы. Но для нас, читателей, непростительно идти по тому же пути. В этом стремлении установить преемственную связь нам преграждает путь целый ряд печальных недоразумений. На некоторые из них мы volens-nolens должны указать здесь.
У нас, к сожалению, видят первый признак наличности самобытной философии в том, чтобы всеми силами открещиваться от всякой связи с западной, в особенности немецкой философией – старый славянофильский мотив, перепеваемый заново нашим временем. Указание преемственной связи с Западом принимается за соответствующее умаление ценности русских мыслителей. Меж тем интересы самобытной философии, желанные для всех, желанные уже просто с точки зрения общего развития философской мысли, не только не требуют порывания этой связи, этих черных мазков по Западу, но, наоборот, прямо указывают на нее. Связь с классической философией, из которой вытекает необходимость внимательного изучения ее, а не разрыв с ней, является надежным залогом самостоятельного сотрудничества России в творчестве философской мысли. Вот почему мы так дорожим указанием на связь данного мыслителя с общим развитием европейской мысли. Это не значит, что мы чаем правду только с Запада. Указывая на Запад, мы отнюдь не думаем рекомендовать ученически перенять какую-либо школьную систему целиком. Это абсурдно уже потому, что таких законченных и признанных систем, хотя бы у тех же немецких мыслителей. мы не находим. Мы только дорожим связью с ними, так как убеждены, что Россия даст свое не в оторванности от Запада, а в тесной связи с ним. И труд Л. М. – лучшее тому подтверждение.
Среди имен, на которые у нас часто ссылаются в противовес Западу, неизменно встречается и имя Л. М. Трудно объяснить, как можно ссылаться в данном случае на Л. М., когда вся его философия живет прямой, даже во многих случаях указываемой и подтверждаемой самим мыслителем связью с Западом и при том именно с немецкой философией. Когда интересную теорию Л. М. пытаются упрятать под определенный ярлычок, под крыло какого-нибудь одного философа, например, Лейбница или Мэн-де-Бирана, то это, конечно, большое заблуждение и должно вызывать справедливый энергичный протест. Несомненно, теории этих мыслителей имели большое значение для Л. М., в особенности Лейбниц, но все построение философии Л. М. значительно сложнее, в ней много новых мотивов, много связи с новыми мыслителями, хотя бы с тем же немецким идеализмом, Лотце, Вундтом и т. д. и над всем стройность и цельность духовного единства. Но решающего влияния Запада и особенно тех же немецких идеалистов могут не видеть только философские слепцы. Да и как же иначе? Неужели действительно необходимо признать наличность в истории «пустых страниц», о которых говорил Гегель? Не правильнее ли предположить, что именно у значительного мыслителя больше всего можно ожидать солидной доли этой преемственной связи, потому что значительное явление требует большого широкого исторического базиса. Наконец, ведь именно оставаясь верным задушевным интересам Л. М., стремившегося одухотворить, осмыслить весь мир, нельзя мириться с «бессмыслицей», «болезненностью» целого века мыслительной работы человечества, как это, к сожалению, сделал теперь сам Л. М. И действительно, как раз весь труд Л. М. полон отношения к этой новой немецкой философии и, как мы коротко отметим, к гносеологии, хотя он, конечно, и не исчерпывается этой связью.