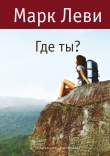Текст книги "За гранью дозволенного"
Автор книги: Митч Каллин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Любовники, заключил он. Неудовлетворённые той сексуальностью, которую они друг другу предлагали, оба хотели чего-то новенького, чего-то дерзкого и соблазнительного. Своего рода договорённость, как он себе представлял, средний вариант – они живут друг с другом и трахают кого-то ещё, а потом спят в одной постели, сплетя руки и ноги, благодарные за тепло, даваемое осязаемым телом и осязаемой личностью.
Тем не менее той ночью, как в одну из предыдущих ночей, он ни разу не испытал соблазнительной тяги к туалету, к тому, чтобы быстро проскользнуть через вход и – позабыв о всех проблемах, улизнув от несправедливостей мира, существующего за дверью, – расстегнуть ширинку навстречу открытому рту, навстречу ожидающему языку. Вместо этого на рассвете он обнаружил, что жалеет этих мужчин.
«Какие дураки, – думал он, вытягиваясь у стены бассейна. – Вы тупы и эгоистичны – и, как и я, вы осознаете это слишком поздно».
Голод сводил живот, но ему не было до этого дела. Сложив руки на животе, он подумал, что сможет прожить без еды дни, а может быть, и недели. Весьма невысокая плата за то, чтобы доказать свою невиновность. Очень низкая плата.
Частенько бывало – когда он пытался спать за живой изгородью, просыпаясь от детского плеска в бассейне, – он начинал рыдать о Джулии, Дэвиде и Монике, произнося беззвучно их имена, надеясь, что они в конце концов приехали домой и обнаружили, что его нет; он умолял их о прощении, давал клятвы снова и снова, обещал восстановить совместную жизнь.
– Я обещаю…
Но сначала он должен был найти Поло – тогда он сможет всё восстановить.
– Я обещаю, – говорил он, убаюкивая себя собственным голосом. – Я обещаю…
Три ночи он сторожил у туалета в парке Миссии, без еды, только прихлёбывая из бутылки «Гаторейд», которую нашёл пустой около мусорки, помыл в питьевом фонтанчике рядом с бассейном и наполнил водой. Если голод поднимал голову, угрожая ночному дозору, он пил, пока не чувствовал, что желудок переполнился до краёв, – иногда несколько раз наполнял бутылку, прежде чем пройти сквозь парк. Затем, когда ему надо было помочиться, делал это тут же, обычно под одним и тем же мескитовым деревом, и ни разу не приблизился к туалету ради облегчения.
На четвёртый вечер – после того, как он шёл с дрожащими руками, едва ли чувствуя силу, чтобы выбраться из-за живой изгороди и встать, – он осознал, что ему нужна еда; в противном случае он чересчур ослабнет и не сможет вести своё наблюдение. Так что, когда солнце начало затухать, он направился в противоположном туалету направлении, неуверенным шагом медленно двигаясь из парка – мимо ворот, по маленькому мостику, мимо стройки, по дорожкам.
В конце концов пришёл к полупустому уличному рынку, где несколько продавцов всё ещё предлагали свои услуги у пустых прилавков, фанерные листы прикрывали окна и двери, объявления о сдаче в аренду были неразличимы под слоем граффити. Однако посреди парковки красовался «Бургер Кинг», там было полно народу, поскольку было обеденное время. Расположенный у дальней северо-западной стены восточный рынок Кван тоже был полон народу, парковка вокруг него была забита машинами, яркое убранство внутри светилось. Всё остальное между двумя заведениями – не считая зоомагазина и киоска с тортильями – было закрыто.
Но аромат «Бургер Кинг» влёк его (запах жареного мяса курился над крышей, его разносило ветром), он подошёл прямо к витрине. Заглянув внутрь, увидел, как другие едят – семьи, пары с детьми, одинокие души, всё тащили в рот картошку фри или тянули из соломинок напитки, пальцы хватали гамбургеры или несли подносы; они заказывали еду у кассы или сидели со своей едой, никто не обращал на него внимания, даже когда его ноги на мгновение подогнулись, тело наклонилось вперёд; опасаясь, что упадёт в обморок, он прислонился плечом к стеклу.
«Не падай, – думал он. – Не здесь…» Он мог видеть своё отражение; отклонившись на сантиметр от стекла, больше не глядел внутрь. Его отражение беспомощно подмигнуло ему. Он заметил одутловатость в лице, круги под глазами, ужасающую бледность плоти, отросшую щетину, которая покрывала подбородок и щёки. К своему удивлению, он осознал, что прошедшие пять дней изменили его внешность больше, чем его сознание: теперь он выглядел как пария или как один из бродяг, которых видел крадущимися по парку Миссии – взъерошенные и костлявые, со впалыми щеками.
Однако, его измождённая внешность не была зрелищем, которое его встревожило; в какой-то степени, пока он отталкивался от стекла, собирая оставшиеся силы, он был рад этой трансформации, испытывал определённое чувство свободы, маска отделяла его от школьного учителя с детским лицом, от кого-то, кто бреется каждое утро, причёсывает свои редеющие волосы, одевается подобающе. Глядя на это лицо в отражении, увидел совершенно другого человека – через две недели, думал он, борода станет густой и седой, волосы спутанными и грязными, он сможет бродить без страха, возможно, никто не увидит никакой разницы между ним и бездомными обитателями парка. До того он рискует, входя в «Бургер Кинг», несмотря на то, как искусительна еда и как сильно он нуждается в подпитке (его решение подстегнула молодая женщина, сидящая в соседней кабинке и читающая газету во время еды).
Он решительно двинулся прочь, к восточному рынку, – словно он чудом перенёсся за море, двигался мимо длинных проходов с корзиной для покупок, склоняясь над контейнерами с дынями, бамбуковыми ростками и свежим соевым творогом.
На некоторое время голод ослаб, успокоился, как ему показалось, от одного вида незнакомцев: мужчины и женщины, говорящие по-китайски или по-вьетнамски в отделе морепродуктов, азиатские студенты, укладывающие в тележки пакеты длиннозерного риса, узкоглазые детишки с карамельками за щеками, бегающие по проходам; никто из них не задержался, чтобы обратить внимание на измождённого белого, набирающего в сумку яблоки и груши: незнакомец среди незнакомцев, тянущийся к пакетикам сушёных кальмаров – закуска, которую он любил в школе, брал на пробу одно-два колечка у японских учеников.
Как странно, думал он, стать невидимкой для тех, кто сам везде выступает как невидимка, – их лица, глаза, непонятная речь струились неясными образами.
– Двае бу чи, не май бу майф да дое?
Шагая по тёмным проходам вечернего рынка, он чувствовал себя в Китае.
– Чё как дуо шоу чин?
Точно так же он мог шагать по району рынка в Пекине, вдыхать экзотические запахи: приправленные пряностями молодые побеги, горький чай, желчь, хризантемы, горячий соевый соус.
– Чё мо на мо квай ах?
Он словно побывал в тысяче миль от юго-западного «Бургер Кинг» – туристом, который заехал далеко от дома, стоящим у прилавка в Гонконге, говорящим кассиру-китайцу: «Я беру эти два», добавляя к своим покупкам ежедневную газету.
Покинув Кван и перейдя парковку, шагая по асфальту, освещённому жёлтым светом фонарей, протискиваясь к своему убежищу, он вернулся в знакомый мир – направился к парку с небольшой сумкой покупок, с газетой, свёрнутой под мышкой, руки сжимали яблоко, словно это был бейсбольный мяч. К тому времени, как он продолжил своё наблюдение, он съел три яблока, обгрыз до сердцевинки, затем выбросил. Теперь, сидя за столиком для пикников, он вонзил зубы в грушу (сушёных кальмаров приберёг для своей последней трапезы перед сном) и принялся следить за действиями у туалета.
Эта ночь была такой же, как и предыдущие, – мужчины входили и выходили, некоторые повторяли визит через несколько часов, но Поло не появился. И тем не менее он ждал, изучая каждую фигуру, каждого, кто неспешно входил и быстро выходил, гадая: не ты ли убил Рональда Джерома Банистера?
Был ли это ты?
Или ты?
Или ты?
Он высматривал мотоциклы.
Следил за переодетыми полицейскими, за полицейскими машинами, колесящими по парку.
Он молился о том, чтобы убийца снова на кого-нибудь напал, застрелил кого-то в другом парке, чтобы его поймали и чтобы он признался в своих преступлениях Росасу.
Иногда он представлял, как сам хватает убийцу, прижимает его к земле, вырубает ударом кулака и, наконец, притаскивает тело в кабинет Росаса и бросает перед шокированным детективом:
– Вот он, чёртов подонок!
Или же покажется Поло, перепуганный неожиданным появлением Джона перед ним, нисколько не польщённый.
– Ты должен помочь мне!
– Конечно…
– Они думают, что я убил Банистера.
– Я знаю…
– Ты скажешь им, что они ошибаются. Ты должен помочь.
– Конечно…
Однако в конечном итоге его фантазии об избавлении всегда увядали, и он оставался ни с чем. Тогда он испытывал отчаяние, сомневаясь, что Поло когда-нибудь снова сунется в парк Миссии. Он дал себе две недели. Две недели ожидания, четырнадцать дней слежки за туалетом – после этого он расширит поиски, может быть, обследует другие парки или, если нужно будет, обследует все туалеты в пригородах.
«Я найду тебя, – размышлял он среди ночи. – Мы встретимся снова, и я больше не позволю тебе исчезнуть. Я найду тебя…»
К рассвету яблоки и груши кончились, огрызки были сложены в кучку и пошли на поживу муравьям. Восход солнца сигнализировал о конце ночной слежки у туалета, и, когда птицы начали петь среди пальм и мескитовых деревьев, парк превратился в мирное место, лишённое признаков тайных похождений. Встретив утро на полный желудок, он развернул газету, расстелил её на столике для пикников. Он изучил первую страницу – водя по заголовкам указательным пальцем, ожидая встретить своё имя, – но ничего о себе не нашёл.
Перевернул страницу.
Ничего.
Следующая страница.
Ничего.
Когда облегчение уже охватило его, палец скользнул на пять слов на странице формата А4: УБИЙЦУ БАНИСТЕРА ИЩУТ В КАЛИФОРНИИ. Под заголовком была его фотография из паспорта, чёрно-белая, сделанная за несколько лет до того. Прочитав статью, в которой было написано, что расследование идёт успешно, он испытал смешанное чувство страха и восторга. Он, оказывается, послал детектива и его команду по ложному следу, дал себе больше свободы, оставаясь неузнанным и невидимым.
Он думал, что ему нужно только время, и внимание публики переключится на что-то другое. Следующая трагедия – убийство, изнасилование, автокатастрофа, гибель ребёнка – избавит его от внимания кого бы то ни было (разве что останется полиция, семья Банистера и его собственное семейство). Пять дней назад его дело было расписано на первой странице газеты, сегодня оно уже переместилось на четвёртую страницу – через месяц он вообще перестанет существовать. Так что он отрастит бороду, попробует свою свободу на вкус (пройдётся там, поест здесь, прокатится на автобусе, когда его ноги слишком устанут). И без вопросов – снова встретит Поло, – даже если для этого потребуется много недель, месяцев или лет.
«Я найду тебя…»
Позже, подложив газету под голову, как подушку, он заснул некрепким сном у живой изгороди, его не тревожили всплески воды и крики детей. Он проснулся вечером – и последующие двенадцать ночей следовал одной и той же схеме: отправлялся на восточный рынок Кван, покупал еду и газету, съедал пищу, ожидая Поло, и на рассвете забирался за живую изгородь.
«Я найду тебя…»
Но после двенадцати ночей, за два дня до окончания двухнедельного плана, он решил, наконец, покинуть парк Миссии и поискать где-нибудь ещё; решение определило не столько отсутствие Поло, сколько молодой человек, который занял его место за живой изгородью:
– Послушай, я Бартон, понял? И мне нет дела, как тебя зовут, поскольку ты немедленно уберёшься отсюда к чертям!
Бартон – никакого имени, никакой фамилии – просто Бартон.
– Как Стинг. – Парень гордо сообщил ему. – Как Мадонна.
Он ненавидел сам вид того парня – эти дреды и короткие бачки, зелёные камуфляжные штаны, чёрная футболка с Бобом Марли, драная кашемировая куртка.
– Бартон – это я. Одно слово, понял? Бартон. Как Шер.
«Плохое имя для живого человека», – думал он. Немытый панк, совсем недавно занявший спальное место за живой изгородью, вытянувшийся там, где всегда спал Джон. Более того, Бартон захватил его газеты и заявил, что они его, сделал себе из них небольшой матрасик. Он пытался спорить с мальчишкой, доказывая, что живая изгородь – его владения, что газеты его, что яблоки, которыми угостился Бартон, тоже его.
– Эй, тебе ведь не принадлежит парк, правда? И я тоже тебе не принадлежу, ты понял? Так что вали отсюда, пока я тебя не тронул. В любом случае я сто раз тут спал, и тебя тут не было – так что должен сказать, что у меня больше прав, чем у тебя, понятно?
Словно Аттила, наказание божье.
– Но ты съел мои яблоки, Бартон.
– К чёрту твои яблоки и к чёрту тебя! Если ты хочешь назад свои яблоки, можешь сожрать моё дерьмо!
Словно богохульник.
– Я думаю, ты не прав.
– Пошёл к чёрту.
Словно несчастье.
Последней каплей стало следующее утро, когда он вошёл за изгородь и обнаружил, что Бартон занимается сексом – мальчишка был полуобнажён и громко стонал, двигаясь между раздвинутых ног женщины вдвое старше его; бледная задница двигалась ритмично, газеты помялись под спиной женщины, когда она выгибалась (Джон иногда её видел, она лазила по мусоркам, её кожа была как футбольный мяч, а волосы ненатурально жёлтые). Они не видели, как он прошмыгнул мимо, не заметили, как он прихватил куртку парнишки, прежде чем торопливо удалиться.
Он двинулся дальше – оставив парк Миссии, по кривой дорожке, которая привела его сюда, ноги вели его всё ближе к пустынному убежищу и железнодорожным путям.
У него за спиной теперь были пальмы и общественный туалет.
Где-то впереди, на берегу высохшего русла реки, стоял ржавый брошенный «маверик» – никакого лобового стекла, никакого двигателя, пружины и вата вместо подушек; он проспал до вечера: его сны были невыразимы, хотя прогулка пошла ему на пользу, он устал.
Он засыпал, гадая: «Появилась ли Джулия? Есть ли новости о Поло? О моих детях?»
Или ему снилось, как он идёт на уличный рынок. Каким белым и пустым всё было, когда он впервые посетил восточный рынок, – только чтобы измениться неделей позже, под пристальным взглядом Росаса с плаката: на красном фоне указательный палец детектива тыкал прямо в него, послание было напечатано крупными буквами над головой: «НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ВЕРНЁМ НАШ ГОРОД СЕБЕ!»
«Не имеет значения», – убеждал он себя, шагая по высохшему руслу реки. «Не имеет значения», – шептал он, его ботинки загребали песок, сверкающий в свете луны. Он вдыхал сухой ночной воздух, кожу овевал лёгкий ветерок.
Вскоре ветреные ночи и тёплые дни потянулись, словно каждый час длился вдвое дольше, – однако он находил укромные местечки, слоняясь по городу, – пройдя мимо станции Амтрэк, где была припаркована его «мазда», шагая неторопливо мимо пригородных зданий. Он даже не раз и не два спал за переулок от офиса Росаса. В том же самом переулке нашёл пакет чёрствых рогаликов рядом с мусоркой, настоящая удача, которая поддерживала его на пути на запад.
Он наклонялся вперёд, его тощее тело было прикрыто курткой Бартона (защищающей его от палящего солнца и всё более холодных вечеров). Он бродил не то чтобы без всякого направления, чаще всего направлялся в Папаго-парк – оазис в противоположной стороне от парка Миссии; он был больше, более новый, вместо одного общественного туалета в нём было четыре (идеальное место для прогулок, решил он, место, куда может прийти Поло).
Он двигался целенаправленно – всегда отдыхал при дневном свете, продолжал путь по ночам – и ни разу его не остановила полиция, ни разу никто не обидел. Едва ли осознавая, как быстро приспособился, он спокойно спал на асфальте, укладываясь на картонных коробках у складов, спал в бетонных ямах вдоль шоссе.
Затем почему-то, когда он шёл по тротуарам и никто не встречался с ним взглядом в толпе и никто не обращал на него внимания, он решил, что быть бродягой означает буквально существовать на периферии; если он ведёт себя тихо и никому не угрожает, никто и не поймёт, что он здесь. Он был невидим, словно призрак, и это открытие принесло ему некоторое успокоение – хотя недостаточное, чтобы унять боль и тоску по Джулии и детям, или желание встать перед учениками, или желание строить модели аэропланов, но достаточное, чтобы сделать его вполне анонимным и позволить двигаться беспрепятственно.
«Это, – говорил он себе, – на самом деле кое-чего стоит…»
В Папаго-парке он спал в течение дня, на скамейке, укрыв голову курткой Бартона. В нескольких метрах от него, почти во всех направлениях растянулись другие бродяги – они развалились под пальмами, застегнув спальные мешки, – разбросанные на просторах парка, разделяя землю (никто не ложился слишком близко к другому, каждый утверждал своё право на клочок травы и тень). Папаго-парк был большим, он быстро понял, что тут хватит места для всех: семей, парочек, бегунов, тех, кто катается на роликах, – все могли наслаждаться парком, бродяги продвигались дальше, в пустыню, исчезая за рельсами, за купами мескитовых деревьев или за массивными колючими стволами груш), где нетронутый дёрн уступал холмистой местности.
И хотя Папаго-парк казался раем для бездомных (куда лучшим, чем маленький парк Миссии), он не был любимым местом для прогулок. Может быть, из-за отдалённости – или из-за новизны – у парка не сложилась репутация приятного местечка для сбора. Может быть, парк Миссии или пассаж были куда доступнее, и никто не беспокоился о том, чтобы ехать на запад, прибыть туда, где мужчинам было бы легче и проще встречаться.
И тем не менее, месяц или около того приглядывая за разнообразными туалетами по всему парку, он заметил активность, которую нетрудно было объяснить, – это утвердило его в мысли, что он сумеет найти Поло: однажды вечером пожилой джентльмен бродил около туалета, входил и выходил оттуда; явно женоподобный подросток стоял у питьевого фонтанчика около часа, глядел на вход в туалет и не собирался пить; время от времени одинокие мужчины заходили в туалет, задерживались у столиков для пикников, усаживались на скамейки, словно ожидая кого-то.
Но Поло не было.
Борода его становилась гуще, волосы отрастали, и вместе с тем росло всепоглощающее негодование в отношении бывшего партнёра, отвращение, когда он воображал, как Поло обедает с женой, играет с детьми, как всегда аккуратно подстриженный, вымытый под своей отличной рубашкой, насыщающий воздух запахом одеколона. Он оставался неизменным, тогда как Джон трансформировался во что-то дикое и весьма далёкое от фотографии в паспорте, опубликованной в газетах.
«Чёрт бы тебя побрал, я мог бы просто поговорить с тобой, – думал он. – Если бы ты мог видеть, что со мной случилось, – если бы мы могли сесть рядом, как друзья, – если бы могли поговорить…»
Он тосковал по простым словам, жаждал звука человеческого голоса вместо отдалённых криков детей и полных энтузиазма воплей студентов колледжа, играющих во фрисби. С тех пор как он покинул станцию Амтрэк, он вообще ни с кем не разговаривал, не считая вспыльчивого Бартона, пока однажды поздним вечером к нему не подошёл Тобиас (он искал свою собаку, бормотал всякие глупости). Но за те недели, пока не встретил Тобиаса, он частенько сам бормотал себе под нос, отвечая на собственные вопросы, выдыхая важные заверения, задержав дыхание; однако его собственное бормотание мало облегчало нужду в коммуникации, в том, чтобы выговорить важную информацию, насладиться удовольствием и лёгкостью маленькой беседы.
– Становится прохладнее, не так ли?
– Да, сильно.
– Вы в порядке?
– Неплохо, а вы?
– У меня всё хорошо, благодарю.
Пока проходили дни и его слежка, прерываемая поиском еды, стала привычной, необходимость поговорить измучила его. В тот вечер, когда появился Тобиас, он пошёл в телефон-автомат в «Сэйфвей» и истратил последний четвертак, набрав номер домашнего телефона и решительно повесив трубку. Теперь он был вынужден регулярно воровать тортильи и сыр.
– Идиот, – выругался вслух, посмотрев на своё отражение в полированном хроме телефона-автомата. – Дебил… идиот. – Затем, словно наказывая себя, покинул магазинчик, ничего не прихватив.
Или он сделал это потому, что, пока стоял у телефона-автомата, в «Сэйфвей» вошёл бывший его ученик – он толкал тележку для покупок, родители шли по обе стороны, не обращая внимания на бродягу, бросающего в щель автомата последний четвертак.
– Беззаботный идиот, – продолжал ругаться он, пересекая парковку. – Ты бессмысленный, всё бессмысленно…
Он бормотал и бродил между пригородными участками, нарезанными для новых домов, на покрытых травой полях, в ветреных руслах рек. Это было бессмысленно – искать Поло. Он никогда не увидит снова Джулию, Дэвида и Монику, он проживёт остаток жизни на улице, или кто-нибудь опознает его, или его арестуют за какую-нибудь глупость – как та, что он звонит домой…
– Ты идиот, ты хочешь, чтобы Росас поймал тебя, ты этого хочешь, хочешь…
На обед у него был только батончик «Милки вей» и пачка «Твизлерс». Наконец, он успокоился в Папаго-парке и тихо поел на скамейке, пока вечер спускался на землю.
Закат начал свою обычную работу – мескитовые деревья стали золотыми, поздний вечерний свет положил резкие тени, неизбежный вечерний ветерок, насыщенный запахом леса и дыма, повеял в лицо. Он не смог вспомнить, как много дней и ночей прошло с тех пор, как он в последний раз видел Джулию и детей, как давно он не спал в кровати. Затем начал дрожать под курткой, покрылся гусиной кожей, понимая, что настоящий холод ещё не наступил.
– Эй, приятель, ты видел где-нибудь мою собаку?
Голос раздался из ниоткуда, удивил его. Посмотрев по сторонам, он заметил Тобиаса, бредущего к скамье.
– Её зовут Тина. Она моя сучка, понимаешь…
Пока Тобиас продолжал говорить, он смотрел на него – две бейсбольные кепки, босые ноги, поношенные джинсы подвёрнуты до колен.
– Как она выглядит? – спросил, заглядывая в серые глаза Тобиаса и сглатывая сладость шоколадного батончика. – Какая порода?
Незнакомец посмотрел озадаченно.
– Не могу точно сказать – она сбежала из Финикса некоторое время назад, может быть, из храма. Такая счастливая собачка, симпатичные глаза, полно энергии. Парень, она быстро бегает, эта собака – эта сука.
«Ты сумасшедший, – подумал он. – Ты псих».
Однако Тобиас был явственно добр, его нервный разговор выдавал приветливый нрав, и Джон – сбитый с толку, но всё-таки привлечённый его манерой, от одиночества готовый поддержать любой разговор – испытал облегчение, когда тот уселся на скамейку. Старик, пока говорил, переводил взгляд с Джона на шоколадку.
– Приятный вечерок, не так ли? Позже станет холодно, но пока вполне нормально, правду я говорю?
Вскоре они разделили поровну то, что осталось от «Милки вей», разделили также и «Твизлерс», – Тобиас, жуя, рассуждал, морщины на его лице становились глубже в свете заходящего солнца. Джон слушал с теплотой бесконечную, почти бессвязную речь – о правительственном заговоре («Они строят под землёй целые секретные города – они создали СПИД, ну ты знаешь»), о коровах с вшитыми по бокам застёжками – «молниями» («Генная инженерия – сейчас они делают это в Бразилии») и невыразимом Готаме.
– Ты боишься Готама?
– Я не знаю.
– У тебя должен быть этот страх. Господи Иисусе, если ты не боишься Готама, ты напрашиваешься на неприятности.
Когда спустился закат, Тобиас устало вздохнул. «Твизлерс» кончились, как и шоколадка. Печально сказал, что ему пора идти собирать деревяшки:
– Ночью станет холодно, я думаю. Должен это сделать, понимаешь.
– Удачи, – кивнул ему Джон.
– Тебе тоже, приятель. – Тобиас поднялся со скамьи.
– Спасибо, надеюсь, она у меня будет.
Только старик не сразу отошёл – он чесал подбородок, изучал полёт птиц, силуэтом обозначившихся в небе, потом взглянул на Джона со словами:
– Говорю тебе, знаешь, у меня есть хорошее местечко – не слишком плохо, куда лучше, чем эта скамья, на которой я всё время тебя вижу, – у меня там горит костёр, есть спальный мешок, который тебе, наверное, понравится, – я был бы рад видеть тебя рядом, приятель.
Джон смущённо посмотрел на него.
– Добро пожаловать – вот что я тебе говорю, добро пожаловать, если захочешь, – вот в чём дело, я полагаю, – если тебя всё это интересует…
– Ты уверен? – опросил Джон. – Ты не будешь против?..
– Не могу сказать, что я буду против, – ты увидишь, я не такой плохой, понимаешь, – там куда лучше, чем на этой скамейке, – и всё, что тебе нужно делать, – идти за мной…
Так что он последовал за ним, хотя сомнения и одолевали его, когда они вышли из-под пальм.
Земля пошла под уклон, превратилась в дикое русло высохшей реки за границей парка, песок заскрипел у него под ногами, трава поднималась островками на коричневом фоне пустыни.
Теперь, когда они зашли в тупик, Тобиас остановился и показал вперёд:
– Это моё место, мой дом. Тебе понравится…
В вечернем свете он различил только, что русло реки было перерезано насыпью из красного камня и бетона (поверху тянулся асфальт, шоссе огибало парк).
– Не так уж плохо, – повторил Тобиас, продвигаясь вперёд. – Бывает и хуже…
Неожиданно он увидел округлое отверстие в земле, чёрный провал, начинающийся там, где кончалось русло.
– Увидишь, тебе понравится – оплата дешёвая…
В темноте тоннель казался гостеприимным и безопасным (там был огонь, там был кофе, там была подходящая компания). В одно мгновение они заключили сделку: два раза в неделю Джон крадёт еду для себя и Тобиаса, взамен получает спальный мешок, свою порцию воды из кувшина Тобиаса и постоянное бормотание старика, которое, если и не всегда было рационально, время от времени звучало правдиво.
– Просто микробы, ты понимаешь, от этого с нами редко обходятся по-доброму – боятся микробов, поэтому стараются держаться подальше от таких, как ты, – словно на свете нет микробов или проступков, к которым мир мог бы отнестись с сочувствием, разве это не так? Разве что мы с тобой знаем, что ты не должен выглядеть грязным, – но ты можешь быть небритым и всё равно оставаться чище, чем куча других, разве ты этого не знал?
– Я полагаю, что так.
– Вот я и говорю, это верно, вот о чём я тебе толкую…
Дружба Тобиаса на некоторое время уменьшила несчастье Джона; он мог с кем-то говорить, мог слушать, мог, во всяком случае до того, как на землю опустится ночь, забыть на время о своих бедах. Только когда Тобиас спал, похрапывая в спальном мешке, Джон обнаруживал, что скучает по семье или гадает, где может быть Поло или чёртов Росас. Бодрствуя у костра, он перемешивал угли, иногда представлял себе детектива, напавшего на его след, обыскивающего Папаго-парк, подходящего ближе и ближе.
«Мой Жавер», – думал он, глядя на тоннель, (год за годом он учил детей «Отверженным», не подозревая, что его собственная жизнь однажды повторит драму Гюго). Как Жан Вальжан, он тоже не был злостным преступником, едва ли достойным того, чтобы его преследовали неподкупные полисмены. Всё равно в этом было что-то героическое, что-то вдохновляющее в том, что тебя не поняли, – и тут у огня он тихо повторял то, что часто произносил вслух перед своими учениками, слова с заброшенной анонимной могилы Вальжана:
Он спит. Хотя судьба была с ним очень странной.
Он жил. Он умер, когда потерял своего ангела.
И это произошло просто, так же естественно,
Как ночь падает на землю, когда уходит день.
Однако после того, что случилось впоследствии, он никогда больше не чувствовал своей близости к Жану Вальжану, не мог себе представить радости чего-то вроде возмездия, которым насладился Вальжан в свои последние мгновения. Нет, у него не было шанса пожертвовать оставшимся счастьем и вернуть его сторицей – он был полностью погребён не обстоятельствами, но своим собственным горячечным отчаянием, и, как он теперь себя убеждал, его истинная судьба – быть вовеки отверженным. Радость, которая когда-то была, радость, которая стала нереальной, исчезла окончательно. Таким образом, он отверг любую схожесть с героем Гюго, обнаружив, что между ними очень мало общего, единственное – они оба были людьми и совершали ошибки.
«Разве что мне хуже, чем ему, – заключил он. – Для меня нет счастливого конца – что может быть человечней этого?»
Но если это общая судьба, которая привела его к теперешнему состоянию, он верит, что совпадения играют роль. Возможно, это была странная форма интуитивного прозрения. А может быть, ни совпадения, ни прозорливость не имели места; скорее, это было что-то ещё, результат того и другого, что-то менее определимое и конкретное.
Он вспоминал отпуск двоюродной сестры в Аспене, как она каталась на лыжах, поднималась на подъёмнике и увидела: кто-то врезался в сосну – случайная смерть, свидетелем которой была она одна, что означало допросы в полиции, несколько полных слёз телефонных звонков и преждевременное окончание поездки.
Вернувшись домой, она получила письмо по электронной почте от родителей жертвы из Техаса, мать и отец хотели получить информацию о последних минутах жизни своей дочери. Со временем части головоломки сложились вместе: юная секретарша из Далласа отправилась в отпуск в Аспен и умерла, врезавшись на лыжах в дерево; единственным человеком, который видел её смерть, оказалась приёмная дочь её босса, художник-дизайнер, из Сан-Диего, как и секретарша, она была в отпуске (необъяснимое совпадение, от которого его кузину трясло ещё долгие месяцы).
Затем был ещё его сосед по комнате, приятель-студент с отделения английской литературы, который, очаровавшись мистикой, прочёл собрание сочинений Кахлила Гибрана. В день, когда он дочитал до конца, он пришёл на вечеринку к профессору, где, смешавшись с незнакомцами, вступил в разговор с мистером Гибраном, пожилым коллекционером произведений искусства, навещавшим своего друга в Аризоне.
– Я не думаю, что вы родственник ливанского писателя? – спросил, узнав имя коллекционера.
– Ну почему же, – прозвучал экспрессивный ответ. – Он был моим дядей.
Такие любопытные совпадения случались всю его жизнь, но обычно они относились к кому-то другому. «Они не бессмысленны», – говорил он себе. Не то чтобы они были просто совпадениями или случайностью – нет, для него они имели огромное значение, указывали, что все человеческие существа руководятся необоримой силой, как в шахматах фигуры ведёт по доске тщательно отрежиссированная, но совсем непредсказуемая судьба.
Как ещё объяснить, что его ученик из Чили случайно наткнулся на своего потерянного друга детства в Диснейленде; или Джулия, исследующая магазины антиквариата в поисках кувшина, похожего на мамин, нашла неделей позже такой (надтреснутый и нуждающийся в реставрации) в картонной коробке, выставленной у мусорного контейнера на их улице; или коллега, потерявшая своё обручальное кольцо (он сам помогал ей искать его с фонариком, обыскал каждый закоулок), обнаружила его через несколько недель на пальце помощницы учителя, за которой не водилось подобных грешков: «Вы не поверите, я нашла его в парке!»