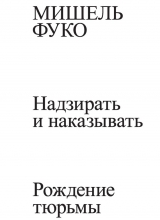
Текст книги "Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы"
Автор книги: Мишель Фуко
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Итак, стало необходимо взять под контроль незаконные практики и ввести новое законодательство, их квалифицирующее. Правонарушения должны быть четко определены и гарантированно караться, в массе отклонений от нормального порядка (то терпимых, то наказуемых слишком жестко, несоразмерно с тяжестью содеянного) необходимо вычленить то, что является нетерпимым правонарушением, правонарушители должны задерживаться и наказываться. С овыми формами накопления капитала, новыми производственными отношениями и новым юридическим статусом собственности все народные практики, принадлежащие – в их спокойной, повседневной и терпимой или, наоборот, насильственной форме – к противозаконностям в отношении прав, были силой сведены к противозаконности в отношении собственности. Кража постепенно становится первой из основных лазеек, позволяющих обойти закон в движении, преобразующем общество юридическо-политического взимания в общество присвоения орудий и продуктов труда. Или, другими словами, экономия противозаконности перестроилась с развитием капиталистического общества. Противозаконность в отношении собственности отделилась от противозаконности в отношении прав. Это разделение выражает борьбу классов, поскольку, с одной стороны, противозаконность, наиболее характерная для низших классов, посягает на собственность, направлена на насильственное перераспределение собственности, и поскольку, с другой стороны, буржуазия сохраняет за собой противозаконность в отношении прав: возможность обходить собственные правила и законы, отгородить для себя огромный сектор экономического оборота путем искусного использования пробелов в законе – пробелов, предусмотренных умолчаниями или оставшихся не заполненными благодаря его фактической терпимости. И это великое перераспределение противозаконностей выражается даже в специализации судебных каналов: для преступлений против собственности (кражи) – обычные суды и наказания; для противозаконностей в отношении прав (мошенничество, увиливание от уплаты налогов, неправомерная торговая деятельность) – особые суды, где достигались соглашения, компромиссы, накладывались уменьшенные штрафы и т. п. Буржуазия оставила за собой богатую область противозаконности в отношении прав. И в то самое время, когда совершается этот раскол, вырисовывается необходимость постоянного надзора, главным образом – за противозаконностью в отношении собственности. Теперь необходимо избавиться от прежней экономии власти наказывать, основывающейся на принципе путаной и прерывистой множественности инстанций, от распределения и концентрации власти соотносительно с фактической инерцией и неизбежным попустительством, от наказаний, зрелищных в своих проявлениях и не продуманных в применении. Необходимо определить стратегию и методы наказания, которые позволили бы заменить экономию судебных издержек и чрезмерности экономией непрерывности и постоянства. Короче говоря, реформа уголовного права возникла на стыке борьбы со сверхвластью суверена и с инфравластью противозаконностей, право на которые завоевано или терпится. И реформа оказалась не просто временным результатом чисто случайного столкновения по той причине, что между сверхвластью и инфравластью образовалась целая сеть отношений. Форма верховной монархической власти, возлагая на суверена дополнительную ношу зрелищной, неограниченной, персональной, неравномерной и «прерывистой» власти, предоставляет подданным свободу для постоянной противозаконной деятельности; такая противозаконность – своего рода коррелят монархической власти. А значит, выступать против различных прерогатив монарха – то же, что выступать против существования противозаконностей. Эти две мишени продолжают друг друга. И в зависимости от обстоятельств и конкретных тактик реформаторы делали ударение на той или другой. Примером может служить Ле Трон, физиократ и советник орлеанского уголовного суда. В 1764 г. он опубликовал исследование о бродяжничестве, этом рассаднике воров и убийц, «которые живут в обществе, не являясь его членами», ведут «настоящую войну против всех граждан» и находятся среди нас «в состоянии, кое существовало, видимо, до установления гражданского общества». Он требует применения к бродягам наиболее суровых наказаний (что характерно, он удивляется тому, что принято относиться к ним более снисходительно, чем к контрабандистам); он хочет, чтобы полиция была укреплена, чтобы коннополицейская стража преследовала бродяг с помощью населения, страдающего от их набегов; он требует, чтобы эти бесполезные и опасные люди «были приструнены государством и принадлежали ему, как рабы хозяевам»; если же понадобится, следует устраивать массовые облавы в лесах и выкуривать бродяг из их логовища, причем всякий, кто поймает бродягу, должен получить вознаграждение: «Убившему волка платят 10 ливров. А бродяга много более опасен для общества». В 1777 г. во «Взглядах на уголовное правосудие» тот же Ле Трон требует, чтобы прерогативы стороны обвинения были сокращены, чтобы обвиняемые считались невиновными вплоть до возможного осуждения, чтобы судья был справедливым арбитром в споре между ними и обществом, чтобы законы были «незыблемыми, постоянными и как можно более четко определенными» и подданные знали, «за что их наказывают», чтобы судьи были просто «инструментом закона». Для Ле Трона, как и для многих других в ту эпоху, борьба за установление границ власти наказывать была непосредственно связана с необходимостью более строгого и постоянного контроля над народной противозаконностью. Понятно, почему критика публичной казни имела столь важное значение для реформы уголовного права: казнь была формой, зримо соединявшей в себе неограниченную власть суверена и вечно бодрствующую народную противозаконность. Гуманность наказаний есть правило для режима наказаний, устанавливающее их пределы для обеих сторон. «Человек», которого дблжно уважать в наказании, является юридической и моральной формой, придаваемой этому двустороннему установлению пределов.
Но хотя верно, что реформа как теория уголовного права и как стратегия власти наказывать обрела четкие контуры в точке совпадения двух указанных целей, своей устойчивостью в будущем она обязана тому, что в течение долгого времени на переднем плане оставалась вторая из них. Именно потому, что давление на народные противозаконности стало – в период Революции, затем в эпоху империи и, наконец, на протяжении всего XIX столетия – важнейшим императивом, реформа смогла перейти от стадии проекта к институционализации и практическому осуществлению. Иными словами, хотя новое уголовное законодательство как будто бы предполагает смягчение наказаний, более четкую их кодификацию, заметное сокращение произвола, более широкое согласие относительно власти наказывать (в отсутствии более реального распределения ее отправления), в действительности оно основывается на перевороте в традиционной экономии противозаконностей и на жесткой необходимости поддерживать их новое регулирование. Система уголовных наказаний должна рассматриваться как механизм, призванный дифференцированно управлять противозаконностями, а не уничтожить их все.
Поставить новую цель и изменить масштаб. Определить новую тактику для достижения цели, тактику, которая является теперь более тонкой, но также и более широко распространенной в общественном теле. Найти новые методы регулирования наказания и адаптации его последствий. Установить новые принципы регуляции, совершенствования, обобщения и унификации искусства наказывать. Сделать однородным его применение. Снизить экономическую и политическую стоимость наказания путем увеличения его эффективности и числа каналов. Словом, создать новую экономию и новую технологию власти наказывать. Таковы, несомненно, существенно важные задачи уголовно-судебной реформы в XVIII веке.
На уровне принципов новая стратегия легко вписывается в общую теорию договора. Гражданину предлагается принять раз и навсегда вместе с законами общества и тот закон, в соответствии с которым он может быть наказан. Тогда преступник оказывается существом, парадоксальным с юридической точки зрения. Он нарушил договор и потому является врагом всего общества; но при этом он участвует в применяемом к нему наказании. Малейшее преступление направлено против всего общества, и все общество – включая преступника – участвует в малейшем наказании. Следовательно, уголовное наказание есть обобщенная функция, сопротяженная со всем телом общества и с каждым его элементом. Здесь встает проблема «меры» и экономии власти наказывать.
Действительно, правонарушение противопоставляет индивида всему общественному телу; для того чтобы наказать его, общество вправе подняться против него всем корпусом. Борьба неравная: все силы, вся мощь, все права – у одной стороны. И справедливо: ведь дело касается защиты каждого индивида. Так устанавливается грозное право наказывать, ибо правонарушитель становится общим врагом. На самом деле он хуже врага, поскольку наносит удары изнутри общества, – он предатель. «Чудовище». Как же обществу не иметь абсолютного права на него? Как не требовать его простого и безусловного уничтожения? И если справедливо, что принцип наказаний должен быть записан в договоре, то разве, рассуждая логически, граждане не должны признать справедливой высшую меру наказания для тех из них, кто нападает на все общественное тело? «Всякий злоумышленник, посягая на законы общественного состояния, становится, по причине своих преступлений, мятежником и предателем родины; в такой ситуации сохранение государства несовместимо с сохранением жизни преступника; один из двух должен погибнуть; виновного предают смерти не как гражданина, но как врага». Право наказывать из мести суверена превращается в защиту общества. Но оно снова включает в себя элементы столь сильные, что становится едва ли не еще более грозным. Злоумышленник спасается от угрозы, которая по самой своей природе избыточна, но подвергается ничем не ограниченному наказанию. Возврат к устрашающей чрезмерной власти. И отсюда необходимость установить для власти наказывать принцип умеренности.
«Кто не содрогнется от ужаса, читая в истории об ужасных и бессмысленных мучениях, которые изобретались и хладнокровно применялись чудовищами, называвшими себя мудрыми?» Или: «Законы призывают меня к ужаснейшему наказанию преступлений. Я соглашаюсь, разъяренный преступлением. Но что это? Моя ярость превосходит само преступление… Боже, запечатлевший в наших сердцах отвращение к страданиям нашим собственным и наших ближних, неужели те самые твари, что созданы Тобой слабыми и чувствительными, изобрели столь варварские, столь утонченные пытки?» Принцип умеренности наказаний, даже по отношению к врагу общественного тела, формулируется сначала как душевное движение. Скорее, как крик, что вырывается из тела, возмущенного зрелищем (пусть даже воображаемым) чрезмерной жестокости. Принцип, по которому уголовно-испол-нительная система должна оставаться «гуманной», реформаторы формулируют от первого лица. Словно в нем непосредственно выражается чувствительность того, кто говорит; словно философ или теоретик во плоти встает между палачом и жертвой, чтобы утвердить собственный закон и навязать его наконец всей экономии наказания. Не означает ли этот лиризм неспособность рационально обосновать расчет наказания? Где можно найти грань между принципом договора, изгоняющим преступника из общества, и образом чудовища, «изрыгаемого» природой, как не в самой человеческой природе, которая проявляется – не в строгости закона, не в жестокости преступника-в чувствительности разумного человека, создающего закон и не совершающего преступлений?
Но обращение к «чувствительности» не выражает в точном смысле теоретическое бессилие. В сущности, оно содержит в себе расчет. Требующие уважения к себе тело, воображение, сердце на самом деле принадлежат не наказываемому преступнику, а людям, подписавшим договор и имеющим право применить к преступнику власть, даваемую объединением. Страдания, которые должны исключать любое смягчение наказаний, – страдания судей или зрителей, испытывающих душевную черствость, жестокость, порождаемые знанием, или, наоборот, необоснованную жалость и снисходительность: «Боже, помилуй мягкие, чувствительные души, на которые сии ужасные казни воздействуют как род пытки». Что требует заботы и расчета, так это обратные последствия наказания для карающей инстанции и отправляемой ею власти.
Здесь корни принципа, согласно которому всегда следует применять «гуманные» наказания к преступнику, хотя он вполне может быть предателем и чудовищем. Если отныне закон должен обращаться «гуманно» с теми, кто «вне природы» (тогда как прежнее правосудие негуманно обращалось с теми, кто «вне закона»), то не по причине некой глубинной человеческой природы, сокрытой в преступнике, а ради необходимого регулирования воздействий власти. Именно экономическая «рациональность» и должна рассчитывать наказание и предписывать соответствующие методы. «Гуманность» – почтительное наименование экономии и ее скрупулезных расчетов. «В том, что касается наказания, минимум диктуется гуманностью и рекомендуется политикой».
Для того чтобы понять эту технику и политику наказания, представим себе предельное преступление: чудовищное злодеяние, попирающее самые непреложные законы. Оно совершилось бы на самой грани возможного, в столь необычных условиях, в столь глубокой тайне, с такой безудержностью, что не могло бы не быть уникальным, во всяком случае, последним в своем роде: никто никогда не смог бы повторить его; никто не смог бы избрать его примером для себя или даже возмутиться им. Оно обречено на бесследное исчезновение. Этот аполог о «крайнем преступлении» для новой уголовно-правовой системы есть то же, что первородный грех – для прежней: чистая форма, в которой проявляется смысл наказания.
Должно ли быть наказано такое преступление? Какова в таком случае мера наказания? Какова польза от наказания его для экономии власти наказывать? Наказание за такое преступление было бы полезно в той мере, в какой позволило бы возместить «ущерб, причиненный обществу»34. И вот, если оставить в стороне собственно материальный ущерб – который, даже когда он невозместим, как в случае убийства, имеет малое значение для общества в целом, – вред, причиняемый преступлением телу общества, заключается в вызываемом им беспорядке: в провоцируемом возмущении, подаваемом примере, желании повторить его, если оно не наказано, в возможности его широкого распространения. Наказание может быть полезным, если имеет целью следствия преступления, т. е. ряд беспорядков, которые оно может инициировать. «Соотношение между наказанием и характером преступления определяется влиянием нарушения договора на общественный порядок». Но влияние преступления не обязательно прямо пропорционально его жестокости: преступление, ужасающее сознание, часто влечет за собой меньше последствий, чем проступок, который все терпят и готовы повторить. Великие преступления – редкость; с другой стороны, существует опасность, несомая и распространяемая обычными преступлениями. Поэтому не следует искать качественной зависимости между преступлением и наказанием, их равенства в жестокости: «Могут ли вопли несчастного пытаемого вернуть из глубин безвоз-вратно ушедшего уже совершенное деяние?»36. Надо рас-считывать наказание, памятуя о его возможном повторении, а не в зависимости от характера преступления. Надо принимать во внимание будущий беспорядок, а не прошлое правонарушение. Надо добиваться того, чтобы у злоумышленника не возникло желания повторить преступление и чтобы возможность появления подражателей была исключена. Итак, наказание должно быть искусством последствий; вместо того чтобы противопоставлять чрезмерность наказания чрезмерности проступка, надлежит соразмерять друг с другом два следующих за преступлением ряда: его собственные следствия и следствия наказания. Преступление, не имеющее последствий, не требует наказания; так же как (по другой версии того же аполога) общество, находящееся на грани распада и исчезновения, не имеет права возводить эшафоты. Самое «предельное» из преступлений не может не остаться безнаказанным.
Это старая концепция. Наказание исполняло роль примера задолго до реформы XVIII века. То, что наказание направлено в будущее и что по крайней мере одной из его главных функций является предотвращение преступления, было одним из расхожих обоснований права наказывать. Но является и новое: профилактика преступлений как результат наказания и его зрелищное™ – а следовательно, и чрезмерности – становится теперь принципом экономии наказания и мерой его справедливых масштабов. Необходимо наказывать ровно в той мере, какая достаточна для предотвращения возможного преступления. Следовательно, наблюдается изменение в самой механике примера: в уголовно-правовой системе, использующей публичные казни и пытки, пример является ответом на преступление; он должен, посредством своего рода двойственной демонстрации, обнаруживать преступление и в то же время – взнуздывающую его власть монарха. В уголовно-правовой системе, где наказание рассчитывается с учетом последствий преступления, пример должен отсылать обратно к преступлению, но в предельно сдержанной форме, указывать на вмешательство власти, но максимально экономно; в идеальном случае он должен также препятствовать последующему новому оживлению и преступления, и власти. Отныне пример – не обнаруживающий, проявляющий ритуал, но знак, служащий препятствием. Посредством этой техники карательных знаков, разворачивающей в противоположную сторону все временное поле уголовно-правового наказания, реформаторы хотели дать власти наказывать экономичный, эффективный инструмент, который способен распространиться по всему телу общества, кодифицировать все его поведение, а значит, уменьшить всю неопределенную область противозаконностей. Семиотическая техника, которой пытаются вооружить власть наказывать, основывается на пяти-шести основных правилах.
Правило минимального количества. Преступление совершается потому, что обеспечивает определенные выгоды. Если связать с идеей преступления идею скорее невыгоды, нежели выгоды, оно перестанет быть желаемым. «Для достижения цели наказания достаточно, чтобы причиняемое им зло превышало выгоду, которую виновный мог бы извлечь из преступления». Можно и даже нужно признать родственность преступления и наказания, но уже не в прежней форме, где публичная казнь должна была быть равна преступлению по силе и вдобавок обнаруживать избыточную власть суверена, осуществляющего законное мщение; квазиравенство на уровне интересов: чуть выгоднее избежать наказания, чем пойти на риск, связанный с преступлением.
Правило достаточной идеальности. Если мотивом преступления является ожидаемая выгода, то эффективность наказания заключается в ожидаемой невыгоде. Поэтому «боль»*, составляющая сердцевину наказания, – не столько действительное ощущение боли, сколько идея боли, неудовольствия, неудобства, – «боль» от идеи «боли». Наказание должно использовать не тело, а представление. Или, точнее, если оно использует тело, то не столько как субъекта, переживающего боль, сколько как объект представления: воспоминание о боли должно предотвратить повторение преступления, точно так же как зрелище, сколь угодно искусственное, физического наказания может предотвратить распространение заразы преступления. Но не боль как таковая является инструментом техники наказания. Следовательно, надо по мере возможности избегать торжественных эшафотов (за исключением тех случаев, когда требуется действенное представление). Тело «выпадает» как субъект наказания, но не обязательно как элемент зрелища. Упразднение публичных казней, которое при возникновении теории получило лишь лирическое выражение, теперь может быть выражено рационально: максимальное значение надо придавать представлению боли, а не телесной реальности ее.
Правило побочных эффектов. Наказание должно оказывать наибольшее воздействие на тех, кто еще не совершил проступка; рассуждая логически, если можно быть уверенным в том, что преступник не совершит преступление повторно, то это должно доказывать другим, что он наказан. Центробежное усиление воздействия, приводящее к парадоксу: в расчете наказаний наименее интересным элементом является преступник (если нет оснований полагать, что он совершит преступление еще раз). Бекка-риа иллюстрирует этот парадокс, предлагая заменить смертную казнь пожизненным рабством. Не является ли такое наказание физически более жестоким, чем смерть? Вовсе нет, говорит Беккариа: ведь боль, причиняемая рабством, подразделяется для осужденного на столько же частей, сколько мгновений ему осталось жить; это бесконечно делимое наказание, элейское, куда менее суровое, чем исполнение смертного приговора, недалеко отстоя-щее от публичной казни. Но для тех, кто видит рабов или представляет их себе, претерпеваемые ими страдания концентрируются в одной-единственной мысли; все моменты рабства стягиваются в одно представление, которое становится поэтому более ужасным, чем мысль о смерти. Это экономически идеальное наказание: оно минимально для того, кто его претерпевает (и будучи превращен в раба, не способен совершить свое преступление еще раз), и максимально для того, кто рисует его в воображении. «Среди наказаний и способов их применения соразмерно преступлениям надо выбирать средства, производящие наиболее длительное впечатление на умы людей и наименее жестокие по отношению к телу преступника».
Правило абсолютной достоверности. Мысль о всяком преступлении и ожидаемой от него выгоде должна быть связана с мыслью о наказании и его результате – совершенно определенной невыгоде; связь между ними должна расцениваться как необходимая и неразрывная. Этот общий элемент достоверности, обеспечивающий эффективность уголовно-исполнительной системы, включает ряд конкретных мер. Законы, квалифицирующие преступление и устанавливающие наказание, должны быть абсолютно ясными, «с тем чтобы каждый член общества мог отличить действия преступные от действий добродетельных». Законы должны быть опубликованы и доступны каждому; нужны не устные традиции и обычаи, а письменное законодательство – «прочный памятник, напоминающий об общественном договоре», открытые для всеобщего ознакомления печатные тексты: «Лишь книгопечатание делает хранителем священного свода законов все общество, а не горстку избранных». Монарх должен отказаться от права прощения, и тогда сила, присутствующая в мысли о наказании, не будет ослабляться надеждой на монаршее вмешательство: «Дать знать людям, что преступление может быть прощено и что наказание не является его непременным следствием, значит взлелеять в них надежду на безнаказанность… законы должны быть неумолимыми, а те, кто приводит их в исполнение, непреклонными». А главное, ни одно совершённое преступление не должно ускользнуть от взгляда тех, кто вершит правосудие. Ничто так не ослабляет действие законов, как надежда на безнаказанность. Можно ли утвердить в умах граждан строгую связь между преступлением и наказанием, если известен коэффициент, определяющий малую вероятность последнего? Не приходится ли делать наказание тем более устрашающим и жестоким, чем менее страшатся его по причине необязательности его исполнения? Вместо того чтобы подражать старой системе и быть «строже, надо быть бдительнее». Отсюда идея, что механизм правосудия надо усилить органом надзора, который работал бы с ним в одной связке и позволял бы либо предотвращать преступления, либо, если они уже совершены, арестовывать преступников; полиция и юстиция должны действовать вместе, как два взаимодополнительных элемента одного процесса: полиция – гарантируя воздействие «общества на каждого индивида», юстиция – гарантируя «права индивидов по отношению к обществу»; таким образом каждое преступление будет выведено на свет дня и непременно наказано. Но необходимо также, чтобы судопроизводство не было тайным, чтобы причины, по ко-торым обвиняемого осуждают или оправдывают, были известны всем и чтобы каждый мог знать основания для наказания: «Пусть судья выскажет свое мнение во всеуслышание, пусть зачитает в суде текст закона, на основании которого выносится обвинительный приговор… пусть судебные процедуры, сокрытые во мраке судейских канцелярий, будут открыты всем гражданам, интересующимся судьбой осужденного».
Правило общей истины. Совершенно банальный принцип, за которым скрывается важное преобразование. Старая система судебных доказательств, применение пыток, вырывание признаний, использование публичной казни, тела и зрелища для воспроизведения истины в течение долгого времени изолировали уголовно-правовую практику от обычных форм доказательства: полудоказательства производили полуистины и полупреступников; слова, вырванные под пытками, считались более ценными и правдивыми; предположение о виновности влекло определенную степень наказания. Неоднородность этой системы и обычной системы доказательства стала скандалом лишь тогда, когда власти наказывать для ее собственной экономии потребовалась атмосфера неопровержимой очевидности. Как можно неразрывно связать в сознании людей мысль о преступлении с мыслью о наказании, если реальность наказания не всегда следует за реальностью преступления? Установление этой связи во всей очевидности и в соответствии с общепризнанными методами становится задачей первостепенной важности. Верификация преступления должна подчиняться критериям, общим для всякой истины. В используемых аргументах, в получаемых доказательствах судебное суждение должно быть однородно со всяким нормальным суждением. Стало быть, налицо отказ от «судебного» доказательства, отказ от пытки, потребность в полной демонстрации для удостоверения истины, уничтожение какого бы то ни было соотношения между степенями подозрения и степенями наказания. Подобно математической истине, истинность преступления должна быть признана только в том случае, если она полностью доказана. Отсюда вытекает, что вплоть до окончательного доказательства факта совершенного преступления обвиняемый должен считаться невиновным и что для получения доказательства судья должен использовать не ритуальные формы, а обычные инструменты, обычный человеческий разум, присущий также философам и ученым: «Теоретически я рассматриваю судью как философа, который намерен открыть интересную истину… Мудрость его позволит ему охватить все обстоятельства и взаимоотношения, свести воедино или развести все, что надо свести или развести, дабы прийти к здравому суждению»46. Расследование, упражнение обычного разума, отставляет старую инквизиторскую модель и принимает куда более гибкую, дважды удостоверенную (наукой и здравым смыслом) модель эмпирического исследования. Отныне судья подобен «штурману, ведущему судно между скалами»: «Какие доказательства или улики будут сочтены достаточными? – Никто не дерзнет определить это в общей форме. Поскольку обстоятельства подвержены бесконечным изменениям, поскольку доказательства и улики необходимо черпать из обстоятельств, яснейшие доказательства и улики должны изменяться соответственно». Отныне судебно-правовая практика должна подчиняться общему или, скорее, комплексному режиму истины, в котором разнородные элементы – научное доказательство, свидетельство органов чувств и здравый смысл – переплетаются, с тем чтобы сформировать «глубинное убеждение» судьи. Хотя уголовное правосудие сохраняет формы, гарантирующие его справедливость, отныне оно открывается для любых истин, если они очевидны, хорошо обоснованны и общепризнанны. Судебный ритуал сам по себе уже не производит отдельную истину. Его возвращают в поле общих доказательств. С многочисленными научными дискурсами завязываются трудные, бесконечные отношения, которые уголовное правосудие пока не способно контролировать. Хозяин правосудия отныне не является хозяином его истины.
Правило оптимальной спецификации. Для того чтобы судебно-правовая семиотика покрывала все поле проти-возаконностей, уменьшения количества которых добиваются, все правонарушения должны получить определение; все они должны быть классифицированы и собраны в виды. Следовательно, необходим кодекс, причем достаточно точный, где был бы четко обозначен каждый тип правонарушения. Молчание закона не должно взращивать надежду на безнаказанность. Требуется исчерпывающий, ясный кодекс, определяющий преступления и устанавливающий наказания. Но та же настоятельная необходимость полного совпадения всех возможных правонарушений и следствий-знаков наказания заставляет идти дальше. Мысль об одном и том же наказании воспринимается по-разному: штраф не пугает богатого, как бесчестье не пугает человека с дурной репутацией. Вред, причиняемый преступлением, и значение последнего как примера различны в зависимости от общественного положения правонарушителя: преступление, совершенное знатным, наносит больший ущерб обществу, чем преступление простолюдина. Наконец, наказание должно предотвращать повторение преступления, а значит, учитывать глубинную природу самого преступника, возможную степень его порочности, внутреннее качество его воли: «Из двух людей, совершивших одинаковую кражу, кто виновен больше – тот, кто едва сводит концы с концами, или тот, кто купается в роскоши? Из двух клятвопреступников кто виновен больше – тот, кому с малых лет внушали чувство чести, или тот, кто был предоставлен сам себе и не знал преимуществ образования?» Одновременно с необходимостью параллельной классификации преступлений и наказаний возникает необходимость индивидуализации наказания в соответствии с особым характером каждого преступника. Эта индивидуализация ляжет тяжелым грузом на всю историю современного уголовного права; ее корни именно здесь: в терминах теории права и в соответствии с требованиями повседневной практики индивидуализация, несомненно, прямо противоположна принципу кодификации; но с точки зрения экономии власти наказывать и методов, с помощью которых хотят распространить по всему общественному телу точно подогнанные знаки наказания – без излишества, но и без лакун, без ненужного «расходования» власти, но и без робости, – становится очевидно, что кодификация системы преступления-наказания и модуляция пары преступник-наказание идут бок о бок, что одно требует другого. Индивидуализация предстает как конечная цель точно подогнанного кодекса.








