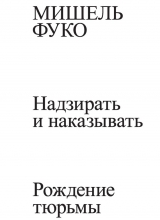
Текст книги "Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы"
Автор книги: Мишель Фуко
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И именно тогда народ, привлеченный зрелищем, которое устраивается для его устрашения, мог выплеснуть свое отвержение карательной власти, а иногда и пойти на бунт. Препятствовать казни, расцениваемой как несправедливая, вырвать осужденного из рук палача, добиться помилования силой, даже преследовать палачей и нападать на них и, конечно, проклинать судей и роптать против приговора – все это входит в число действий народа, которые вклиниваются в ритуал публичной казни, мешают ему и часто расстраивают его порядок. Естественно, это часто происходит по отношению к осужденным за бунт: таковы беспорядки после известного дела о похищении детей, когда толпа хотела помешать казни трех предполагаемых бунтовщиков; их должны были повесить на кладбище Сен-Жан, "поскольку там мало аллей, а значит, и процессий, требующих охраны". Напуганный палач отвязал одного из осужденных, лучники стали стрелять. Это повторилось и после хлебных бунтов 1775 г., и в 1786 г., когда поденщики совершили поход на Версаль и попытались освободить своих арестованных товарищей. Но кроме этих случаев, когда волнения разгорались еще до вынесения приговора и по причинам, далеким от мер уголовного правосудия, имеется много примеров, когда бунты были вызваны непосредственно приговором или казнью. Малые, но бесчисленные "эшафотные страсти".
В самых элементарных формах такие беспорядки начинаются с подбадриваний, а иногда и приветствий, сопровождающих осужденного в ходе казни. Во время долгого вождения по улицам осужденного поддерживает "сострадание добрых и отзывчивых, а также хлопанье в ладоши, восхищение и зависть дерзких и ожесточенных". Народ толпится у эшафота не просто для того, чтобы увидеть страдания осужденного или разжечь ярость палача, но и для того, чтобы услышать человека, которому больше нечего терять и который проклинает судей, законы, власть, религию. Публичная казнь допускает миг разгула осужденного, когда для него нет более запретного и наказуемого. Под защитой неминуемой смерти преступник может сказать все что угодно, а зрители приветствуют его. "Если бы существовали хроники, тщательно фиксирующие последние слова пытаемых и казнимых, если бы достало мужества перечесть их все, даже если бы просто спросили презренную чернь, что толпится вокруг эшафотов из жестокого любопытства, то стало бы ясно, что ни один из привязанных к колесу не умирает, не обвинив небо в нищете, толкнувшей его на преступление, не упрекнув судей в варварстве, не прокляв сопровождающих его служителей алтаря и не кощунствуя против Бога, чьими орудиями они служат". В этих казнях, призванных демонстрировать только устрашающую власть монарха, имеется карнавальная сторона: роли меняются, власти осмеиваются, преступники превращаются в героев. Бесчестье опрокидывается; мужество, как и вопли, и крики осужденных навлекают подозрение только лишь на закон. Филдинг удрученно замечает: "Когда видишь, как трепещет осужденный, не думаешь о бесчестье. И тем меньше, если он ведет себя вызывающе". У людей, присутствующих на казни и наблюдающих, даже при самой жестокой монаршей мести всегда есть предлог для реванша.
И особенно если приговор расценивается как несправедливый или если простолюдина предают смертной казни за преступление, за которое более высокородный или богатый получил бы сравнительно легкое наказание. Создается впечатление, будто низшие слои населения в XVIII веке, а может быть и ранее, уже не в силах терпеть определенные практики правосудия. Отсюда становится ясно, почему казни легко порождают народные волнения. Поскольку беднейшие – это наблюдение принадлежит одному магистрату – не имеют шанса быть выслушаны в судах, именно там, где закон проявляется публично, где они призваны быть свидетелями и едва ли не соисполнителями закона, именно там они могут вмешаться физически: живой силой войти в механизм исполнения наказания и перераспределить его результаты, изменить направление насилия в карательных ритуалах. Вот пример бунта против дифференциации наказаний в зависимости от сословной принадлежности: в 1781 г. кюре из Шампре был убит местным помещиком, и убийцу попытались объявить умалишенным. "Крестьяне, очень любившие пастыря, были разгневаны и в первый момент, казалось, были готовы совершить крайнюю жестокость по отношению к своему господину и поджечь его замок… Все протестовали, и справедливо, против попустительства судьи, лишившего правосудие возможности покарать за столь ужасное преступление". Бунтовали также против слишком суровых приговоров за обычные правонарушения, которые не считались серьезными (например, кража со взломом), или против наказания за некоторые правонарушения, связанные с социальным положением, такие, как домашняя кража, совершенная прислугой. Смертный приговор за такое преступление вызывал сильное недовольство, поскольку многочисленной домашней челяди трудно было доказать свою невиновность, поскольку слуги легко могли стать жертвами злонамеренности хозяев и поскольку снисходительность некоторых господ, закрывавших глаза на подобные проступки, делала тем более горькой судьбу обвиненных, осужденных и повешенных слуг. Казнь слуг часто вызывала протесты. В 1761 г. в Париже произошел небольшой бунт в защиту одной служанки, укравшей кусок материи у хозяина. Несмотря на признание ею своей вины, возвращение украденного и мольбы о помиловании, хозяин не захотел отозвать жалобу. В день казни окрестные жители помешали повешению, ворвались в лавку торговца и разграбили ее. В конце концов служанку помиловали. Но одну женщину, пытавшуюся уколоть иголкой злого хозяина, приговорили к трем годам каторги.
Вспоминают знаменитые судебные процессы XVIII века, в которые вмешалось просвещенное мнение философов и ряда магистратов: дела Каласа, Сирвена, шевалье де Ла Барра. Но меньше говорят о народных волнениях, связанных с карательной практикой. Правда, они редко выплескивались за границы отдельного города или даже квартала. И все же они имели важное значение. Иногда эти движения, зародившись в низах общества, распространялись и привлекали внимание высокопоставленных особ, которые, откликаясь на них, придавали им новое звучание (незадолго до Революции дело Катрин Эспинас, незаслуженно обвиненной в убийстве отца в 1785 г., или дело трех колесованных из Шомона, ради которых Дюпати написал в 1786 г. свой знаменитый труд; или дело Мари-Франсуаз Сальмон, приговоренной в 1782 г. Руанским парламентом за отравление к сожжению на костре, но еще не казненной в 1786 г.). Обычно же эти волнения поддерживали постоянное беспокойство вокруг уголовного правосудия и его проявлений, призванных быть образцовыми. Сколько раз оказывались необходимыми для обеспечения порядка вокруг эшафотов меры, "неприятные для народа", и предосторожности, "унизительные для властей"? Было очевидно, что великое зрелище казней рискует быть опрокинуто теми, кому оно предназначалось. Ужас, внушаемый публичной казнью, действительно разжигал очаги противозаконности: в дни казней работа прекращалась, кабаки наполнялись, власти терпели оскорбления, на палача, жандармов и солдат сыпались ругательства и камни; делались попытки захватить осужденного, чтобы спасти его или убить наверняка; завязывались драки, и для воров не было лучших жертв, чем зеваки, толпившиеся вокруг эшафота. Но главное – и именно поэтому перечисленные неудобства несли в себе политическую опасность – народ нигде не чувствовал себя более близким к наказуемым, чем в этих ритуалах, призванных показать гнусность преступления и непобедимость власти; подобно осужденным, народ никогда не ощущал столь остро угрозы законного насилия, чинимого без порядка и меры. Солидарность значительного слоя населения с теми, кого мы назвали бы мелкими правонарушителями, – бродягами, псевдонищими и бедняками, карманниками, скупщиками и продавцами краденого – выражалась постоянно: об этом свидетельствуют оттеснения полицейских кордонов, охота за осведомителями, нападения на караул или полицейских инспекторов. Разрушение этой солидарности и становится целью судебно-правовой и полицейской репрессии. Однако из церемонии публичной казни, из шаткого празднества, где насилие в любой миг могло быть "повернуто" в обратную сторону, с гораздо большей вероятностью должна была выйти окрепшей именно эта солидарность, а не власть суверена. Реформаторы XVIII-XIX столетий должны были понимать, что в конечном счете казни не пугают народ. И одним из первых их требований стала отмена казней.
Для того чтобы лучше понять политическую проблему, связанную с участием народа в церемонии казней, достаточно вспомнить два события. Одно из них имело место в Авиньоне в конце XVII века. Оно заключает в себе все основные элементы театра ужаса: физическая схватка палача с осужденным, нападение осужденного, преследование палача народом, спасение осужденного благодаря начавшемуся бунту и насильственное опрокидывание уголовно-правовой машины. Должны были повесить убийцу по имени Пьер дю Фор. Несколько раз он "цеплялся ногами за ступеньки", и никак не удавалось его вздернуть. "Тогда палач набросил на лицо ему свой кафтан и ударил под коленами и в живот. Увидев, что палач причиняет казнимому слишком большие страдания, и вообразив даже, будто он перерезает ему горло штыком… люди преисполнились жалости к жертве и ярости к палачу и стали забрасывать эшафот камнями; тем временем палач выбил из-под ног пациента обе лестницы, сбросил его вниз, вспрыгнул ему на плечи и принялся топтать, а жена палача тянула осужденного за ноги из-под виселицы. У пациента хлынула горлом кровь. Но град камней усилился, некоторые даже угодили в голову казнимого, и палач ринулся на лестницу, побежав по ней так быстро, что упал посередине головой оземь. Толпа набросилась на него. Он поднялся и замахнулся штыком, угрожая убить каждого, кто приблизится. Несколько раз он падал и поднимался, его сильно избили, вываляли в грязи, утопили в ручье, потом возбужденная и разъяренная толпа поволокла его к университету и, далее, на францисканское кладбище. Помощника его поколотили и с разбитой головой и изувеченным телом отнесли в больницу, где он умер несколько дней спустя. Между тем неизвестные взобрались на лестницу и перерезали веревку, другие подхватили висельника внизу; он успел провисеть дольше, чем длится "помилуй мя, боже" от начала до конца… Толпа смела виселицу и разнесла в щепки лестницу палача… Дети бросили виселицу в Рону". Приговоренного отнесли на кладбище, "чтобы не попал в лапы правосудия, а оттуда в церковь Святого Антуана". Архиепископ помиловал его и приказал отправить в больницу, просив как следует заботиться о нем. Наконец, добавляет составитель протокола, "мы заказали для него новую одежду, две пары чулок, туфли, одели во все новое с головы до пят. Наши коллеги дали ему рубашки, шаровары, перчатки и парик".
Второе событие произошло в Париже столетие спустя, в 1775 г., вскоре после хлебного бунта. Поскольку народ был доведен до крайности, власти хотели "просто" казни. Между эшафотом и толпой, удерживаемой на безопасном расстоянии, стоят две шеренги солдат, одна – лицом к месту казни, которая сейчас начнется, другая -лицом к народу на случай возможного бунта. Связь разорвана: казнь публичная, но элемент зрелища в ней нейтрализован, скорее – сведен к абстрактному устрашению. Под защитой оружия на пустой площади правосудие спокойно делает свое дело. Если и можно видеть смерть обвиняемых, то лишь с высоты и издалека: "Две виселицы высотой 18 футов, несомненно – для пущего назидания, не устанавливали до трех часов дня. Начиная с двух часов Гревская площадь и все окрестности были окружены отрядами разных родов войск, пешими и конными. Швейцарские и французские гвардейцы охраняли близлежащие улицы. Во время казни на Гревскую площадь никого не пускали, и по всему ее периметру были видны две шеренги солдат со штыками наготове, стоявших спина к спине, одни – глядя на площадь, другие – вовне. Оба несчастных… все время кричали, что они невиновны, и продолжали твердить это даже на лестнице". Какую роль играют гуманные чувства в отказе от литургии публичных казней? Как бы то ни было, власть обнаружила политический страх перед последствиями этих двусмысленных ритуалов.
Двусмысленность ритуала казни особенно ярко проявлялась в том, что можно назвать "эшафотными речами". Обряд казни требовал, чтобы осужденный сам возглашал свою вину, произнося публичное покаяние, демонстрируя дощечку с надписью, а также делая заявления, к которым его, несомненно, принуждали. Кажется, в момент казни ему предоставляли еще одну возможность говорить, но не для того, чтобы объявить о своей невиновности, а для признания факта преступления и справедливости приговора. Хроники сообщают о множестве таких речей. Действительно ли они имели место? В ряде случаев – безусловно. Или они были придуманы и пущены в ход позднее, в качестве примера и наставления? Несомненно, в большинстве случаев было именно так. Насколько можно верить, например, рассказу о смерти Ма-рионы Ле Гофф, знаменитой предводительницы воровской шайки в Бретани в середине XVIII века? Она якобы вскричала на эшафоте: "Отцы и матери, если вы меня слышите! Оберегайте и учите своих детей; в детстве я была лгуньей и лентяйкой. Я начала с кражи ножичка ценой в шесть лиардов… Потом обкрадывала коробейников и торговцев скотом. Наконец, возглавила банду воров, и потому теперь я здесь. Расскажите все вашим детям, и пусть это послужит им уроком". Речь настолько близкая, даже своими оборотами, к традиционной морали листков и памфлетов, что не может не быть "апокрифической". Но само существование жанра "последнее слово осужденного" показательно. Правосудие требует, чтобы его жертва в известном смысле удостоверила справедливость казни, которой ее подвергают. Преступника просят "освятить" наказание путем громогласного признания мерзости своих преступлений. Так, трижды убийцу Жан-Доминика Лангляда заставили сказать следующее: "Послушайте о моем ужасном, бесчестном и прискорбном деянии, свершенном в городе Авиньоне, где память обо мне ненавистна, поскольку я бесчеловечно нарушил священные права дружбы". В каком-то смысле листки и баллады о казненных – продолжение судебного процесса; или, скорее, деталь механизма, с помощью которого правосудие переносит тайную, существующую в письменной форме истину судоразбирательства на тело, жест и речь преступника. Правосудие нуждалось в таких подложных свидетельствах, чтобы утвердить свою справедливость. Оттого его решения окружались всеми этими посмертными "доказательствами". Иногда также печатались рассказы о преступлениях и бесчестной жизни – в чисто пропагандистских целях, еще до начала судоразбирательства, дабы поддержать руку правосудия, подозреваемого в излишней терпимости. Стремясь дискредитировать контрабандистов, откупное ведомство опубликовало "бюллетени", повествующие об их преступлениях: в 1768 г. оно распространило листок против некого Монтаня, главаря одной банды, о котором сам автор листка сообщает: "Ему приписали несколько краж, факт коих не вполне установлен… Монтаня представили как лютого зверя, новую гиену, мишень для охоты; в Оверни живут горячие головы, эту мысль сразу же подхватили".
Но последствия распространения такой литературы неоднозначны. Осужденный превращался в героя из-за чудовищности его широко рекламируемых преступлений, а иногда – благодаря утверждениям о его запоздалом раскаянии. Он представал как борец с законом, богачами, сильными мира сего, судьями, полицией и охранниками, с налогами и их сборщиками, и люди легко отождествляли себя с ним. Возглашаемые преступления расширялись, приобретая эпические размеры и представая как маленькие битвы, остающиеся незаметными в повседневной жизни. Если осужденный изображался кающимся, признающим приговор, просящим прощения за преступления у Бога и людей, то он претерпевал очищение: он умирал как своего рода святой. Но и неукротимость претендовала на величие: не сдаваясь под пытками, осужденный выказывал силу, которую не могла сломить никакая власть: "В день казни – это может показаться невероятным – я без тени волнения произнес публичное покаяние, а когда наконец расположился на крестовине, не выказал и признака страха". "Черный" герой или примирившийся преступник, защитник истинного права или предъявитель несокрушимой силы, преступник, рисуемый в листках, памфлетах, альманахах, дешевых романах под прикрытием морали примера, которому не надо следовать, нес память о битвах и схватках. Одни осужденные преступники после смерти становились едва ли не святыми, их память уважали, могилы чтили. В воспоминаниях о других слава и отвращение не были отделены друг от друга, но сосуществовали еще долгое время в одном "обратимом" образе. Разумеется, в литературе о преступлениях, которая быстро разрасталась вокруг некоторых знаменитых личностей, не надо усматривать ни чисто "народное самовыражение", ни согласованную программу пропаганды и морализации, навязанную сверху. Она – место встречи двух целей уголовно-правовой практики, своего рода поле боя между преступлением, наказанием за преступление и памятью о нем. Если этим рассказам, этим правдоподобным повествованиям о повседневной истории позволено печататься и распространяться, значит, от них ожидают эффекта идеологического контроля. Но если их воспринимают с таким вниманием, если они становятся основным чтением низших классов, значит, народ находит в них не только воспоминания, но и точку опоры; не только интерес "любопытства", но и интерес политический. Таким образом, эти тексты могут пониматься как двусторонний дискурс: в сообщаемых фактах, вызываемом ими резонансе, в славе, какую они даруют преступникам, называемым "знаменитыми", и, несомненно, в самих используемых ими словах (надо бы изучить использование категорий, вроде "несчастье" или "мерзость", и эпитетов, вроде "знаменитый" или "жалкий", в таких повествованиях, как "История жизни, великих разбоев и хитрых уловок Гийери с сотоварищи и их жалкого и несчастного конца".
Несомненно, надо сопоставить эту литературу с "эшафотными волнениями", где на теле осужденного сталкивались осуждающая власть и народ – свидетель, участник, возможная и "выдающаяся" жертва казни. В кильватере за церемонией, плохо разделявшей отношения власти и подчинения, которые она стремилась возвести в ритуал, возникало множество дискурсов, продолжающих то же столкновение; посмертное обнародование преступником своего преступления оправдывало правосудие, но и восхваляло преступника. Вот почему реформаторы уголовно-правовой системы вскоре потребовали запрета листков. Вот почему народ обнаруживал столь живой интерес к тому, что в известном смысле играло роль малой и повседневной эпопеи противозаконностей. Вот почему листки утратили свое значение, когда изменилась политическая функция народных противозаконностей.
Исчезли же они, когда появилась совершенно новая литература о преступлениях – литература, в которой преступление прославляется, но потому, что является одним из изящных искусств; потому что может быть делом одних лишь исключительных натур; потому что показывает чудовищность и гнусность сильных мира сего; потому что злодейство – еще один вид привилегированности: от приключенческого романа до Де Квинси, от "Отрантского замка" до Бодлера происходит эстетическое переосмысление преступления, являющееся также присвоением преступности в приемлемых формах. По видимости – это открытие красоты и величия преступления, по сути же – утверждение, что величие тоже имеет право на преступление и, даже, что это право становится исключительной привилегией поистине великих. Великие убийства и вообще преступления – не для мелких правонарушителей. Между тем полицейский роман, начиная с Габорио, продолжает это первое смещение: благодаря своей хитрости, уловкам и остроумию преступник, изображаемый в такой литературе, делается недосягаемым для подозрений; борьба двух светлых умов – убийцы и сыщика – становится основной формой столкновения. И действительно, мы ушли далеко от повествований о жизни и злодеяниях преступника, где он признавался в совершённых преступлениях и где детально описывалась принятая им казнь: мы перешли от изложения фактов или от признания к медленному процессу раскрытия преступления, от казни – к расследованию, от физического столкновения с властью – к интеллектуальной борьбе между преступником и следователем. С рождением полицейской литературы исчезли не только листки; вместе с ними ушли прославление неотесанного злодея и мрачное превращение его в героя посредством публичной казни. Ведь простолюдин не мог изрекать и отстаивать тонкие истины. В этом новом жанре больше нет народных героев и пышных казней; преступник, конечно, порочен, но и умен; и хотя его наказывают, ему не приходится страдать. Полицейская литература переносит сияние вокруг преступника в иной общественный класс.
Тем временем газеты снова берут на себя задачу описывать в серых тонах, в ежедневной хронике происшествий, детали заурядных правонарушений и наказаний. Произошел раскол; народ лишили прежней гордости за преступления; великие преступления становятся молчаливой игрой умников.








