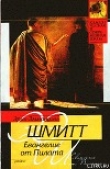Текст книги "Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова"
Автор книги: Мирон Петровский
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Обширность цитаты позволит читателю оценить впечатляющую силу евреиновской развернутой метафоры, возникшей, быть может, не без влияния знаменитой «мушиной» метафоры Гоголя – общего учителя Евреинова и Булгакова. Бытовой предмет – липкая бумага – может ничего не сказать воображению, но в образ Евреинова – влипаешь. Сцена трагическая – труп на трупе, но и фарсовая: трупы-то – все-таки мушиные. У Булгакова был точный слух на трагифарс.
Евреинов наблюдает мух на тенгльфуте, подобно то ли режиссеру, «изучающему натуру», то ли Воланду: мухи как мухи… В сцене на липучих подмостках его взгляд подмечает эсхатологические оттенки, к которым столь чуток был Булгаков – писатель и читатель. За отвратительной реальностью мушиного апокалипсиса, как того и требовала эстетика эпохи, стоят потусторонние силы: смеющийся мушиный черт и плачущий мушиный ангел. Вся метафора имеет театральный смысл: вот так, как мухи, внушает Евреинов, молодые люди и юные барышни стремятся к сладкой отраве сцены – и погибают. И словно бы прямо к Булгакову обращены заключительные строки – пророчество об аналогии, которая при виде этого зрелища может «придти в голову сценическому деятелю театра будущего». Булгаков умел слышать такие мистические голоса. Ему, сценическому деятелю театра будущего, пришла аналогия с собственным положением во Владикавказе: «…Мух на tanglefoot’e видели?!»
Этой краткой фразой, отсылающей к евреиновской развернутой метафоре, Булгаков вводит в свои «Записки на манжетах» Евреинова раньше, чем он появится собственной персоной. Предваряющий сигнал и уже рассмотренные совпадения между «Записками на манжетах» и «Белой гвардией» поддерживают кандидатуру Евреинова на роль одного из прототипов Шполянского. Только поддерживают, а не утверждают на роль: гипотезам такого рода суждено всегда оставаться на уровне предположения. Более того: только оставаясь на этом уровне, они могут претендовать на крупицу истины. Решающее слово здесь за модальностью: скромная осторожность созидает все, категоричность – все рушит. Нажал – и сломал… Образ абсолютен, прототип относителен.
Глава четвертая
В коробочке киевской сцены
I
Будущий драматург и автор театраль ных романов, Михаил Булгаков уже и в киевские свои годы, несомненно, был человеком театра – влюбленным и пристальным зрителем. А смотреть в Киеве было что. Город, пользовавшийся в конце XIX века репутацией театрального захолустья (по свидетельству современников), на глазах у Булгакова превратился в одну из театральных столиц страны. Случилось так, что год рождения Михаила Булгакова стал и годом создания в Киеве театра Н. Н. Соловцова – одного из лучших театров тогдашней России. Театральная жизнь развивалась столь бурно, что незадолго до начала Первой мировой войны газетчик мог увлеченно воскликнуть: «Удивительный город Киев! Какие-то бешеные соревнования в устройстве всевозможных зрелищ – от театральных представлений до синематографического лубка или вульгарно-примитивной миниатюры, которая теперь так в моде. Концерты, опера, драма, оперетка, кафе-шантанные вакханалии. Словом, чего хочешь, того спросишь»[62]62
Лель. Детский праздник в цирке // Театральный курьер (Киев). 1913. 23 янв. С. 4–5.
[Закрыть].
Матильда Кшесинская, прима-балерина императорской сцены, гастролировала в Киеве в 1915 году не слишком удачно – демократическая галерка ошикала именитую гастролершу, имея в виду не столько искусство танца, сколько отношения с царским двором. Тем не менее Кшесинская вынуждена была признать: «Киев был очень ревнив, он считал себя после Петербурга первым городом, имел прекрасный театр, и все первые артисты как-то обязаны были там выступить»[63]63
Кшесинская М. Воспоминания. М., 1992. С. 169.
[Закрыть].
«Киев становится первым после Петербурга и Москвы средоточием художественной жизни в России. Театр здесь – в гораздо лучших условиях, чем в большинстве русских городов», – констатировал, попав в Киев, «доктор от футуризма» Н. И. Кульбин[64]64
Кульбин Н. Выставка «Кольца» // Музы. Журнал литературы, искусства и театра (Киев). 1914. 3 марта. № 5. С. 5.
[Закрыть].
В пору событий «Белой гвардии» и в предшествовавшие годы Мировой войны Киев сосредоточил неслыханные театральные силы – московские, петроградские, мест-ные. Сразу после революции театральная жизнь в городе стала приобретать черты бума – одновременно шли спектакли оперные и драматические, опереточные и цирковые, возникали и исчезали эфемерные «театрыми-ниатюр», кабаре, подвальчики, и в этом театральном Вавилоне звучало с подмостков русское, украинское, польское, немецкое и еврейское слово. Не случайно столь высокое напряжение театральной культуры города вскоре разрешилось знаменитым марждановским спектаклем «Фуэнте Овехуна»[65]65
Впечатляющую картину киевской театральной жизни от начала 1910-х годов до конца Гражданской войны нарисовал А. М. Смелянский в своей книге: Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986. (2-е изд., 1989).
[Закрыть].
Но, быть может, это же напряжение разрешилось и другим театральным явлением, которое называется – Михаил Булгаков. Творчество Булгакова – прямое порождение киевского культурного очага, писатель – птенец из этого гнезда, и его драматургия вместе с театральными мотивами его прозы небезотносительны к месту и роли театра в «киевской культуре».
«Впечатления полутора революционных лет, проведенных в Киеве, оказали огромное формирующее влияние на творческое сознание писателя и преломились так или иначе во всех решительно его произведениях – вплоть до последних редакций последнего романа»[66]66
Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя. // Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 37. М., 1976. С. 35.
[Закрыть], – решительно заявила М. Чудакова, углубившись в архив Булгакова. Полностью солидаризуясь с этим заявлением, попробуем его уточнить и расширить в сторону этой главы: к полутора революционным годам (1918–1919) прибавим годы ученичества – гимназические и студенческие годы Булгакова, а слово «впечатления» дополним словом «театральные», ибо киевские театральные впечатления воспринимало всего охотней своеобразно ориентированное творческое сознание будущего писателя.
Весь быт Турбиных в «Белой гвардии» пронизан театральными образами – преимущественно оперными, определяющими, прежде всего, театральные склонности и вкусы культурной военной семьи. Пейзаж за окном турбинского дома в начале романа напоминает «Ночь перед Рождеством» – очевидно, не только или даже не столько повесть Гоголя, сколько оперу Римского-Корсакова, ее уютную, мирно-патриархальную декорацию, в которой вот-вот разыграется кровавая оперетка романа. Оперой Турбины словно бы защищаются от оперетки – точно так же, как «кремовыми шторами». Оперные знаки тяготеют к дому и противостоят опереточным знакам города. На рояле у Елены разложены ноты «Фауста»; в ее воспоминаниях проходит тема Лизы из «Пиковой дамы» – все три оперы, заметим, с «чертовщинкой», с потусторонними силами, поданными «всерьез» или иронически, но так или иначе присутствующими (выпадает из этого наметившегося было ряда только ссылка на «Аиду», звучащая в голосе Радамеса-Мышлаевского).
Все эти вещи Турбины (и неоднократно Булгаков) слышали в киевской опере на протяжении 1900-х–1910-х годов. «Саардамский плотник», упоминаемый среди теплых знаков «домашности», был для Булгакова связан, возможно, не только с простодушной повестью П. Р. Фурмана, прочитанной в детстве, но и с оперой Г. А. Лорцинга «Царь-плотник», шедшей на сцене киевского оперного театра с 1908 года («Царь-плотник», быть может, аукнулся в собственном произведении Булгакова на близкую тему – в оперном либретто «Петр Великий»). Ни одно оперное произведение Булгаков не вводит в свой роман «условно» – репертуарные списки киевской оперы подтверждают уважительно точное следование автора за «натурой» – реалиями культурной жизни города.
Булгаков следует за «натурой» (разумеется, изгибая и преломляя ее) даже в таких обстоятельствах, в которых он, казалось бы, может воспользоваться творческой свободой и прибегнуть к вымыслу по любому, самому строгому эстетическому кодексу, – например, в изображении зрительских впечатлений своих героев. За столом у Турбиных идет пьяный разговор – так сказать, последние судороги монархических настроений:
«– На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!.. Я… был на „Павле Первом“… неделю тому назад… – заплетаясь, бормотал Мышлаев-ский, – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: „Верр-но!“ – и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: „Идиот!“»
Даже эта – по всей видимости, сочиненная Булгаковым для своего персонажа зрительская реакция Мышлаевского, – даже она, оказывается, написана «с натуры» и подтверждается объективными свидетельствами. Пьеса Мережковского «Павел Первый» с большим успехом шла в киевском театре «Соловцов» – только эту постановку и мог видеть Мышлаевский. Местная периодика с удивлением отметила редкий по тем временам успех, когда число спектаклей перевалило за двадцать пять. Успех был подтвержден театрами-миниатюр, где представляли пародии на «Павла Первого» (с участием В. Я. Хенкина).
Сочиненная в 1908 году, в ту пору либерально-оппозиционная и даже запрещенная (чем, прежде всего, и был вызван репертуарный интерес к ней после революции), пьеса Мережковского ходом событий была смещена резко вправо. На это осторожно намекал Всеволод Чаговец в своей рецензии на киевский спектакль: «В целом же пьеса значительная, и, вероятно, в свое время могла будить известные настроения. Теперь же все это воспринимается иначе…» Отличие нового восприятия от прежнего рецензент подтверждал реакцией зрительного зала: «… воспринимается иначе, вплоть до того, что когда заговорили на сцене о том, что величие России зиждется только на самодержавии, – в театре раздались, правда, робкие, хлопки»[67]67
Чаговец В. Павел I // Киевская мысль. 1918. 9 апр./27 марта.
[Закрыть]. Вот эти-то «робкие хлопки» и перенес Булгаков на страницы своего романа – в реплику пьяненького, завирающегося Мышлаевского: «кругом зааплодировали».
Киевское происхождение театральных реалий, отсылок и намеков в «Белой гвардии» – неоспоримая очевидность или даже неудобопроизносимая банальность. Театральные знаки «киевского романа» так или иначе соотносятся – должны соотноситься! – с театральной реальностью Киева в изображаемую эпоху. Как-никак, роман исторический, следовательно, принимающий на себя жанровое обязательство: в необходимой и достаточной мере соблюдать локальный (и «темпоральный») колорит. Нет ничего проще, чем показать принадлежность театральных реалий, отсылок или намеков «Белой гвардии» подлинной театральной жизни Киева 1918–1919 гг. Именно так поступают (в большинстве случаев лишь этим ограничиваясь) авторы работ на соответствующую тему: лежащие на поверхности факты собираются для выводов, вполне тривиальных.
Гораздо интересней (попросту сообщительней) разноуровневые отзвуки киевских театральных впечатлений в других вещах Булгакова, скажем, в «московском» и «ершалаимском» романе «Мастер и Маргарита» или даже в московском «Театральном романе», не говоря уже о пьесах, не имеющих по внешним признакам никакого касательства к Киеву. Тем более там, где по смыслу булгаковского текста ничего в этом роде даже не предполагается. И особенно в тех случаях, когда булгаковский текст содержит глубоко упрятанные, для скользящего взгляда не узнаваемые, «превращенные» моменты киевских театральных впечатлений, сознательные аллюзии или бессознательные реминисценции киевского театрального текста, запечатленные не прямым образом – называнием или цитатой, а на уровне коллизии, структуры сюжета и т. д.
Еще в свои гимназические или студенческие годы Булгаков, надо полагать, видел на киевской сцене «Сирано де Бержерака» Э. Ростана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник. Переводчица была дочерью известного киевского адвоката и культурного, прежде всего театрального деятеля, – в глазах киевлян это придавало переводу особый – «киевский», «местный», «свой» – привкус. Будущий «трижды романтический мастер», Булгаков, несомненно, многое вынес из романтического «Сирано». Об этом писал Юрий Олеша в мхатовской многотиражке, когда МХАТ репетировал булгаковского «Мольера» («Кабалу святош»): «Булгаков очень хороший драматург, и все, что выходит из-под его пера, блестяще, талантливо. Не лишена этого свойства и пьеса „Мольер“. Но когда смотришь эту пьесу, нельзя отделаться от воспоминаний о „Сирано де Бержераке“ Ростана. Обе пьесы говорят об одном и том же: поэте и власти. В обеих – горестная судьба поэта и торжество „сильных“. Возможно, что Булгаков, создавая своего „Мольера“, сводил счеты с тем впечатлением, какое в свое время произвела на него замечательная пьеса Ростана…»[68]68
Горьковец. 1936. № 4. 10.
[Закрыть]
Наблюдение Ю. Олеши подтверждает отзвуки пьесы Ростана в других вещах Булгакова (и само подтверждается ими). Диалог об обстоятельствах гибели Сирано (привожу его, опуская имена действующих лиц) своеобразно отозвался в диалоге о возможности случайной гибели на первых же страницах «Мастера и Маргариты»:
– Я шел к нему: он в это время вышел
Из дома своего. Вдруг хлопнуло окно,
И тут я страшный крик услышал.
Я улицу едва перебежал –
Передо мной он весь в крови лежал…
– О подлецы! Но что же это было?
– Должно быть, случай. Страшное бревно
Упало вдруг с окна и голову разбило
Там проходившему случайно Сирано.
– Случайно? Подлецы![69]69
Ростан Э. Пьесы /Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник. М., 1958. С. 379.
[Закрыть]
Смысл диалога ясен: Сирано погибает из-за хорошо подготовленной его врагами «случайности». Случайность как причину гибели своего героя Ростан этим диалогом отводит. Роман Булгакова исключает возможность чьей-либо случайной гибели в принципе. В художественном мире «Мастера и Маргариты» случайность вообще отсутствует. То, что люди в простоте своей принимают за случайность, находится в ведении Воланда – генерального специалиста по этой части.
«– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится…»
Так что замечание Олеши о ростановских впечатлениях Булгакова весьма основательно. Кроме того, наблюдательный Олеша заметил в «Мольере» главную ситуацию всего творчества Булгакова, едва теплящуюся у Ростана, – противостояние поэта, пророка, правдолюбца с «бессудной властью» – и то, что театральные впечатления откладывались в его творчестве не одними лишь прямыми упоминаниями виденных некогда спектаклей, но особым «сведением счетов» со всем некогда виденным в театре. Добавим: сведением счетов со всем театром, со всей культурой вообще.
II
Подмеченную Юрием Олешей у Булгакова, но редуцированную у Ростана ситуацию впечатляюще представляла другая пьеса – шиллеровский «Дон Карлос». «Призыв маркиза Позы „О, дайте людям свободу мысли!“ покрывался бурными аплодисментами зрителей»[70]70
Городиський М. П. Київський театр «Соловцов». К., 1961. С. 71.
[Закрыть], – сообщает историк киевского театра «Соловцов». Его сообщение, строго говоря, не сообщительно: такова была реакция на слова Позы во всех постановках «Дон Карлоса». Демократическая публика с восторгом, словно прозвучавший с подмостков собственный манифест, встречала десятую сцену третьего действия пьесы – ту самую, где в диалоге с королем Филиппом Поза провозглашал необходимость свободы мнений. Нисколько не покушаясь на значительность пьесы в целом, можно утверждать, что «Дон Карлос» ради этой сцены прежде всего и ставился: здесь – идейный пик шиллеровского творения. О роли «Дон Карлоса» в русском духовном развитии – упомянутой сцены прежде всего – следовало бы написать специальное исследование, и странно, если оно не будет написано.
«Дон Карлос» на киевской сцене (с Е. Неделиным – королем Филиппом, И. Шуваловым и Е. Лепковским – маркизом Позой) шел в переводе Михаила Михайловича Достоевского. (Таким образом, не соответствует действительности утверждение исследовательницы: «„Дон Карлос“ в переводе М. М. Достоевского ни разу не представлялся на сцене»[71]71
Коган Г. Ф. Цензурная история «Дон Карлоса» в переводе М. М. Достоевского // Фридрих Шиллер: Статьи и материалы. М., 1966. С. 328.
[Закрыть].) Необходимо предположить, что юный театрал Булгаков видел соловцовскую (антреприза И. Э. Дуван-Торцова) постановку «Дон Карлоса», пользовавшуюся шумным успехом, а знаменитую сцену маркиза Позы с королем Филиппом мог видеть, сверх того, в неоднократно повторявшихся сборных программах театра – в виде концертного номера: «„Дон Карлос“, траг. Шиллера, пер. Достоевского (дана будет 3-го акта 10-я картина). Роль Позы исп. М. Ф. Багров»[72]72
Театральный курьер (Киев). 1912. 30 янв. С. 10.
[Закрыть]. Эта сцена отложилась в творческой памяти будущего писателя особым образом – не столько своим текстом, переведенным довольно сучковато и занозисто, сколько типологически, ситуативно, в виде некоей мелодии, на которую можно «спеть» и другие слова, или же в виде «психологической пантомимы», которую можно разыграть с другими персонажами и текстом.
Ершалаимские (в отличие от московских) главы «Мастера и Маргариты» в литературе принято именовать «евангельскими», и мнимая очевидность происхождения заслоняет тот факт, что в Евангелии нет никакого материала для столь детальной психологической развертки, какую находим в булгаковском романе, например, в сцене Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом. Эта сцена в «Мастере и Маргарите» положена на «мелодию» «Дон Карлоса», ситуативно и психологически развернута по схеме диалога маркиза Позы с королем Филиппом.
Обе ситуации – Позы с Филиппом и Иешуа с Пилатом – подвергают художественному исследованию, в сущности, один и тот же вопрос – о власти. В обоих случаях оказывается, что могущественная власть слаба и чревата предательством: и король, и прокуратор предают своих любимцев. Предают из страха – над королем мировой державы, какой была во времена Филиппа Испания, нависает еще более грозная власть Великого Инкви-зитора; над всесильным, казалось бы, наместником Иудеи – державная власть римского императора. Но чудо, тайна и авторитет власти разрушены мыслью Позы и Иешуа.
Вы видите, как я снимаю с власти
Все тайные покровы, и вам страшно,
Что для меня теперь не свято то,
Чего страшиться перестал я…[73]73
Шиллер Ф. Собр. соч. в пер. рус. писателей / Под ред. Н. В. Гербеля. Изд. 3-е. Т. 3. СПб., 1864. С. 157. (Коллекция Александровской гимназии, ЦНБ, Киев). Перевод «Дон Карлоса», выполненный М. М. Достоевским еще в 1857 году, долгое время печатался с цензурными сокращениями – как раз в десятой сцене третьего действия и в других местах, касающихся маркиза Позы. Полный текст перевода увидел свет лишь в составе названного издания, по которому и приводятся все цитаты из «Дон Карлоса».
[Закрыть]
Булгаков строит сцену между Иешуа и Пилатом в точном соответствии с этими словами Позы: прокуратору страшно из-за того, что нищий бродяга, сняв тайные покровы с власти, перестал ее страшиться. Перед королем и прокуратором предстают два однотипных персонажа – два аутсайдера, бескорыстные и честные до безрассудства. Два «идеалиста» – в том смысле, какой вкладывало в это слово XIX столетие, называя так человека, живущего ради идеи, безраздельно преданного своему идеалу.
«Гражданин мира» Поза освобожден от жесткой национальной прикрепленности своим званием мальтийского рыцаря подобно тому, как вываренный в многонациональном ближневосточном котле Иешуа – своей безродно-стью и полиглотством, и оба они говорят с владыками от имени человека «вообще» и общечеловеческих идеалов. Излагая перед ликом «бессудной власти» эти идеалы, они не испрашивают ничего для себя лично, да и не могут ничего получить, кроме гибельной опасности. Поэтому король поначалу берется защитить Позу от инквизиции, Пилат – защитить Иешуа от Синедриона. Они и впрямь нуждаются в защите, ибо то и дело забывают об уязвимости своей «материи», когда говорят об идеалах, – словно дети, не ведающие страха. Поэтому очень выразительно детское простодушие Иешуа и то, что увлеченность Позы король оправдывает его молодостью. В обоих случаях – типичная позиция и поведение пророка, чья «должность» в том и состоит, чтобы любой ценой высказать правду, даже ценой собственной жизни. Пророк может одержать только нравственную победу, и ее вероятность – в готовности бескомпромиссно и самоотверженно идти до конца. Попытка уклониться равносильна поражению.
Вся сцена Иешуа с Пилатом (до известных пределов) разворачивается как бы «по программе» сцены Позы с Филиппом. Внутреннее развитие обеих сцен, их психологическое содержание – в переходе властителя от самоуверенности, основанной на мнимом знании людей, к ошеломленности, вызванной встречей с таким человеком. Владыки поражены глубоко серьезным, внеэтикетным, жертвенным благородством своих собеседников. Жестко – чтобы не сказать жестоко – властные, привыкшие к лести, заискиванию, угодливости, Филипп и Пилат впервые встречаются с людьми, которые – как равные равным – сообщают им безусловно запретную правду. «Я еще не знал такого человека», – признается самому себе Филипп. Пилат тоже еще не знал такого человека: «Впервые слышу об этом», – пытается он иронизировать, но не может скрыть свою растерянность.
Король и прокуратор, два усталых циника, изверившиеся в людях, сталкиваются с двумя одержимыми идеалистами, горячо верующими в добро и в человека. Вера Позы так велика, что он и короля объявляет добрым: «Ведь от природы вы добры», – на что следует иронический вопрос Филиппа: «Кто ж вас в том так уверил?». Насмешливый скепсис короля обоснован – король знает себя и осведомлен о своей репутации. Точно так же Иешуа называет «добрым человеком» Пилата, а тот не без горькой иронии возражает: «Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно…». Прокуратор прямо проговаривает то, что король только подразумевает. Пилат идет дальше – он знакомит Иешуа с Марком Крысобоем. Но грубый кусок почти бездушной материи, заведомый палач Марк для Иешуа тоже добрый, «правда, несчастный человек» – то есть «добрый от природы», как говорил маркиз Поза.
Философствующий рыцарь и бродячий философ отличаются от всех людей, стоявших когда-либо перед Филиппом и Пилатом, высочайшей духовностью – дивным умением переживать все муки мира как свои собственные, и человечностью – изумительным даром понимания другого человека как самого себя. Никто никогда не отваживался коснуться внутреннего мира Филиппа и Пилата, заговорить с ними об их интимной душевной жизни, догадаться о сокровенной скорби, терзающей короля и прокуратора. Поза и Иешуа – отваживаются, и эффект этого, в сущности, простого человеческого поступка – сокрушителен. Признание Филиппа: «Клянусь, он проникает в душу мне!» – означает перелом в рискованном диалоге. То же мог бы сказать и Пилат – проницательность бродячего философа круто меняет отношения и весь ход сцены.
Одиночество властителя – вот та сокровенная скорбь, в которой король и прокуратор – торжественные символы власти – не признаются даже самим себе, человеку Филиппу и человеку Пилату. С легкостью догадываясь, с уверенностью сообщая властителям об их одиночестве, Поза и Иешуа становятся – почти нечаянно – воплощениями совести, духовными врачевателями, без которых король и прокуратор уже не могут обойтись. Нынешним читателям хорошо памятен этот эпизод из главы «Понтий Пилат» булгаковского романа. В переводе «Дон Карлоса», выполненном М. М. Достоевским, соответствующее место выглядит – на первый взгляд – не слишком выразительно. Поза упрекает короля в том, что, неслыханно возвысившись над людьми, он тем самым отъединился от них и обрек себя на одиночество:
Человека
Вы сделали лишь клавишью своею:
Кому же созвучьем с вами поделиться?
Гораздо резче эта мысль выражена в другом месте шиллеровской пьесы – в реплике принца Карлоса, друга Позы, его единомышленника и отчасти даже двойника. Принц говорит королю-отцу: «Мне ужасно подумать, что и я на троне буду стоять один… один…» Согласно ремарке, Филипп, «пораженный этими словами, стоит в глубоком размышлении», а затем, «после некоторого молчания», потрясенно подтверждает: «Да, я один…» Двойничество Позы и Карлоса скрепляет дублирующие друг друга эпизоды в общий мотив, который, по-видимому, и был на свой лад воспроизведен Булгаковым: «Ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон…»
Оба – Иешуа и Поза – напоминают владыкам о суде грядущих поколений. «И если вам так хорошо известно, как обо мне судить потомство будет…» – иронизирует Филипп; Пилату не до иронии, им овладевает таинственная уверенность, что потомство будет судить его – именно так, как сказал нищий философ. Поза для короля – «странный мечтатель», речи Иешуа для прокуратора – «утопические» (бросается в глаза преднамеренный анахронизм этого определения в устах Пилата). Поза предрекает, что век Филиппа сменится другим и тогда
Родится мудрость кроткая, и счастье
Граждан в согласье с троном уживется;
Престол народом будет дорожить
И укротит свой меч необходимость…
Иешуа идет в своем пророчестве гораздо дальше, ему видится не просвещенная монархия, а времена гармонии столь полной, что всякая власть станет излишней. Но утопическое напряжение, пророческий пафос и драматическая функция уравнивают говорящих о будущем Позу и Иешуа: ни король, ни прокуратор дальше слушать не желают. Уверенность Иешуа в том, что «настанет царство истины», вызывает яростный крик Пилата: «Оно никогда не настанет!» Точно так же – «Ни слова более!» – обрывает Филипп Позу: утопии странного мечтателя никогда не сбудутся, и он сам поймет это, когда получше узнает людей.
Количество разного уровня совпадений – ситуативных, структурных, текстуальных, широта поля этих совпадений и их последовательность убеждают в том, что сцена между Пилатом и Иешуа как бы «положена на музыку» знаменитой сцены между королем Филиппом и маркизом Позой, написана как бы поверх текста «Дон Карлоса», хорошо известного Булгакову в живом исполнении на подмостках театра «Соловцов». В основе диалога между игемоном и пророком – шиллеровская модель, замещающая недостающий евангельский материал.
И еще одно – знаменательное – совпадение: в репликах Позы, как и в репликах Иешуа, возникает вопрос об истине, напоминая, что у этих образов есть общий источник, тот самый, где великому вопросу «Что есть истина?» придан циничный смысл, ставящий под сомнение несомненное. Отталкиваясь от этого общего источника, Булгаков мог использовать шиллеровскую типологию для создания своего Иешуа. Ведь и Ф. М. Достоевский опирался на «Дон Карлоса», когда, создавая своего Великого Инквизитора, соединял Шиллера и Евангелие. Таким образом, от шиллеровской пьесы тянутся связи к двум знаменитым русским мистериям – вставному рассказу в романе Ф. М. Достоевского и новозаветным (тоже как бы «вставным») главам в романе М. А. Булгакова.