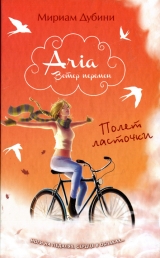
Текст книги "Полет ласточки"
Автор книги: Мириам Дубини
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Ты кого-то ищешь?
Чем питаются ласточки? Эмилиано не знал. Если бы бабушка была жива, она бы обязательно ему сказала. Под крышей ее дома прятались два гнезда, и каждый год ласточки возвращались в них, чтобы сообщить о новой весне. Бабушка их ждала. Готовила газетные листы и устилала ими пол под гнездами, чтобы птицы не испачкали коридоры Змеюки своими экскрементами. Она складывала газеты в несколько слоев и придавливала их вазами с цветами. Бабушка делала это каждый год, по крайней мере сколько он помнил. Дом разваливался на части, а она заботилась о том, чтобы содержать в чистоте лестничную площадку.
В чистоте и в цветах.
– Для ласточек. Когда они вернутся, – объяснила она внуку одним весенним днем.
Зимой бабушка скучала по своим ласточкам, поэтому и купила себе булавку. Обычно подарки ей делали внуки, дети, а иногда и муж, мир праху его. На Рождество или на ее день рождения. Каждый раз, разворачивая упаковку, она повторяла:
– Не стоило так тратиться.
Но потом, оборачивая ленточку вокруг пальца и складывая бумагу, чтобы сохранить для других подарков, бабушка тайком улыбалась. Булавка в виде ласточки была единственным подарком, который она купила себе сама. В первый день рождения без покойного мужа, мир праху его.
Эмилиано шел к старой бабушкиной квартире, пытаясь разглядеть гнезда ласточек в углах растрескавшегося потолка. Выключенные неоновые фонари, покрытые коркой времени, задавали ритм его блуждающему взгляду, нависая над одинаковыми дверями, как кривые знаки препинания в забытой истории. Эмилиано подошел к входу с таким чувством, будто все время двигался назад, в направлении, противоположном цели, и вдруг оказался в незнакомом месте. Гнезд не было. Ваз тоже. В пластиковых контейнерах распустились другие цветы, но ласточки не вернулись.
– Ты кого-то ищешь? – спросил женский голос за его спиной.
Эмилиано только теперь понял, что слишком долго рассматривал пустой потолок. С ним заговорила лучшая подруга его бабушки. Полосатый халат, застегнутый на груди рядом выцветших пластиковых пуговиц, и улыбка, как морщина среди других морщин, только более мягкая.
Я ищу ласточек. Что едят ласточки?
– Нет.
Он все смотрел на нее, вспоминая запах кофе и печений, которыми она их угощала, когда Эмилиано с бабушкой забегали к ней на минутку поздороваться, а именно – каждый вечер на протяжении нескольких лет. Он прекрасно помнил те печенья: пудра и масло. А она не помнила ничего.
– Кого ты ищешь, мальчик?
Старики всех считают детьми, а дети всех считают стариками. Эмилиано решил, что ему здесь нечего делать.
И улыбнулся из вежливости:
– Никого, я ошибся дверью.
Он вернулся обратно той же дорогой, по которой пришел, проплыв перед синьорой, прищурившей подслеповатые глаза, чтобы навести фокус на темный ускользающий силуэт.
– Это ты! Ты вернулся… – обрадовалась вдруг старушка. – Заходи, я угощу тебя кофе с печеньями.
– Спасибо, но я спешу… у меня сегодня много дел… – попытался отказаться Эмилиано.
Бабушкина подруга ухватила его за руку и потянула в дом. А у него не хватило духу сбежать.
Тихая гостиная. Удушающий полумрак тяжелых штор, сдвинутых на окнах. Зеленый диван из потертого бархата и связанная крючком салфетка в центре стола. Все как тогда. Когда рядом с ним сидела бабушка.
– Твоя бабушка всегда говорила, что ты вернешься, – сказала хозяйка, ставя на огонь кофеварку.
Вместе с ее голосом из кухни донеслись прерывистые щелчки искр в разожженной конфорке. За ними последовал шелест пламени. Через пару минут старушка внесла в гостиную поднос с печеньями и двумя звенящими друг о друга чашками. Она села напротив Эмилиано и посмотрела на него с расстояния в сотню световых лет. Из места, куда попадают после смерти.
– Ты хороший мальчик. Она всегда так говорила. Твоя бабушка.
Эмилиано от стыда опустил глаза:
– Она меня очень любила.
– Она тебя хорошо знала.
Неправда. Бабушка ничего о нем не знала. А то, что знала, было ложью. Тоннами лжи, которые он ей рассказывал с того дня, как украл у нее булавку. Эмилиано нащупал ее в кармане куртки и крепко сжал в кулаке.
– Что у тебя в кармане? – вдруг спросила старушка.
Он похолодел.
– Ты ее принес?
– Что?
– Булавку. Ласточку.
Нет. Не может быть. Как она догадалась?
– Она хорошо тебя знала. И всегда говорила, что в конце концов ты вернешься. И принесешь булавку обратно.
Эмилиано показалось, что Змеюка падает ему на грудь, а шторы в гостиной сжимаются вокруг горла. Он ухватился за крылья ласточки и почувствовал, как шипы хвоста впиваются в ладонь.
– Я скучаю по ней, – сказал он с грустью.
– Я тоже.
– Я не успел… Не успел сказать ей правду… А теперь уже поздно…
На кухне шипел кофе. Старушка вытянула руку и погладила Эмилиано по голове:
– Нет, мой мальчик, не поздно.
Он и вправду был мальчиком. Маленьким мальчиком в неправильном мире. В котором никто не мог ответить на его вопросы.
– Чем питаются ласточки?
На лице старушки появилась выцветшая улыбка:
– Не знаю… Я забыла.
Она поднялась и быстро засеменила на кухню. Выключила плиту и взялась за ручку кофеварки обгоревшей по краям прихваткой. Когда она вернулась в гостиную, Эмилиано там уже не было.
Миланцы называют этот переулок переулком Прачек. Но они ошибаются. Прачек на этой короткой мощеной улице до недавнего времени не было вовсе. С XVIII века стиркой белья здесь всегда занимались мужчины. Они делали это почти два столетия, пока не попросили своих жен сменить их. Семьи «прачей» жили только в этом районе и стирали белье всему городу. Мужчины объединились в собственный цех, который и дал название переулку.
Старинная прачечная на углу прекрасно сохранилась. Огромное белокаменное корыто, увенчанное невысоким навесом из темного дерева и красной черепицы. На насыпи – ступенька, на которой преклоняли колени, чтобы удобнее было стирать, а рядом лавка, где продавали горячую воду и мыло «для бедных». Его делали из свиного жира и пепла. Оно плохо смывало грязь и издавало крайне неприятный запах. Но белье пахло хорошо. Оставленное сохнуть на лугах, некогда окружавших этот район, оно быстро впитывало аромат воздуха, которым дышал старый Милан. Милан, которого больше нет.
Но каналы Навильи пока есть, по крайней мере Большой Навильо и Дарсена. В них по-прежнему бежит темная вода, повинуясь суровой искусственной геометрии. Через послушную, вытянутую в линию воду перекинуты маленькие мосты из кованого железа. Словно очерчивая светлые веки под черной короной наклеенных ресниц. По обеим сторонам каналов выстроились дома: последние лет двадцать их постоянно подновляют, и они кажутся подрумяненными щеками с умело и строго наложенной краской. Первые этажи почти во всех домах занимают кафе, рестораны и магазины для людей со вкусом, сверкающие, как слишком яркая помада на силиконовых губах самого престижного района Милана. Люди, которые живут в этих домах, не стирают белье руками. Ни мужчины, ни женщины. Они либо относят его в прачечную, либо велят домработнице запустить стиральную машину. Для них прачечная в переулке Прачек – лишь очередной типичный утолок этого района, время в котором, по их словам, остановилось.
Ансельмо посмотрел на черно-белый снимок прачечной, висевший в магазине Дзено. Потом на настоящую прачечную за дверью, прямо напротив него. Время и не думало останавливаться, и цветной оригинал был намного печальнее снимка.
С навеса свешивались кусты красной герани, вопрошавшие сами себя, как жестокая рука вырвала их из тирольских Доломитов,[9]9
Доломитовые Альпы – горный массив в Восточных Альпах, на северо-востоке Италии. Название горам дал минерал доломит, из которого они в значительной степени состоят.
[Закрыть] где им бы следовало расти. Воду окружали металлические цепи, как будто это было не корыто, а заколдованный колодец, в котором обитало коварное существо, готовое разорвать на куски любого, кто приблизится к прачечной. У входов в соседние бары грудились столики и стулья, тщеславно отражаясь в прямоугольнике воды. А еще кругом были собаки, много собак. Привязанных к поводку цивилизованных горожан, у которых всегда наготове целлофановый пакетик, куда они складывают отходы жизнедеятельности своих четвероногих друзей. Пока собаки занимались своими делами, хозяева мило болтали друг с другом с таким видом, будто ждали чашку кофе в баре, а не собачьих экскрементов.
И только женщины на черно-белом снимке ничего не ждали. Они терли тряпки в корыте и поднимали ведра с клубами пара. Белые цветы распустились меж камней, отшлифованных их длинными юбками, а у собак не было ни хозяев, ни поводков.
– Видишь вот эту женщину? – спросил Дзено, указывая на прачку в фартуке.
– Да.
– Хорошо тебе. А у меня глаза устали, – сказал он, потирая веки пальцами. – Слишком много неба. Слишком много света. Я почти ничего не вижу.
Дзено смотрел на Ансельмо серьезными, немного красными глазами, уверенный в том, что юноша его понимает.
– Кто она? – спросил Ансельмо о прачке на фотографии.
– Ее звали Ада, а это был ее велосипед.
Дзено положил руку на массивный руль тяжеленного велосипеда с колесами из сплошной шины. Его худое, чисто выбритое лицо осветилось воспоминанием о счастье, которое нарисовало на мягких губах полумесяц улыбки. Он был старше Гвидо, но выглядел моложе своих лет. Под кожей, на которой время оставило четкие следы, еще угадывались тугие струны мышц. Над голубыми глазами парили почти незаметные густые пепельно-белые брови, предоставляя воображению дорисовать, каким было это лицо в молодости.
Гвидо склонился над железной рамой старого велосипеда, провел пальцем по кожаному сиденью и стер пыль с памяти о давно прошедших годах. Он повернулся к сыну, и Ансельмо понял, что отец готов рассказать ему историю, о которой так долго молчал.
– Дзено был моим тренером, когда я занимался спортом. Он ездил очень быстро. Намного быстрее меня, но не хотел участвовать в соревнованиях.
Гвидо поднялся и посмотрел на старого друга.
– Мы не ездим, мы летаем, – поправил его Дзено. – Было бы не очень честно соревноваться с вами. Давайте-ка присядем.
Он взял три складных стула и поставил их у входа, освещенного теплыми лучами золотистого закатного солнца.
– Мне было двадцать лет, я жил здесь, в Милане, – начал Гвидо. – Я приехал сюда учиться в университете, но учеба меня не очень увлекала.
Дзено опустил взгляд, сдерживая лукавую улыбку.
– Зато у меня был велосипед. Я очень скучал по Риму и решил получше узнать этот новый город, чтобы освоиться в нем, начать запоминать улицы. Пешком я ходил очень медленно. И я купил себе гоночный велосипед. Вначале это было просто увлечение, но потом…
Ансельмо смотрел на отца изумленными глазами – он никогда не слышал от Гвидо таких длинных монологов.
– Мне было по-настоящему хорошо, только когда я ехал на велосипеде. Мир вокруг меня двигался с нужной скоростью. Его предметы возникали, давали на себя посмотреть и уходили, уступая место новым.
Ансельмо было хорошо знакомо это чувство.
– Когда я слезал с велосипеда, мир снова становился медленным. Слишком медленным.
Точно. Очень хорошо подмечено.
– Твой отец был дьяволом! – вставил миланец. – Он носился как сумасшедший. И всегда забывал про тормоза.
Они рассмеялись. Громче всех смеялся Ансельмо. С каждым словом он находил в истории отца что-то от самого себя.
– И однажды он таки врезался в трамвай, – укоризненно начал Дзено.
– Я ехал вниз с крутого спуска, – оправдывался Гвидо, – и угодил ему прямо в нос. Этот трамвай сломал мой велосипед.
– Он приехал в мою мастерскую мрачнее тучи. У него не было ни одной лиры, чтобы заплатить за ремонт, и при этом он дня не мог прожить без велосипеда. Я ему сказал: «Раз у тебя нет денег, чини свой велосипед сам. Я покажу тебе, как это делается. Потом поможешь мне немного в мастерской – и мы в расчете».
– Я, конечно, тут же согласился.
– И тебе понравилось.
– Еще как, – подтвердил Ансельмо, – он тридцать лет только этим и занимается…
Гвидо и Дзено молчали, одновременно задумавшись над одной и той же мыслью. О времени, которое проходит. О вещах, которые меняются. И о тех, которые не меняются.
– А когда ты решил начать тренироваться для гонок? – прервал молчание друзей Ансельмо.
– Он решил?! Это я его заставил, – уточнил Дзено.
– Зачем?
– Затем, что в нем была пружина. Я это сразу понял, как только увидел, как он сел на свой гоночный велосипед, который мы кое-как починили. Я увидел в нем напористость, то, что умные люди называют волей к победе. Твой отец выиграл много кубков. Ты знаешь об этом?
Ансельмо знал.
– Это значит, я не ошибся, – заключил Дзено.
– Главное, ты не ошибся, когда увидел то, чего мне не хватало. И научил меня этому.
Дзено кивнул:
– Смиренность победителя.
Что-то в этой фразе было не так. Как будто эти два слова не могли, но должны были стоять рядом.
– Меня научил ей этот велосипед, – добавил Гвидо, показывая на старый велосипед Ады на фотографии.
– На таком тяжелом велосипеде не погоняешь. На нем можно двигаться только очень медленно. С большим трудом. Такое запоминаешь надолго, – объяснил Дзено.
Гвидо посмотрел на сына, будто эта фраза предназначалась ему. Ансельмо сделал вид, что не понял взгляда отца, и задал новый вопрос:
– А кто эта женщина на фотографии?
– Моя любовь, – просто ответил Дзено, потом, не меняя интонации, добавил: – Она умерла.
– Я… мне очень жаль, я не знал… я не хотел… – пробормотал Ансельмо.
– Жалеть совершенно не о чем. Она была прекрасна как роза, и каждый день, проведенный с ней, был праздником.
Дзено провел рукой по гладкому черепу и посмотрел на солнце, уходившее за крыши. Поверхность канала пошла легкой рябью от неожиданного порыва ветра.
– Это было очень давно. Я тогда только познакомился с твоим отцом.
Фиолетовые сумерки проникли в магазин вместе с ветром, который дул все сильнее.
– Ты видишь эту желтую полоску? Вон там, между труб? – неожиданно спросил Дзено.
Ансельмо вздрогнул.
– Это послание. Если его вижу даже я, значит, оно очень сильное, – вслух размышлял учитель, потом процитировал: – «Желтый, чтобы осушить слезы».
Та самая полоска, которую он видел с Гретой и которая потом пропала. Она дотянулась до него из Рима. Ансельмо был уверен в этом, но он по-прежнему не видел ее.
– Это сообщение для меня, но я его не вижу, – грустно признался он.
– Я тоже не мог читать небо, когда рядом была она. Это невозможно.
Ансельмо почувствовал пустоту в животе.
– Потом, когда я остался один, дар вернулся.
Легкое мимолетное облегчение. Потом снова пустота. Страх узнать, ужас услышать ответ, который разрушит его надежды как карточный домик. Но Ансельмо набрался смелости и спросил:
– Что я должен сделать?
– Много чего, посланник. Первое – узнать ветер, второе – выбрать направление, третье – начать тренироваться.
– Не понимаю.
– Поймешь. Отец поможет тебе. Как он помог мне. Я потерял ее и нашел друга.
Друга?
Ему не нужен друг. Ему нужна Грета, он не хотел ее терять. Это бессмысленно. Ради чего? Она не умерла. А он не старик.
В мире есть и другие посланники, вот пусть они и бегают за судьбой. С него довольно.
Ему вдруг нестерпимо захотелось сесть на велосипед. Он вскочил на ноги и посмотрел на стоящие вдоль стен велосипеды:
– Можно мне взять один?
Он не стал дожидаться ответа. Схватил первый попавшийся и сел в седло. Грета бы сделала то же самое, подумал он. Удаляясь от магазина, Ансельмо услышал, как кто-то – не то Гвидо, не то Дзено – громко напутствовал его в спину:
– Иногда бывает так, что ищешь человека, а находишь дорогу.
Теперь надо было заняться делами. У него было много дел. Он столько времени потратил даром. Эмилиано быстро сбежал по лестнице, сел на мотоцикл и поехал вперед, не сводя глаз с дороги и мысленно перечисляя встречи, на которые он должен был успеть за вечер. Сначала Мао и Штанга: забрать их выручку за выходные. Потом поговорить с Малышом. Потом… Он остановился на светофоре у подножия холма и смотрел, как заскучавшие машины рванули с перекрестка. Становилось жарко, от асфальта медленно поднимался раскаленный пар, воздух вокруг его мотоцикла дрожал.
Неожиданно в этом знойном мерцании, наполненном выхлопными газами, Эмилиано заметил рыжий лоскут, мелькнувший в равнодушном потоке машин.
Девочка с золотой цепочкой. Принцесса, как назвал ее Мао.
Она была вместе с подругами и каким-то мужчиной, который вел машину. Их всех тут же унесла волна отравленного моря автомобилей, и осталась только эта рыжеволосая девочка. Она замерла в его глазах ровно на три секунды.
Красивая – раз. Гордая – два. Недоступная – три.
Когда они встретились в первый раз, она бросила в него камень и промахнулась. Тогда сбежала она. Во второй раз сбежал он. И оба раза он даже не посмотрел на нее. Но сделал это сегодня. По причинам, которые никто не смог бы назвать, а назвав, совершил бы ошибку.
Он посмотрел на нее – и увидел далекий пылающий континент. Рыжий и одинокий.
Она не случайно вернулась в этот район. Должна была быть какая-то причина. Эмилиано хотел знать какая.
– Подождешь нас здесь? – спросила Лючия, поворачиваясь к Чезаре.
– Да-да, с включенным двигателем, чтобы успеть сбежать, – пошутил брат, словно они собирались ограбить банк.
Лючия шутки не поняла, Эмма улыбнулась и вышла из машины, Грета последовала за ней без тени улыбки на лице. Ей не нравилось, что ее подруги оказались в этой части города. Они были здесь совсем чужими, и она чувствовала себя неловко. Лючия уже смотрела по сторонам с таким видом, будто только что приземлилась на неизвестную планету, и у Греты было четкое ощущение, что паинька сейчас обязательно произнесет нечто, что выведет ее из себя.
– А-бал-деть! А где тротуары? – минута в минуту спросила Лючия.
Почему в жизни все так предсказуемо?
– Они все у вас в центре, – резко ответила аборигенка Корвиале и вслед за Эммой исчезла за пластиковой занавеской прачечной.
– Добрый день. Могу я поговорить с хозяином?
Эмма сказала это, даже не взглянув на того, к кому был обращен ее вопрос. Словно это был единственно правильный способ начать расследование, вне зависимости от людей и обстоятельств. Ей очень быстро пришлось признать, что она ошибалась.
– Сдавать или забирать? – спросил сингалец, державший на руках крохотного младенца.
– Нет, вы не поняли, – начала Эмма, приложив руку к груди. – Нам не надо ничего стирать. Мы ищем… – Она вплотную подошла к стойке, за которой стоял мужчина, и продолжила заговорщическим шепотом: —…ищем одну вещь, которую мы недавно потеряли.
Сингалец, не моргая, смотрел на Эмму.
– Может, вы нашли ее… – попробовала она еще раз.
Мужчина продолжал смотреть на нее черными, как глубокий колодец, глазами.
– Вы поможете нам ее найти?
Стеклянный взгляд и никакой реакции.
– Все понятно, – заключила Эмма, раскрыв сумочку из цветастой ткани и вынув из нее банкноту в пятьдесят евро. Она положила деньги на стол и легонько подтолкнула их к сенегальцу, не сводя с него внимательных глаз.
– Мы ищем булавку…
Младенец начал плакать. Его темная кожа стала фиолетовой, а резкий голос разорвал тишину с невероятной для столь маленьких легких силой. Было понятно, что закончит он не скоро. Сингалец неуверенно покачал головой. Разместил сына поудобнее, положив одну руку ему под голову, другую вдоль спины, и стал укачивать его, напевая колыбельную на непонятном языке.
Эмма фыркнула и прошептала, повернувшись к подругам:
– Он не понимает ни слова.
– Что за булавка? – спросил мужской голос у нее за спиной.
– В форме ласточки. Знаете, такие черные птички… – принялась описывать Лючия, отчетливо и громко произнося каждое слово.
– Я знаю, как выглядят ласточки, – перебил ее сингалец.
– Вы видели эту булавку? – подбодрила его Эмма, придвигая банкноту ближе.
– Я ничего не видел.
Мужчина оторвал взгляд от денег. Ребенок перестал плакать.
Эмма смотрела на них, уперев руки в боки. Потом опустила голову и стала рассматривать геометрические узоры на плитке, словно искала среди линий и черточек способ заставить упрямца говорить. И тут она увидела тень, вытянувшуюся на полу. Кто-то входил в прачечную. Какой-то мужчина. Нет, парень. Мотоциклист.
Эмма вздрогнула, посмотрела на хозяина прачечной и заметила, что ему тоже страшно.
Эмилиано пересек маленькую комнату, переводя взгляд с банкноты на стойке на сингальца, с сингальца на Эмму:
– Дай ему еще пятьдесят.
Эмма не двигалась, окаменев от страха.
– Эмма? – осторожно позвала ее Лючия.
– Да-да, конечно.
Она снова открыла сумочку, потом кошелек, достала деньги и положила на стойку. Сингалец посмотрел на Эмилиано, словно спрашивая разрешения. Мотоциклист резко поднял голову, сощурив глаза в две узкие щелочки, в которых потерялись зрачки.
– Это булавка Малыша, – признался сингалец.
Эмма увидела, как резко дрогнул мускул на шее Эмилиано – там, где голая кожа оставалась незащищенной черной мотоциклетной броней. Голова тоже как-то нервно дернулась. Почти незаметно. Потом он взял себя в руки и посмотрел на сына сингальца:
– Какой милый малыш.
Эмилиано приласкал мальчика, и тот снова отчаянно зарыдал.
– Ш-ш-ш-ш, тихо, тихо. Будь умницей.
Эмилиано перевел взгляд с ребенка на сингальца и заговорил более низким голосом:
– Ш-ш-ш-ш, ну тихо, тихо. Ты тоже будь умницей. Будешь умницей?
Мужчина часто закивал головой, словно хотел сказать тысячу раз «да».
– Хорошо, – одобрил Эмилиано.
Потом резко повернулся, скрипнув сапогами. Едва коснулся взглядом Эммы, скользнул по веснушкам на ее скулах и чуть не потерял равновесие. Никто ничего не заметил. Эмилиано вышел из прачечной, не сказав больше ни слова.
– Ты куда? – за порогом его остановила Грета. – Что это значит? Кто такой Малыш?
Эмилиано резко одернул ее руку:
– Отстань, Грета.
– Отстану, если вернешь мне дневник.
Он ее даже не слушал.
– У нас уговор, – настаивала Грета.
– У нас с тобой?
Грета замерла.
– Я тебе пожимал руку?
– Нет.
– Значит, у нас с тобой нет никакого уговора.
Все правильно. Уговор был с Ансельмо, но Ансельмо здесь не было.
– Ты ведь говорил…
– Где твой ангел-хранитель? – резко перебил ее Эмилиано.
Грета сжала зубы и опустила глаза.
– Ясно. Ты ему уже надоела.
Грета почувствовала сильное желание наброситься на него и как следует поколотить. Сухожилия напряглись, ладони сжались в кулаки.
– Забудь его. Он все равно не вернется. Никто не возвращается.
– Уходи, – прорычала Грета.
– Именно это я и делаю.
Грета тут же раскаялась в том, что только что сказала. Он не должен вот так уйти. Она ему не позволит. У него теперь есть верный след. Он сам сможет найти владельца булавки, без их помощи, и если это случится, он никогда не вернет дневник. Она была в этом уверена. И рванулась вперед, чтобы остановить его, но что-то пригвоздило ее к земле. Что-то сильнее ее. То, что зовется «мы».
– Все хорошо? – спросил Чезаре, наблюдавший всю сцену стоя у машины и спрашивая себя, следует ему вмешаться или пока можно подождать.
– Хорошо, – заверила его Эмма, быстро сев в автомобиль и захлопнув дверь. – Поехали.
Лючия в точности повторила ее движения.
А Грета все смотрела на темный силуэт Эмилиано, который сливался с силуэтом мотоцикла и ускользал от нее в потоке машин. Ему придется сдержать слово. Она не знала как. Все равно как. Но он должен будет его сдержать.
– Я домой, – сказала Грета, прощаясь с подругами.
Машина Чезаре покатила вперед.
Грета перешла дорогу без тротуаров, как Ансельмо устремив глаза в небо, где ветер ткал свои таинственные и невидимые узоры.








