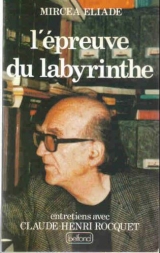
Текст книги "Испытание лабиринтом: беседы с Клодом–Анри Роке"
Автор книги: Мирча Элиаде
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Нечто о поэтичности Индии
– Ваш индийский опыт запечатлен не только в эссе, но и в прозе: «Серампорские ночи», «Майтрейи»… И в романе «Изабель и воды дьявола», на французский не переведенном, который вы, по вашим словам, написали, чтобы спасти себя во время полного погружения в санскрит.
– Да, по истечении пяти или шести месяцев штудирования санскритской грамматики и индийской философии я застопорился. Меня одолел один замысел. Дело было в Дарджилинге, и я принялся за роман – как бы из своей жизни, но во многом додуманный. Я был одержим этим фантомным миром, я ушел в него и разобрал его по косточкам. Роман написался в считанные недели. Я восстановил здоровье и равновесие.
– Там представлен румынский юноша, который колесит по Цейлону, потом прибывает в Калькутту и встречает дьявола…
– Прибывает в Калькутту, останавливается в английском пансионе – в таком же, в каком жил я. Дом населен молодыми людьми и девушками, которых обуревает множество проблем. При этом – присутствие «дьявола» и соответствующие события, поскольку главный герой «дьяволом» остро интересуется…
– В «Серампорских ночах», как и в «Загадке доктора Хонигбергера», тоже не без фантастики…
– Обе эти новеллы я написал десятью годами позже. Между «Изабель» и ими есть еще один роман, более или менее автобиографический, «Майтрейи».
– Я бы хотел поподробнее остановиться на «Серампорских ночах». В какой степени можно принять на веру факты, о которых там идет речь? Персонажи, вдруг оказавшиеся в давно минувшем времени… Чистый вымысел? Или вы некоторым образом в это верите? Ведь иногда, не правда ли, мы слышим об очень странных происшествиях – причем из уст людей, достойных всяческого доверия…
– Я верю в реальность опытов «выхода из времени» и «выхода из пространства». За последние годы я написал несколько новелл, где рассматривается именно возможность выпасть из данного исторического момента или попасть в другое пространство, как это случилось с Зерленди. Описывая йогические упражнения Зерленди в «Загадке доктора Хонигбергера», я вставил туда кое–какие рекомендации, которые основаны на моем собственном опыте и которые я обошел молчанием в моих книгах о йоге. В то же время я подпустил тумана – нарочно, чтобы закамуфлировать реальные сведения. Например, я пишу про Серампорский лес, а в Серампоре леса нет вообще. Поэтому, если кому‑то захочется in concreto проверить место действия, он увидит, что автор написал отнюдь не отчет о событиях, поскольку пейзаж – вымышленный. Тогда он логично заключит, что и остальное вымышлено, придумано, – и ошибется.
– Вы думаете, то, что происходит с персонажами «Серампорских ночей», действительно может случиться в жизни?
– Может, в том смысле, что наши ощущения бывают иногда настолько убедительны, что мы просто вынуждены им верить…
– У вас какой‑то дьявольский дар ошарашивать публику посреди рассказа, так что она теряет способность различать, где правда, где ложь, где правое, где левое.
– Согласен. И полагаю, что это и есть специфика хотя бы части моей прозы.
– Есть какое‑то ехидство в удовольствии сбивать с толку читателя, вы так не считаете?
– А может, это своего рода педагогика; не следует предлагать ему абсолютно прозрачную историю.
– Педагогика и пристрастие к лабиринтам?
– Да, к испытаниям сродни инициации.
– Оставим вашего читателя у входа в лабиринт – на опушке Серампорского леса и в индологической библиотеке Зерленди. Зато в «Майтрейи» нет ничего фантастического. Что меня трогает больше всего, когда я думаю об этой книге – а это книга, о которой надо думать, потому что она раскрывается не столько при чтении, сколько потом, при мысленном ее припоминании, – так вот, что сильнее всего меня трогает, это образ героини, которая есть само желание во плоти. Роман ведь очень прост, но искус ее красоты – как на фресках Аджанты, как в эротической индийской поэзии – это свет и ожог… Какой вам кажется книга сейчас, из дали времен?
– Вы же понимаете, роман наполовину автобиографический, а значит…
– Значит, вы хотите окутать молчанием не только секреты гнозиса, но и секреты сердца… Однако, раз уж я упомянул аджантские фрески, – кто‑нибудь уже сравнивал образ Майтрейи, во всей его чувственности, с этими фресками? И каково было ваше мнение на сей счет?
– Да, такое говорилось. А в прекрасном письме, которое мне прислал по прочтении романа Гастон Башляр, он назвал это «мифологией чувственности». Хорошее определение, по–моему, поскольку чувственность там в некотором смысле действительно преображена…
– Ваши слова перекликаются с записью в вашем же «Дневнике» от 5 апреля 1947 года в связи с аджантскими фресками. Вы пишете: «Сколько чувственности в этих сказочных картинках, что за неожиданное значение придается женскому началу! Каково было буддийскому монаху «освобождаться» от искушений плоти в окружении всего этого великолепия победоносной наготы? Только тантрическая версия буддизма могла допустить такую хвалу женщине и чувственности. Когда‑нибудь люди поймут, что значил для индийского сознания тантризм, внедривший в него ценность «форм» и «объемов», триумф самого страстного антропоморфизма над первоначальным аниконизмом». Эротика «Майтрейи», ваш интерес к тантризму и ваш взгляд на индийское искусство – прочитанная мной запись позволяет понять все это в совокупности.
– Конечно. Добавлю, что индийское изобразительное искусство «пробрало» меня именно тогда, когда я увидел аджантские фрески. Надо признаться, поначалу индийская скульптура приводила меня в замешательство. Одна книга Кумарасвами позволила мне понять смысл этого нагромождения деталей. Художник не довольствуется лишь представлением идола, он рассыпает множество знаков, человеческих и мифологических фигур. Ни единого пустого местечка!.. Мне это не нравилось. Но потом я понял, что художник хочет любой ценой населить этот мир, это пространство, которое он творит вокруг главного образа. Хочет придать ему жизнь. И я влюбился в эту скульптуру. Точнее сказать, если я принял ее в душу, то из‑за приверженности к символам, из‑за верности традиции. Тут цель художника – отнюдь не выразить нечто «личное». Он разделяет со всеми остальными мир ценностей, свойственных индийской духовности. Это искусство символическое и традиционное, но притом спонтанное, если позволительно так выразиться. Черпание из общего источника еще никогда не вредило своеобразию форм, их множественности. Этому правилу подчиняются все виды искусства. Из музыки я имел возможность познакомиться в Индии только с бенгальской; меня интересовали в первую очередь пластические искусства, живопись, монументы, храмы. И не только как «произведения искусства». Храм, например, есть архитектурное творение, символика которого очень логична, а религиозная функция (площадка для ритуалов и процессий) как нельзя лучше соответствует его архитектуре. Впрочем, в Индии, так же как в селах Восточной Европы еще тридцать–сорок лет назад, «произведением искусства» считали не то, что вешалось на стену или выставлялось под стеклом, а предметы обихода: стол, стул, икону. Именно под таким углом зрения меня интересовало индийское искусство – и прикладное, и монументальное (храмы, скульптуры), и изобразительное. Именно с точки зрения его включенности в обыденную жизнь.
– А индийская литература?
– Мне очень нравился Калидаса. Пожалуй, это мой любимый поэт. Единственный, кого я усвоил по–настоящему, хотя его санскрит довольно сложен. Его поэтическому гению нет подобия. Из современных авторов я читал нескольких авангардистов, в том числе (в 1930 году) Ачинтию, молодого бенгальского романиста, в котором очень сильно ощущалось влияние Джойса; и, разумеется, Рабиндраната Тагора.
– Вероятно, вас представил Тагору Дасгупта?
– Да, я имел счастье много раз быть принятым Тагором в Шантиникетоне. По следам наших бесед я постоянно делал записи, записывал и то, что люди в Шантиникетоне говорили о нем как о человеке и как о поэте. Многие просто–напросто восторгались, но были и скептики, и я все брал на карандаш. Надеюсь, эта «Тагоровская тетрадь» еще существует в Бухаресте, в моей библиотеке, которая столько раз переезжала с места на место. Меня восхищало, как Тагору удавалось сочетать в себе все достоинства, все человеческие возможности. Он был не только прекрасным поэтом и прекрасным композитором – у него тысячи три песен, несколько сот из которых, я уверен, стали сегодня в Бенгалии «народными», – он был великим музыкантом, добротным прозаиком, маэстро устной беседы… И жизнь его сама по себе имела какое‑то особое качество. Не «жизнь художника», как, например, у Д'Аннунцио, у Суинберна, у Оскара Уайльда. Нет, жизнь полная и цельная, открытая для Индии и для всего света. Трудно себе представить, что великого поэта могут интересовать такие вещи, какими занимался Тагор. Он вел общественную деятельность, его страстно увлекала школа, которую он основал в Шантиникетоне. Вообще он никогда не отрывался от народной культуры Бенгалии. Какую важность он придавал крестьянской традиции, чувствуется в его творчестве, хотя очевидно и вдохновение, идущее, например, от Метерлинка. Он был очень красив. Пользовался большим успехом у женщин, о нем сплетничали, что он донжуан… и тем не менее от него исходила духовность, и выражалось это через осанку, жесты, голос – фигура и лик патриарха.
– Портрет у вас получается замечательный – этакий индийский Леонардо да Винчи, этакий бенгальский Толстой. Однако же в «Майтрейи» вы говорите о Тагоре в духе, так сказать…
– …критическом, да. Я выражал позицию молодого поколения Бенгалии. У меня были приятели в университете, молодые поэты, молодые профессора, которые в пику своим родителям предпочитали усматривать в творчестве Taropa подражание Д'Аннунцио и не придавать ему самостоятельного значения… Еще и по сей день в Индии бытует несколько пренебрежительное отношение к нему – из‑за сравнения с Ауробиндо или Радхакришнаном, большим ученым. Но я уверен, Тагора откроют заново. […]
Три индийских урока
– Мне было неполных двадцать два года, когда я прибыл в Индию. Первая молодость, не так ли? Три года пребывания там оказались для меня знаменательными. Индия меня сформировала. Когда сегодня я задаю себе вопрос, каков был главный урок, который я там воспринял, то вижу, что он был трояким.
Во–первых, открытие особой философии, скорее некого ее измерения – не классического, то есть не упанишад и не веданты, словом, не монистического толка – и не чисто религиозного бхакти. Мышление йоги, как и мышление санкхьи, придерживается дуализма: с одной стороны, материя, с другой – дух. Но меня интересовал не столько дуализм, сколько то, что и в санкхье и в йоге человек, Вселенная и жизнь не иллюзорны. Жизнь реальна, мир реален. Мир можно покорить, жизнью можно овладеть. Более того, в тантризме, например, человеческую жизнь можно преобразить с помощью ритуалов, исполняемых после длительной йогической подготовки. Речь идет о трансмутации физиологической деятельности, например сексуальной. В ритуальном соитии любовь перестает быть всего лишь половым актом, она становится своего рода священнодействием; точно так же в тантрической практике пить вино означает не потреблять алкогольный напиток, но участвовать в неком священнодействии… Мне удалось обнаружить это измерение, практически незнакомое востоковедам, обнаружить, что в Индии существовали психо–физические приемы, благодаря которым человек может радоваться жизни и одновременно ею управлять. Жизнь поддается преображению через сакраментальные действа. Это первый пункт.
– «Преображенная жизнь» – это то, что вы где‑то называете «освященным бытием»?
– Да, в конечном счете это одно и то же. Важно понимать, что эта техника, но также и другие способы и методы дают возможность переосвятить жизнь, переосвятить природу… Повторное открытие, повторное усвоение – вот смысл символа. Когда я жил в Румынии, меня совершенно не привлекала религиозная жизнь. Мне казалось, что церкви перегружены иконами. Я, конечно, не воспринимал иконы, как неких идолов, и тем не менее… В Индии мне пришлось пожить в одном бенгальском селе, и там я видел женщин и девушек, трогающих и украшающих лингам, фаллический символ, вернее, каменный фаллос, точно воспроизведенный с анатомической точки зрения; и, конечно, женщины – по крайней мере, замужние – не могли не знать его физиологическую природу и назначение. Так я постиг, что в лингаме мыслимо усмотреть символ. Лингам заключал в себе тайну жизни, созидания, плодоносности, которые проявляют себя на всех космических ступенях. Это был не банальный мужской член, это была эпифания Шивы. Возможность такого религиозного умиления через образ и символ открыла для меня целый мир духовных ценностей. Я подумал: верующий человек, глядя на икону, видит в ней не просто женщину с ребенком на руках – он видит Деву Марию, то есть и Божью Матерь, и Софию… Представляете себе, какую роль сыграло в моем формировании как историка религий это открытие, открытие важности религиозного символизма в традиционных культурах.
Что касается третьего открытия, то его можно назвать «открытием неолитического человека». Незадолго до отъезда мне посчастливилось провести несколько недель в Центральной Индии по случаю… охоты на крокодилов – среди аборигенов, называвшихся санталами и принадлежавших к доарийской расе. Я был потрясен, воочию увидев глубокие корни Индии, уходящие не только в арийское и древнеиндийское наследие, но и в глубь азиатского пространства, в аборигенную культуру. Это была неолитическая цивилизация, основанная на земледелии, то есть на религии и культуре, которые сопутствовали открытию земледелия и которые воспринимали мир и природу как непрерывный цикл жизни, смерти, воскрешения – цикл, характерный для растений, но определяющий и человеческую жизнь и представляющий к тому же образец для жизни духовной… Так я пришел к пониманию ценности румынской, балканской народной культуры. Как и культуры Индии, это была фольклорная культура, основанная на таинстве земледелия. Конечно, в Восточной Европе проявления ее шли в русле христианства; например, считалось, что пшеница произошла из капель Христовой крови… Все эти символы имеют очень древнее, неолитическое основание. Действительно, еще лет тридцать тому назад на пространстве от Китая до Португалии существовало некое единство, духовное единство, которое зиждилось на земледелии и поддерживалось им, а значит, и неолитическим наследием. Это культурное единство явилось откровением для меня. Я стал понимать, что и здесь, в Европе, корневая система значительно глубже, чем нам казалось вначале, глубже, чем греческий и римский миры и даже чем мир средиземноморский, глубже, чем мир древнего Ближнего Востока. Эти корни указывают на фундаментальное единство не только Европы, но и всей ойкумены, которая простирается от Португалии до Китая и от Скандинавии до Цейлона.
– Читая, например, первые главы «Истории религиозных идей», можно увидеть, каким мощным толчком для вашей мысли, для вашего творчества стало это откровение – открытие неолитического субстрата за спиной жителей Индии, неолитического, «первобытного» человека. Не расскажете ли об этом немного поподробнее?
– В Индии я обнаружил то, что позже называл «космической религиозностью», то есть манифестацию священного через предметы и космические ритмы: дерево, родник, весна. Эта религия, живая в Индии по сей день, и вызывала протест у пророков, которые были по–своему правы, так как Израиль – родина другого религиозного откровения. Иудейский монотеизм предполагает личное знакомство с Богом, который вмешивается в ход истории и проявляет свое могущество не только через ритмы природы, через космос, как божества политеистических религий. Вы знаете, к такой разновидности космической религии, получившей название «политеизм», или «язычество», относились с пренебрежением не одни лишь богословы, но и некоторые историки религий. Но мне‑то довелось жить среди язычников, жить среди тех, кто приобщался к священному через своих божеств. А их божества суть фигуры или проявления вселенского таинства, этого неиссякаемого источника творческой силы, жизни и блаженства. Именно тогда я понял, какой интерес могут представлять их божества для всеобщей истории религий. В конечном счете я пришел к тому, чтобы раскрыть духовную ценность так называемого «язычества». Вы знаете, что долитическая и палеолитическая эпохи длились около двух миллионов лет. Весьма вероятно, что религия архаического человечества той поры походила на религию первобытного охотника. Устанавливались совершенно реальные и одновременно религиозные взаимоотношения, с одной стороны, между охотником и жертвой, которую он должен был травить и убивать, а с другой – с «владыками диких зверей», божествами, которые оберегали в равной мере и охотника, и дичь. Потому‑то для первобытного охотника кости, скелет, кровь имели религиозное значение… Затем, двенадцать или тринадцать тысяч лет тому назад, люди пришли к земледелию. Оно обеспечивало и преумножало необходимые человеку продукты и тем способствовало его эволюции: росту населения, основанию сел, а затем городов, то есть созданию городской цивилизации и началу всех политических свершений древнейшего Ближнего Востока.
Открытие земледелия само по себе имело немалое значение: оно дало толчок определенному религиозному опыту. Например, тучность земли связалась с плодовитостью женщины. Великая Богиня есть Мать–Земля. Женщина, таким образом, обретает религиозную великость – а также экономическую – через свое мистическое единение с почвой, основой плодородия и жизни. Кроме того, как я уже говорил, благодаря земледелию человек воспринял идею цикличности: рождение, жизненный путь, смерть, возрождение, – и придал ценность собственной жизни, включив ее в космический цикл. Свою жизнь человек неолитического периода впервые сравнил с жизнью цветка, с жизнью растения. Первобытный охотник чувствовал свое магическое содружество с животным; теперь человек почувствовал свое мистическое содружество с растением. Человек разделяет судьбу растения, то есть бесконечного цикла рождений, смертей и возрождений… Конечно, картина гораздо сложнее, так как речь идет о целой религиозной системе, которая охватывает все типы символизма, вращающегося вокруг плодородия, смерти и возрождения; тут и Мать–Земля, и Луна, и Растительность, и Женщина и так далее. Эта система, я думаю, имела в себе семена всех последующих религий. И можно выделить еще один момент: зарождению земледелия сопутствует кровавая жертва. Для первобытного человека животное уже есть на белом свете, животное дано, в то время как съедобное растение, зерно не дано, оно не существует изначально, с сотворения мира. Урожай творит сам земледелец, своим трудом и своей магией. В этом его кардинальное отличие от охотника: он верит, что ничего не создашь без кровавой жертвы. Тут перед нами очень древние и практически повсеместные представления о том, что любое творение подразумевает магический трансферт жизни через кровавую жертву; энергия, «жизнь» жертвы переходит в то, что созидается. Если вдуматься, выглядит это довольно странно: охотник, закалывая свою жертву, никогда не признавал себя виновным в убийстве. Некоторые сибирские племена просят прощения у медведя, говоря ему: «Это не я, это мой сосед убил тебя, тунгус или русский». В других местах говорят: «Это не я, это Владыка зверей дал нам на то позволение». Охотники стесняются пролитой крови. У земледельцев эпохи палеолита, напротив, в мифах о происхождении съедобных растений фигурирует сверхъестественное существо, которое отдало себя на растерзание, чтобы из его тела взошли растения. Творение не мыслилось без ритуальной крови. Кровавые жертвы, в особенности человеческие, засвидетельствованы только у земледельцев. Наконец, и для меня было очень важно это уяснить, открытие земледелия влечет за собой целый мир новых духовных ценностей. Точно так же, как открытие металлургии. Мне хотелось понять религиозное бытие древнего человека. Позволю себе повториться: в эпоху палеолита для охотника связь человек–растение вовсе не была очевидной, как и религиозная значимость женщины. Только с появлением земледелия обозначается весьма важное место женщины в религиозной иерархии. […]
Открыв глубокое единство, существующее между аборигенной индийской культурой, культурой Балканского полуострова и крестьянской культурой Западной Европы, я почувствовал себя в мире как дома. Когда я изучал определенные мифы, некоторые духовные техники, мне было так же хорошо в Европе, как и в Азии. Я никогда не воспринимал ничего как просто «экзотику». В индийских народных традициях проглядывала та же структура, что и в европейских. […]





