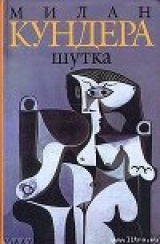
Текст книги "Шутка"
Автор книги: Милан Кундера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как только я очутился вне досягаемости парткомовских товарищей и неопровержимой логики их допроса, мне стало казаться, что я невиновен, что в моих сентенциях нет ничего дурного и что надо обратиться к кому-нибудь, кто хорошо знает Маркету, кому я смогу довериться и кто поймет, что вся эта скандальная история не стоит выеденного яйца. Я разыскал одного студента с нашего факультета, коммуниста, и изложил ему суть дела. В ответ он сказал, что в райкоме сидят изрядные ханжи, не понимающие шуток, и что он, зная Маркету, вполне может представить себе, как все происходило. Затем посоветовал пойти к Земанеку, который в этом году будет партийным секретарем нашего факультета и достаточно близок со мной и с Маркетой.
4
О том, что Земанек будет секретарем парторганизации, я понятия не имел и принял эту новость с надеждой, ибо Земанека хорошо знал и был даже уверен, что и он питает ко мне всяческую симпатию, хотя бы из-за моего моравского происхождения: Земанек страшно увлекался песнями Моравии. Да, в те годы было чрезвычайно модно петь народные песни, но петь не по-школьнически, а с рукой, вскинутой над головой и чуть грубым голосом, изображая из себя истинно простонародного парня, которого мать родила на гулянке под цимбалами.
Я был на естественном факультете, по существу, единственным настоящим мораванином, что явно давало мне кое-какие привилегии; при каждом торжественном случае, то ли на некоторых собраниях, празднествах, то ли на Первое мая, я по просьбе товарищей вытаскивал кларнет и вместе с двумя-тремя любителями, которые всегда находились среди студентов, пытался изобразить некое подобие моравской капеллы. Так (с кларнетом, скрипкой и контрабасом) мы участвовали в майской Демонстрации два года подряд, а Земанек, парень красивый и любивший показать себя, шел с нами, одетый во взятый напрокат национальный костюм, танцевал по ходу шествия, вскидывал руку над головой и пел. Этот коренной пражанин, никогда не бывавший в Моравии, представлялся парнем из народа, и я глядел на него с большой симпатией, счастливый тем, что музыка моей родины, извечно слывшей эльдорадо народного искусства, так любима и популярна.
Земанек знал и Маркету – это было второе преимущество. На разных студенческих мероприятиях мы нередко оказывались все трое вместе; как-то раз (нас была тогда большая студенческая компания) я пошутил, что на Шумаве живут карликовые племена, и стал доказывать это цитатами из якобы существующего научного труда, посвященного этой примечательной теме. Маркета диву давалась, что никогда о таком не слыхивала. Я сказал, что удивляться тут нечему: буржуазная наука умышленно утаивала существование карликов, поскольку капиталисты промышляли карликами, как рабами.
Но об этом следовало бы написать! – выкрикивала Маркета. Почему об этом не пишут! Ведь это был бы аргумент против капиталистов!
Возможно, об этом потому не пишут, проговорил я раздумчиво, что вещь эта несколько деликатная и непристойная: известно, что карлики обладали исключительными талантами по части любовных подвигов, и это стало причиной того, что они пользовались огромным спросом и наша республика тайно вывозила их за большую валюту преимущественно во Францию, где их нанимали стареющие капиталистические дамы в качестве слуг, чтобы на самом деле, естественно, приспособить их к исполнению совершенно иных обязанностей.
Товарищи давились от смеха, вызванного не столько неподражаемым остроумием моих измышлений, сколько Маркетиным возбужденным лицом, всегда готовым во имя чего-то (а при случае против чего-то) загореться; они кусали губы, лишь бы не испортить Маркете радость познания, а кое-кто (прежде всего Земанек) вторил мне со всей серьезностью, подтверждая мои сведения о карликах.
Когда Маркета спросила, как такой карлик в общем-то выглядит, помню, Земанек с глубокомысленным видом сказал ей, что профессор Чехура, которого Маркета со всеми своими сокурсниками имеет честь иной раз видеть на университетской кафедре, происходит от карликов, причем не то по линии обоих родителей, не то – одного из них. Рассказывал об этом Земанеку якобы доцент Гуле, что жил когда-то на каникулах в одной гостинице с супругами Чехурами, достигавшими вместе неполных трех метров. Однажды утром он вошел в их номер, не предполагая, что супруги еще спят, и ужаснулся: они лежали в одной постели, но не друг возле дружки, а в ряд: пан Чехура, скрючившись в изножье, а пани Чехурова – в изголовье кровати.
Да, подтвердил я, как Чехура, так и его супруга по происхождению, несомненно, шумавские карлики, ибо спать в ряд – атавистический обычай всех тамошних карликов; кстати, в стародавние времена свои лачуги они строили не в форме круга или четырехугольника, а всегда в форме длиннющего прямоугольника, так как не только супруги, но и целые семейства имели обычай спать длинной цепью, друг за дружкой.
Когда в тот злополучный сумрачный день я воскресил в памяти эту нашу трепотню, мне почудилось, что от нее забрезжило огоньком надежды. Земанек, который будет обязан вынести решение по моему делу, знает мой стиль вышучивания, знает и Маркету и потому поймет, что открытка, какую я написал ей, была всего лишь шутейным поддразниванием девушки, которой мы все восхищались и над которой (возможно, именно поэтому) любили покуражиться. При первом же случае я рассказал ему о своих незадачах; Земанек, наморщив лоб, внимательно выслушал меня и сказал «посмотрим».
А пока я жил в подвешенном состоянии; ходил, как прежде, на лекции и ждал. Меня часто вызывали на разные партийные комиссии, которые силились главным образом установить, не принадлежу ли я к какой-либо троцкистской группе; я же стремился доказать, что, по сути дела, даже не знаю толком, что такое троцкизм; я ловил любой взгляд ведущих дознание товарищей и искал в нем проблески доверия; иногда я действительно находил такой взгляд и умудрялся долго носить его в себе, лелеять в душе и терпеливо высекать из него надежду.
Маркета по-прежнему избегала меня. Я понял, что это связано со скандалом вокруг моей открытки, и в своей гордой сострадательности не хотел ни о чем ее спрашивать. Но однажды она сама остановила меня на лестнице факультета: «Я хотела бы поговорить с тобой».
Так мы снова после нескольких месяцев оказались на нашей совместной прогулке; стояла уже осень, мы оба были в длинных непромокаемых плащах, да, длинных, много ниже колен, как в то время (время вовсе не элегантное) носили; слегка моросило, деревья на набережной были безлистные и черные. Маркета рассказывала мне, как все произошло: однажды в каникулы, когда она была на партзанятиях, вызвали ее товарищи из руководства и спросили, получает ли она сейчас какую-либо корреспонденцию; она сказала, что получает. Спросили – откуда. Она сказала, что пишет ей мама. А кто еще? Иногда один университетский товарищ, ответила она. Можешь сказать нам, кто? – спросили ее. Она назвала меня. А что тебе пишет товарищ Ян? Она пожала плечами, ей вроде бы не хотелось цитировать слова из моей открытки. Ты тоже ему писала? – спросили. Писала, ответила она. Что ты писала ему? – спросили они. Так, о занятиях и вообще. Тебе занятия нравятся? – спросили ее. Да, очень, ответила она. А ты написала ему, что тебе здесь нравится? Да, написала, ответила. А он что? – продолжали они. Он? – помялась Маркета, ну он ведь чудной, знали б вы его. Мы его знаем, сказали они, и хотели бы знать, что он писал тебе. Ты можешь показать нам ту его открытку?
«Не сердись на меня, – сказала Маркета, – мне пришлось показать ее».
«Не оправдывайся, – сказал я Маркете, – они знали о ней еще раньше, чем заговорили с тобой; не знали бы, не позвали б тебя».
«Я совсем не оправдываюсь, я даже не стыжусь, что дала им прочитать ее, не выдумывай глупости. Ты член партии, а партия имеет право знать, кто ты и что думаешь», – возразила Маркета, а потом добавила, что была в ужасе от того, что я написал ей, так как все мы знаем, Троцкий – самый страшный враг всего, за что мы боремся и ради чего живем.
Что мне было объяснять Маркете? Я попросил ее продолжать и рассказать по порядку, что происходило дальше.
Маркета сказала, что открытку прочли и оторопели. Спросили, что она по этому поводу думает. Она сказала, что все это ужасно. Спросили, почему она сама не пришла показать им открытку. Она пожала плечами. Ее спросили, знает ли она, что такое бдительность и настороженность. Она опустила голову. Спросили, знает ли она, сколько у партии врагов. Она сказала им, что знает, но не могла бы поверить, что товарищ Ян… Ее спросили, хорошо ли она меня знает. И спросили, какой я. Она сказала, что я чудной. Что хоть она временами и думает, что я стойкий коммунист, но случается, я говорю такое, чего коммунист не должен был бы говорить никогда. Они спросили, что, например, такого я говорю. Она сказала, что ничего конкретного не помнит, но для меня как бы нет ничего святого. Они сказали, что и по открытке это ясно видно. Она сказала, что часто по многим вещам со мной спорила. И еще сказала, что на собраниях я говорю одно, а ей другое. На собраниях я, мол, сплошной восторг, тогда как с ней только надо всем подшучиваю и все принижаю. Спросили, думает ли она, что такой человек может быть членом партии. Она пожала плечами. Спросили, построила бы партия социализм, если бы ее члены провозглашали, что оптимизм – опиум для народа. Она сказала, что такая партия социализма бы не построила. Ей сказали, что этого достаточно. И что, мол, пока она не должна ничего говорить мне, так как они хотят проследить, что я буду писать дальше. Она им сказала, что больше не хочет никогда меня видеть. Они ответили, что это было бы нежелательно, что, напротив, она должна писать мне, пока не выявится вся моя подноготная.
«И ты им потом показывала мои письма?» – спросил я Маркету, краснея до корней волос при воспоминании о своих любовных излияниях.
«А что мне было делать? – сказала Маркета. – Но сама я тебе после всего, правда, не могла уже писать. Не стану же я переписываться с кем-то лишь для того, чтобы вывести его на чистую воду. Написала тебе еще открытку, и все. Не хотела тебя видеть, потому что не имела права тебе ничего говорить, но боялась, что ты будешь меня о чем-то спрашивать и мне придется тебе врать прямо в глаза, а врать я не люблю».
Я спросил Маркету, что принудило ее встретиться со мной сегодня.
Она сказала, что причиной тому был товарищ Земанек. Он встретил ее после каникул на лестнице факультета и повел в комнатушку, где помещался комитет парторганизации естественного факультета. Он сказал, что до него дошли слухи, будто я написал ей на партийные курсы открытку с антипартийными изречениями. Спросил, что это были за фразы. Она сказала ему. Он спросил, что она по этому поводу думает. Она ответила, что осуждает. Он сказал, что это правильно, и спросил, продолжает ли она со мной встречаться. Она смешалась и ответила неопределенно. Он сказал, что с партийных курсов на факультет поступили о ней весьма благоприятные сведения и что факультетская организация вполне полагается на них. Она сказала, что рада. Он добавил, что не хотел бы вмешиваться в ее частную жизнь, но думает, что о человеке можно судить по тому, с кем он встречается, какого друга выбирает себе, и что ей не очень пошло бы на пользу, выбери она именно меня.
Лишь несколько недель спустя до Маркеты, дескать, дошел смысл их разговора. Со мной она уже много месяцев не встречалась, так что наущение Земанека, по существу, было напрасным; и все-таки как раз это наущение и заставило ее задуматься, не жестоко ли и допустимо ли нравственно призывать кого-то расстаться с другом всего лишь на том основании, что друг оступился, а значит, справедливым ли было и то, что еще раньше она сама перестала со мной встречаться. Она пошла к товарищу, который вел на каникулах партзанятия, и спросила, по-прежнему ли действует приказ, запрещающий говорить со мной по поводу открытки, но, узнав, что можно уже ничего не утаивать, остановила меня и попросила побеседовать с ней.
И вот теперь она, стало быть, делится со мной тем, что мучит и удручает ее: да, поступила она дурно, когда решила, что не будет со мной встречаться; но все-таки нельзя считать человека совсем пропащим, даже если он совершил самый большой проступок. Она, к примеру, вспомнила Алексея Толстого, который был белогвардейцем и эмигрантом, но, несмотря на это, стал крупным социалистическим писателем. Вспомнила она также и советский фильм «Суд чести» (фильм в то время весьма популярный в партийной среде), в котором ученый-врач предоставляет свое открытие прежде всего в распоряжение зарубежной общественности, что попахивало космополитизмом и предательством; Маркета растроганно ссылалась главным образом на финал фильма: ученый был в конце концов осужден судом чести своих коллег, но любящая жена не покинула осужденного супруга, а старалась влить в него силы, чтобы он сумел искупить свой тяжкий грех.
«Значит, ты решила не покидать меня», – сказал я.
«Да», – сказала Маркета и схватила меня за руку.
«И ты, Маркета, действительно думаешь, что я допустил большую провинность?»
«Думаю, что да», – сказала Маркета.
«А как ты думаешь, я имею право остаться в партии или нет»?
«Думаю, Людвик, что не имеешь».
Я знал, что прими я игру, в которую вжилась Маркета и пафос, которой переживала, похоже, всей душой, то обрел бы все, чего месяц назад так безуспешно добивался: приводимая в движение пафосом спасительства, как пароход – паром, Маркета, без сомнения, отдалась бы мне теперь и телесно. Конечно, при одном условии: что ее спасительство будет действительно полностью удовлетворено, а для полного удовлетворения объект спасения (о, горе, я сам!) должен признать свою глубокую, глубочайшую провинность. Но сделать этого я не мог. Желанная цель – Маркетино тело – была совсем близко, и все-таки столь дорогой ценой я не мог овладеть им, не мог признать свою вину и подписаться обеими руками под невыносимым приговором; я не мог допустить, что близкий мне человек считает меня виноватым, а этот приговор – справедливым.
Я не согласился с Маркетой, отказался от ее помощи и потерял ее, но чувствовал ли я себя безвинным? Разумеется, я убеждал себя в комичности этой скандальной истории, но одновременно (и нынче из дали многих лет это кажется мне самым мучительным и самым типичным) я начинал видеть три фразы на открытке глазами тех, кто расследовал мое дело; я стал ужасаться этих фраз, пугаться того, что под покровом шутки во мне обнаружат и вправду что-то очень серьезное, иными словами – то, что я никогда так и не слился с партией, что я никогда не был настоящим пролетарским революционером, а лишь на основании простого (!) решения «пошел в революционеры» (то есть мы понимали пролетарскую революционность, я бы сказал, отнюдь не как дело выбора, а как дело самой сущности: человек либо революционер и в таком случае сливается с движением в единое коллективное тело, мыслит его головой и чувствует его сердцем, либо им не является, и ему ничего не остается, как лишь хотеть им быть; но тогда он все равно бесконечно виноват в том, что им не является: он виноват своей самостоятельностью, инакостью, своим неслиянием).
Когда я вспоминаю свое тогдашнее состояние, мне по аналогии приходит мысль о беспредельной силе христианства, которое внушает верующему его исходную и непрерывную греховность; и я стоял (и мы все так стояли) перед лицом революции и ее партии с вечно опущенной головой и потому исподволь смирялся с тем, что мои фразы, замышленные как шутка, все-таки по сути греховны; и в голове моей стал разматываться клубок самокритики: я говорил себе, что фразы осенили меня не просто так, не с бухты-барахты, что товарищи уже и раньше (и, видимо, поделом) указывали мне на «остатки индивидуализма» и на «интеллигентство»; я говорил себе, что стал слишком самонадеянно цепляться за свое образование, за студенческий статус и интеллигентское будущее и что мой отец, рабочий, погибший в годы войны в концентрационном лагере, едва ли понял бы мой цинизм; я упрекал себя, что от его пролетарского образа мыслей во мне, к сожалению, не осталось и следа; я упрекал себя во всех возможных грехах и смирялся даже с необходимостью какого-то наказания; противился я лишь одному: быть исключенным из партии и тем самым заклейменным, как один из ее врагов, жить, как заклейменный враг того, что я выбрал уже в юности и к чему действительно льнул душой, представлялось мне поистине кошмаром.
Такие самокритичные речи, что одновременно были и умоляющей защитой, я произносил раз сто мысленно, по меньшей мере, раз десять перед различными комитетами и комиссиями и наконец на решающем пленарном заседании нашего факультета, где обо мне и о моей провинности во вступительном слове (впечатляющем, блистательном, незабываемом) говорил Земанек и от имени комитета предложил исключить меня из партии. Дискуссия, последовавшая за моим покаянным выступлением, развернулась не в мою пользу; никто не заступился за меня, а под конец все (их было человек сто, среди них и мои преподаватели, и самые ближайшие товарищи), да, все до единого подняли руки, чтобы одобрить не только мое исключение из партии, но и (этого я никак не ожидал) мой принудительный уход из университета.
Еще в ту же ночь после собрания я сел в поезд и уехал домой, однако родной очаг не принес мне никакого утешения уже хотя бы потому, что несколько дней я вообще не осмеливался сказать маме, гордившейся моим студенчеством, обо всем, что случилось. Зато на второй день пришел ко мне Ярослав, товарищ по гимназии и по капелле с цимбалами, в которой я играл еще гимназистом, и возликовал, что застал меня дома: послезавтра он, дескать, женится и просит меня быть у него свидетелем. Я не мог отказать старому товарищу, и мне, стало быть, ничего не оставалось, как отметить свое падение свадебным весельем.
Надо заметить, Ярослав ко всему был еще и завзятым моравским патриотом и фольклористом; воспользовавшись собственной свадьбой во благо своих же этнографических увлечений, он устроил ее в духе старых народных традиций: национальные костюмы, капелла с цимбалами, посаженый отец, произносящий витиеватые речи, перенос невесты через порог, песни и вообще множество круглосуточных церемоний, которые он, разумеется, воссоздавал в большей степени по этнографическим книгам, нежели по живым воспоминаниям. Но я обратил внимание и на нечто странное; как ни держался мой друг Ярослав, новоиспеченный руководитель весьма прибыльного ансамбля песни и танца, всевозможных старинных обычаев, однако (явно памятуя о своей карьере и повинуясь атеистическим призывам) он не пошел со свадебниками в церковь, хотя традиционная народная свадьба без священника и Божьего благословения просто немыслима; он заставил посаженого отца произносить всякие народные обрядовые речи, но тщательно вычеркнул из них какие бы то ни было библейские мотивы, вопреки тому, что именно они-то и составляли главный образный материал свадебных причетов. Печаль, мешавшая мне до конца слиться с пьяным свадебным весельем, дала мне возможность почувствовать в совершении этих народных обрядов запах хлороформа и на дне этой кажущейся непринужденности увидеть соринку фальши. И когда Ярослав попросил меня взять (по сентиментальной памяти о моем давнишнем участии в капелле) кларнет и подсесть к музыкантам, я отказался. Вдруг припомнилось, как последние два года я вот так же играл на Первое мая, а пражанин Земанек танцевал рядом со мной в национальном костюме, вскидывая руки, и пел. Я не мог коснуться кларнета, я чувствовал, как все это фольклорное верещание противно душе моей, противно, противно…
5
Лишившись университета, я лишился и права отсрочки военной службы и дожидался теперь осеннего призыва; долгое ожидание я заполнил двумя вербовками: сперва я ремонтировал дорогу где-то под Готвальдовом, а к концу лета подался на сезонные работы на «Фруту», где консервировали фрукты; затем наконец пришла осень, и в одно прекрасное утро (после бессонной ночи в поезде) я приплелся в казарму, расположенную в незнакомом уродливом остравском предместье.
Я стоял во дворе казармы с другими парнями, приписанными к той же части; мы не знали друг друга; в полумраке этой первоначальной взаимной незнакомости на первый план резко выступают на лицах черты грубости и чуждости; так это было и на сей раз, и единственное, что нас по-человечески сплачивало, это неясное будущее, о котором мы обменивались лишь беглыми догадками. Некоторые утверждали, что мы загремели к «черным»; иные отрицали это, а кто вообще не знал, что это такое. Я знал и потому принимал эти догадки с испугом.
Вскоре пришел за нами сержант и отвел всех в один барак; попали мы в коридор, а по коридору – в какую-то большую комнату, сплошняком увешанную огромными стенгазетами с лозунгами, фотографиями и неумелыми рисунками; на стене против двери кнопками была пришпилена большая надпись, вырезанная из красной бумаги: МЫ СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ, под этой надписью стоял стул, а возле него маленький сухонький старичок. Сержант указал на одного из нас, и тот уселся на стул. Старичок повязал ему вокруг горла белую простыню, потом взял портфель, прислоненный к ножке стула, достал машинку для стрижки и заехал ею парню в волосы.
С парикмахерского стула начинался конвейер, призванный преобразить нас в солдат: от стула, на котором мы лишались волос, нас погнали в соседнюю комнату, где велено было раздеться догола, упаковать одежду в бумажный мешок, перевязать его бечевкой и сдать в окошко; голые и бритоголовые, мы прошли по коридору в следующее помещение; там получили ночные рубахи; в ночных рубахах дошли еще до одной двери, где нам выдали армейские башмаки – «поллитровки»; в «поллитровках» и нижних рубахах промаршировали через двор к другому бараку, где приобрели рубахи, подштанники, портянки, ремень и форму (на куртках были черные петлицы!); и, наконец, мы протопали к последнему бараку, где сержант провел перекличку, распределил нас по отделениям и закрепил за нами комнаты и койки.
Так в два счета каждый из нас был лишен своей личной воли и стал чем-то, что внешне походило на вещь (вещь направленную, посланную, зачисленную, откомандированную), а внутренне – на человека (страдающего, озлобленного, напуганного); в тот же день нас повели на построение, затем на ужин, затем по койкам; поутру нас разбудили и препроводили на рудник: на руднике наши отделения разбили на трудовые бригады и одарили инструментом (лампой, буром, лопатой), с которым никто не умел обращаться; потом подъемная клеть опустила нас под землю.
Когда мы, с трудом волоча ноющее тело, поднялись наверх, уже поджидавшие сержанты построили нас в шеренгу и снова отвели в казарму; мы пообедали, после обеда начались строевые занятия, после строевых занятий – уборка, политучеба, обязательное пение; вместо личной жизни – комната с двадцатью койками. И так изо дня в день.
Обезличивание, которому мы подверглись в первые дни, казалось мне абсолютно беспросветным; безликие, предписанные действия, которые мы выполняли, заменили любые наши человеческие проявления; эта беспросветность была, конечно, относительной, порожденной не только реальными обстоятельствами, но и неприученностью зрения (как будто из света попадаешь во тьму), со временем она начала понемногу редеть, и в этом «сумраке обезличивания» в людях уже проглядывало кое-что человеческое. Я должен, конечно, признать, что был одним из последних, сумевших приспособить зрение к измененной «светосиле».
А главная причина состояла в том, что я всем своим существом противился своей участи. Ведь солдаты с черными петлицами, среди которых я оказался, занимались строевой подготовкой исключительно без оружия и работали на рудниках. За работу им, правда, платили (в этом смысле они находились в лучшем положении, чем другие солдаты), но меня это мало утешало: то и дело возникала мысль, что все это люди, которым молодая социалистическая республика не хотела доверить оружие, ибо считала их своими врагами. Естественно, это приводило к более жестокому обращению и к устрашающей опасности, что действительная служба может продлиться дольше, чем обязательные два года; однако больше всего меня ужасал факт, что я оказался среди тех, кого считал своими смертельными врагами, и что меня к ним причислили (окончательно, бесповоротно и с пожизненным клеймом) мои же собственные товарищи. Поэтому первое время я жил среди «черных» упрямым нелюдимом; я не хотел сближаться со своими врагами, не хотел приспосабливаться к ним. С прогулками тогда дела обстояли совсем скверно (на увольнительную солдат не имел права, он получал ее лишь как награду, и это практически означало, что он выходил в город раз в две недели – в субботу), но в те дни, когда солдаты гурьбой заваливались в трактиры и охотились за девушками, я с радостью оставался один; забирался на койку в казарме, старался читать что-то или даже заниматься (математику, кстати, достаточно для работы карандаша и бумаги) и кейфовал в своей неприкаянности; я верил, что здесь у меня единственная задача: продолжать борьбу за свою политическую честь, за право «не быть врагом», за право выйти отсюда. Не раз и не два я заходил к политруку части и пытался убедить его, что оказался среди «черных» по ошибке; что был исключен из партии по причине своего интеллигентства и цинизма, но не как враг социализма; я объяснял ему снова (в какой уж раз!) комичную историю открытки, историю, которая, впрочем, совсем уже не была смешной, а становилась из-за моих черных петлиц все подозрительнее, и, казалось, скрывала в себе нечто, о чем я умалчиваю. Но я должен честно признаться, что политрук выслушивал меня терпеливо и проявил почти неожиданное понимание моего стремления к оправданию; где-то наверху (как незримое определение места!) он и вправду справлялся о моем деле, но в конце концов вызвал меня и сказал с откровенной горечью: «Почему ты обманывал меня? Я узнал, что ты троцкист».
Я стал понимать, что нет силы, способной изменить тот образ моей личности, который сложился в каком-то наивысшем третейском ареопаге, где решаются людские судьбы; я понял, что этот образ (сколь бы ни похож он был на меня) гораздо реальнее, чем я сам; что вовсе не он моя, а я его тень; что вовсе не он виноват, что не похож на меня, а в этой непохожести повинен я и что эта непохожесть – мой крест, который я ни на кого не могу возложить и вынужден нести его сам.
И все-таки сдаваться я не хотел. Хотел поистине нести свою непохожесть; оставаться тем, кем, как было решено, я не являюсь.
Прошло недели две, пока я чуть привык к изнуряющей работе на руднике с тяжелым отбойным молотком в руках, вибрация которого отзывалась в теле ночи напролет. Но ломил я работу на совесть и с какой-то даже яростью; решил давать высокую выработку, и вскоре мне это стало удаваться.
Однако никто не видел в этом проявления моей сознательности. Работу нам оплачивали, и пусть вычитали за питание и проживание, все равно на руки мы получали достаточно, и потому многие, каких бы взглядов ни придерживались, тоже вкалывали с большим пылом, чтобы извлечь из этих напрасных лет хоть какую-то пользу.
Хотя нас всех и считали остервенелыми врагами режима, в казарме, однако, сохранялся весь уклад общественной жизни, который был привычен в социалистических коллективах: мы, враги режима, под присмотром политрука устраивали десятиминутки, ежедневно у нас бывали политбеседы, мы вывешивали стенгазеты, куда наклеивали фотографии деятелей социалистических государств и писали лозунги о счастливом будущем. Поначалу я почти демонстративно принимал участие во всех этих мероприятиях. Но и в этом никто не усматривал признака сознательности, делать это вызывались и другие, если хотели привлечь внимание командира и получить увольнительную. Солдаты воспринимали эту деятельность не как деятельность политическую, а всего лишь как бессмысленную хлопотню, которой приходится расплачиваться с теми, в чьей власти мы находимся.
Я понял, что это мое сопротивление напрасно, что уже и свою «непохожесть» воспринимаю один я, а для других она невидима.
Среди младшего командного состава, на чей произвол мы были отданы, запомнился мне один чернявый словак, младший сержант, который отличался от остальных мягкостью и полным отсутствием садизма. Он пользовался у нас любовью, хотя некоторые злорадно утверждали, что его доброта проистекает исключительно из его глупости. Сержанты в отличие от нас, естественно, владели оружием и время от времени занимались стрелковой подготовкой. Однажды после таких учений воротился младший сержантик с великим торжеством: занял на стрельбах первое место. Многие из нас громко поздравляли его (полусерьезно, полушутя); младший сержантик знай краснел от удовольствия.
Случайно в тот день я остался с ним наедине и, чтобы поддержать разговор, спросил: «Как вам удается так хорошо стрелять?»
Младший сержантик испытующе посмотрел на меня и сказал: «У меня есть один способ, который помогает мне. Я воображаю, будто это не просто мишень из жести, а империалисты. И такая злость меня разбирает, что я бью без промаха».
Я хотел спросить его, каким он представляет себе такого империалиста (какой у него нос, волосы, глаза, шляпа), но он опередил мой вопрос и сказал серьезным и раздумчивым голосом: «Не знаю, чего вы все меня поздравляете. Ведь случись война, я бы в вас стрелял!»
Когда я услышал такое из уст добряка, который не способен был никогда прикрикнуть на нас и которого в конце концов за это перевели куда-то в другое место, я понял, что нить, связывавшая меня с партией и с товарищами, безнадежно выскользнула из рук. Я очутился за пределами своего жизненного пути.
6
Да. Все нити были прерваны.
Прервано было образование, участие в движении, работа, связи с друзьями, прервана была любовь и поиски любви, прервано было просто-напросто все осмысленное течение жизни. Мне не оставалось ничего, кроме времени. Зато его я узнал так интимно, как никогда прежде. Оно уже не было тем временем, с каким я общался когда-то, временем, превращенным в труд, любовь, стремления всякого рода, временем, воспринимаемым равнодушно, поскольку и оно было неназойливым и деликатно скрывалось за моей собственной деятельностью. Сейчас оно явилось мне обнаженным, само по себе, в своем исконном и подлинном виде и принудило меня назвать его настоящим именем (ибо теперь я проживал чистое время, одно пустое время), дабы ни на минуту не забывать о нем, беспрестанно думать о нем и чувствовать его тяжесть.








