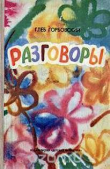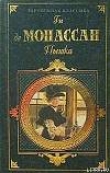Текст книги "«И весною взойду...» (ЛП)"
Автор книги: Микола Чернявский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
«Сеў у лужу паняволі...»
После скитаний по чужим углам Анатолю, можно сказать, повезло: квартира нашлась недалеко от редакции. Он получил комнатку в старом кирпичном доме, который стоял за трамвайной линией, кажется, по улице Лодочной. Теперь того дома уже нет, попал под снос. А тогда. Что за апартаменты перепали Анатолю, я увидел совсем неожиданно. Встретились мы недалеко от общежития.
– Хочу купить диван. Не поможешь в поиске?
– А деньги есть? – как-то само собой вырвалось у меня.
– Да есть пока. Еще гонорар за «Азбуку» не успел спустить.
На ближайшей Юбилейной площади, как мы знали, был мебельный магазин, но после долгого топтания, ничего, что бы нам подошло по цене, по цвету, в глаза не бросилось. Зато там же, на небольшом рынке, у бабульки разжились пучком зеленого сочного лука. Начало лета, и зелень еще не успела приесться. «Закуска есть, – то ли в шутку, то ли всерьез заметил Анатоль, сунув мне в руку завернутый в газету пучок лука. – Есть сало, привез из дома, так что лучше не придумаешь. Надо же диван замочить, надеюсь, мы его купим».
В мебельном на улице Карла Либкнехта тоже ничего у нас не вышло с покупкой: то дороговато, то смотреть не на что. Конечно, мы расстроились. «А давай поедем ко мне, – вдруг предложил Анатоль. – Видишь, зеленый лук уже сок пустил. Не пропадать же ему». Ну, и находившись столько, не хотелось возвращаться порожняком. «Давай еще заглянем в мебельный на Кирова», – предложил я Анатолю.
То дощатое строение на пересечении улиц Ленина и Кирова давно уже исчезло, уступив место красивым, современным домам. Но в тот день в этом магазине нам удалось купить диван для Толиного закутка. Чтобы перевезти его на автофургоне, надо было подождать, пока тот освободится. «Можете тут подождать своей очереди, а можете отправляться домой. Неизвестно, сколько придется ждать», – предупредила нас миловидная продавщица.
Была еще одна услуга – привезти диван на тачке, так сказать, своим ходом. К тому же грузчик охотно взялся нам помочь, когда узнал адрес доставки. «Тут же близехонько, довезу вам, хлопцы, как на вороных.»
Окрыленные неожиданной удачей, мы с молодецким озорством впряглись и с грохотом покатили тачку под звон трамвая, где по асфальту, где по булыжной мостовой, и через каких-то полкилометра «пришвартовались» к нашему дому. Что касается хозяина тачки, так он не мешал и особо не упирался, доверив нам свое средство перевозки. Топая за нами, он вслух подогревал наше упорство, иногда предупреждая: «Осторожно, осторожно, а то диван на бок съедет». Без его, оплаченной Толей, «подмоги», под взглядом любопытных соседей втащили диван в комнату, где, кроме стола и низкой кровати, я тогда ничего не заметил.
Как и обещал, к нашему уже довольно подвялому луку Анатоль достал брусок сала. Правда, сначала вытянул из-под кровати обыкновенный чемоданчик. Пока он не открыл его, я даже не догадывался, что в нем могло быть. А чемодан до краев был упакован салом, душистым, обсыпанным какими-то деревенскими приправами. Анатоль сбегал в магазин, принес бутылку «Перцовки».
Я тогда был в отпуске по случаю работы над дипломом в университете, никуда особенно не спешил, а потому мое пребывание у Анатоля одним днем не обошлось. Я стал первым, кому пришлось обживать тот диван, задержавшись у гостеприимного хозяина, подкрепляясь салом и зеленым луком, который с Анатолем тайком в темноте добывали на грядках, что были аккуратно высажены и досмотрены тут же во дворе и опекались жильцами дома. Не знаю, правда ли, но Толя сказал, будто у него было разрешение от не очень сварливых соседок на такие экскурсии в их огород. Сам Анатоль в тот раз на «Перцовку» не налегал, воздерживался от лишнего. Где-то ближе к вечеру третьего или четвертого дня он сказал мне:
– Слушай, я договорился встретиться с Анфисой. Хочешь, поедем вместе со мной. Познакомлю. Здесь близко, около стадиона.
– А кто такая Анфиса? – вставая с дивана, поинтересовался я.
– Работает медсестрой в третьей клинической больнице. А потом в гастроном забежим, – весело торопил меня Анатоль.
– Нет, я уже домой поеду, – не согласился я с ним по поводу гастронома.
Тем не менее, домой мне пришлось не ехать, а идти пешком. Анатоль все же уговорил меня пойти с ним на свидание к незнакомой Анфисе. Дождавшись окончания грозы, мы пошли по направлению к стадиону, обходя лужи, что встречались нам по дороге. Уже около стадиона я, не желая обходить очередную лужу, решил перескочить ее. То ли слишком понадеялся на свою ловкость, то ли лужа оказалась не такой узкой, как мне показалось, но тут меня подстерег настоящий конфуз. Молодцевато скокнув, я вдруг почувствовал, что моя нога, опустившись на размокший песчано-глинистый край лужи, предательски поехала, словно лыжа по снегу, и я шлепнулся в грязную воду. Заходясь от смеха, Анатоль помог выбраться. Вид у меня был такой, что у кого-то мог вызвать сочувствие, но и на шутки Анатоля нечего было обижаться: сам виноват. Кто меня подбил перескакивать эту лужу.
Потом они смеялись вдвоем – Анатоль и Анфиса. Низкого роста, усмешливая, немного полноватая, она мне в тот момент показалась не очень симпатичной и привлекательной. Подумал: и чем же эта Анфиса приглянулась Анатолю? А может, она мне показалась такой из-за моего не очень веселого настроения, остуженного непредвиденным купанием в луже? А каким я сам показался ей в ту минуту?
Попрощавшись, Анатоль и Анфиса, весело переговариваясь, скрылись из виду. Переждав в кустах около стадиона, пока стечет вода и мои штаны с рубашкой немного обсохнут, я двинулся пешком через вокзал на свою Грамадскую. Гардероб мой тогда был небогатым, поэтому дома, с позволения хозяйки, пришлось воспользоваться тазиком и стиральным порошком, чтобы вначале выстирать штаны и рубашку, а потом «навести стрелки», сделать то, до чего не так скоро дошли бы руки. Утешало одно: даже в негативном можно найти хотя бы каплю положительного.
Анатоль же, когда я вышел на работу, как-то позвонил мне и то ли в шутку, то ли издеваясь поинтересовался:
– Отдышался от купания? Послушай, как тебе такая припевка:
На спатканне мчаўся Коля
З медсястрой Анфісаю.
Сеў у лужу паняволі,
Добра, што не пысаю.
И расхохотался.
– Так это же не я на свидание с Анфисой бежал, а ты. Я ее до этого ни разу в глаза не видел, – выслушав Анатоля, голосом обиженного, но понимая, что на шутку обижаться не стоит, возразил я. – К тому же здесь очень легко заменить Колю на Толю. Какая разница?
– Как какая разница? Не я же в лужу плюхнулся, аж брызги над стадионом полетели, а ты. Значит, это ты торопился на свидание с Анфисой, – снова рассмеялся в трубку.
– Хотя и грубовато у тебя, Толя, получилось, выдумал невесть что, но ничего, шутку я принимаю. Только повтори, чтобы я запомнил. А лучше давай запишу.
Больше таких приключений, таких «экстремальных» ситуаций с Анатолем у меня не было. А как подумаешь, так очень жаль.
«Жыве ў табе твая жанчына»
Возможно, кто-то, прочитав мои воспоминания о том смешном случае, который произошел во время нашего похода на свидание с Анфисой, подумает: «Ох, и отпетым же ловеласом и донжуаном был Анатоль!» Уверен, что именно так подумают зрители после просмотра телесериала, снятого по повести Аксенова «Таинственная страсть», где его молодые герои во времена «оттепели» только и делали, что бражничали, ввязывались во всевозможные разборки, а все отношения с женщинами и подружками у них нередко сводились только к «постельной лирике».
Что-то подобное о наших литературных наставниках, да и о моих друзьях, с кем выпадало быть чаще всего, я говорить не берусь. Может, не все обо всех знал, их семейная жизнь была тайной? Нет, что-то все же знал. Тем не менее, не сомневаюсь в одном: с моральной стороны, если можно так сказать, у нас все было пристойно и чисто. И отношение Анатоля к любовно-романтическим увлечениям – тоже. Тем более, судя по его лирике, довольно открытой, исповедальной, они случались, не обошли стороной его юношеские чувства, которые щедро обогащались вдохновением и влюбленностью в поэзию. Кого обойдет оно, это ощущение, в такую весеннюю пору жизни, когда чувства бьют ключом, отбирая порой покой и сон, и которые не обходятся без мук и разочарований?! Разве что замшелый валун, а не живую, такую поэтичную, чувствительную к тайным струнам души и сердца натуру, чем выделялся Анатоль.
Вот такая «хроника» его любовных «приключений», и возможно, страданий, такое «интимное жизнеописание», засвидетельствованное в поэтических строках им самим. И с радостью влюбленного, и с приметой горечи.
Впечатлительная душа поэта не была безразличной к женской красоте и таинственности, ей не чуждо было чувство влюбленности и восхищения тем, что не лишено целомудрия, Божией ласки и нежности, того природного волшебства, что завораживает нас, особенно в пору молодости. Тем не менее, если искренне, то не могу «подловить» Анатоля ни с одной из тех, кому он признавался в своих «ухаживаниях». Я даже остаюсь при мысли, что за этим всем прячется. обычная авторская фантазия, чисто поэтический ход, прием, присущий любовной лирике. И может, действительно все было так, как в этих строках: «А я цябе прыдумаў сам, // Ні з кім, ні з кім не раіўся»?
Я знал только одну его музу, как часто любят говорить, кому он посвятил довольно большое по своим размерам стихотворение «Мая каханая – зіма», пронизанное нежными чувствами, музыкой в каждой строке, ощущением необычной любви, наполненной внутренним светом: «Мая каханая – зіма», // Любіць другую не сумею. // Я па табе іду, зямля, // Абняўшы русую завею. // Яна харошая ў мяне. // Яна – і сонца, і марозы. // Прамень каханую кране – // Мая каханая у слёзы». Эту стыдливую с виду, не жадную на чернявость глаз и едва притаенную и таинственную улыбку «Г. Ц.» я часто встречал. И тогда, когда она была еще студенткой, и когда работала в отделе писем в редакции «Бярозка» и «Піянер Беларусі». За Анатолем я не замечал (может, потому, что не очень приглядывался, не интересовался их взаимоотношениями) особенного ухаживания за ней, а Галя не прятала своей симпатии к нему, даже некой близости, стараясь лишний раз во время рабочего дня показаться ему на глаза, заглянуть в его кабинет. Может, ошибаюсь, но, как мне кажется, несмотря на «ячменнасць» характера и неуравновешенность, не такую уже броскую и притягательную внешность, Анатоль вниманием девушек и женщин не был обделен. Ни в студенческие годы, ни где-то «на стороне».
Уверен, были у него знакомства, встречи, свидания с женщинами, быть может, нередкие и случайные, но судя по всему, они оставались только встречами и свиданиями (как с теми же Анфисой и Галей), – далеко не заходили. Почему? Думаю, в каждом случае он сам, как никто другой, прекрасно понимал: его избраннице с ним будет ой как нелегко и несладко уживаться, постигать прозу семейной жизни, учиться терпению, подстраиваться под его характер и поэтическую одержимость, сохранять в доме лад и согласие, а там наверняка и отцовские заботы о себе напомнят. Так зачем лишний раз обнадеживать, может, даже обречь на несчастье. Лучше всего разойтись.
Как удалось не разминуться с будущей женой Валей, как отважился на женитьбу с ней, я не знаю. Да и не допытывался ни у него, ни у нее. потом уже Валя рассказывала мне, раз за разом поднося платок к припухшим от слез глазам: «Приняла на ночь снотворное, чтобы хоть немного поспать, не слышать Толиных страданий от боли в голове, а под утро проснулась, протянула руку к нему, притихшему, думала, что наконец-то отпустило, уснул, а он уже холодный рядом лежит. Теперь ругаю себя: ну зачем я приняла те таблетки? Может, он хотел что сказать мне, да не успел?»
Как бы там ни складывалось в его личной жизни, Анатоль Сербантович с теплотой и уважением относился к женскому образу. И в этом нет ничего удивительного – в его представлении и понимании образ женщины (любимой и нелюбимой) всегда отождествлялся с образом матери. Не могу не согласиться с утверждением, высказанным Сергеем Ковалевым в предисловии к сборнику «Жаваранак у зеніце», где критик, по-моему, точно заметил: «Настоящее чувство в его поэзию принес образ матери. И именно любовь и благодарность к матери стали первыми настоящими кирпичами в здании его поэзии. Образ матери воспитал в нем поэта, как сама мать воспитала в нем человека. А потом образ сестры, например, хирургической сестры из прекрасного и доброго стихотворения «Хірургічная сястра». Интересно: глубокое уважение к человеку пришло в его поэзию только вместе с уважением к женщине, и в первую очередь к женщине-матери и женщине-сестре.
На мой взгляд, только он, Анатоль Сербантович, смог стать автором стихотворения «Жыве ў табе твая жанчына», которое можно разобрать на отдельные строки и цитаты, смело назвать гимном женской доброте и мудрости, благородству, мужеству и милосердию, верности своему призванию на земле, что даны ей природой и самим Всевышним.
Жыве ў табе твая жанчына.
Яна – залог той дабраты,
З якой упэўненасць магчыма,
Калі ідзеш па свеце ты.
Яна твая любоў і права,
Калі званы ў руках гудуць.
І ты замахваешся правай,
А левай хочаш прыгарнуць.
Не расцякаўся каб і верыў,
Што порах твой сухі яшчэ,
Яна – выток і твой жа бераг,
Дзе ты ўпэўнена цячэш.
І – помні, прагнучы свабоды,
Калі хто-небудзь з ног саб’е,
Што з двух адзін удар заўсёды
Яна прымае на сябе.
Ну, а калі без дай прычыны
Цябе захочуць апляваць,
Пачне тваёй рукой жанчына
Крышыць усё і бунтаваць!
Казалось, поэт не удержался, посчитал необходимым высказаться не просто эмоционально-возвышенно, а в чем-то даже грубовато, но это, как образность и лирическая просветленность строки, свойственно поэтической манере Анатоля Сербантовича. А разве можно иначе, если твоя душа наполнена любовью и находится в плену у женской красоты, под очарованием любви, которой еще было очень рано покидать согретое и окрыленное ими сердце поэта: «Ты мне верыш.// І нешта мне болей, // Калі любіш так, як я люблю, // І калі ты знаеш, што ніколі // Я табе благога не зраблю».
«Я табе благога не зраблю». Он стремился держаться этого правила не только в отношениях с девчатами и женщинами, близкими его сердцу и чувствам, но и к тем, с кем дружил, кого любил искренней душой поэта, кому верил, кто мог так же искренне сказать ему в ответ: «Я табе благога не зраблю». Случались трудности, не всегда удавалось «упэўнена цячы», но я ни разу не слышал, чтобы Анатоль жаловался на кого-то, на что-то плакался.
Наоборот, делал вид, что временные неудачи и неувязки не очень заботят его, что все устроится, встанет на свое место. И все же в такие минуты он, наверное, ждал от друзей и знакомых, от людей, кто хорошо знал его, не сочувствия и утешения, а той поддержки и тех слов, действительно теплых, душевных, которые придавали бы этой временно утерянной уверенности, настойчивости в поиске и свершении задуманного, потому что тропинка, по которой (по своей жизненной наивности или нарочито) старался ступать без особой оглядки, напролом, не всегда была ровной и прямой. Но – своя! И кто скажет, что женская нежность, ласковое и участливое слово в такую пору жизни для него, творчески увлеченного человека, было лишним, ненужным, когда все случалось не так, к чему стремилась душа: «Я ўсё шукаю нешта, а знаходжу // Не тое, што павінен я знайсці»?..
«Ты думаеш, што надта рады я...»
В редакцию журнала «Бярозка» Анатоля Сербантовича взяли на работу, когда он был еще студентом третьего курса. Остался здесь работать, пройдя журналистскую практику. Ему повезло, как раз освободилось место в литературном отделе, который до этого вел Рыгор Бородулин. Он ушел, и в редакции, не раздумывая, назначили на должность литсотрудником этого отдела вчерашнего практиканта Анатоля Сербантовича. Молодой, талантливый, серьезно относится к рукописям авторов, что приходят в редакцию и отбираются к печати, чувствует слово – разве не справится, приняв отдел? Безусловно, немало способствовала такому повороту в творческой судьбе Анатоля несомненная симпатия главного редактора журнала Кастуся Киреенко. Ему нравилось то, что выходило из-под пера молодого поэта, его задиристость, смелость мысли, свежесть поиска, и к тому же они были земляками, оба родом с Могилевщины. Наверное, поэтому ему часто прощались те грехи, за которые другим могли и выговор «закатать» или даже уволить без всяких разговоров. Для него же чаще всего заканчивалось все разговорами, да увещеванием, а с его стороны обещанием «штрафника» исправиться, соблюдать трудовую дисциплину. Смириться с этой дисциплиной, высиживать целый день за рабочим столом, выслушивать поучения и отбиваться от особо настырных «творцов», которым не боялся сказать в глаза, что тот графоман, чем дальше, тем больше становилось для него невыносимым. Его душа рвалась на волю, ему хотелось быть среди людей, глубже узнавать, как они живут. Только там, казалось ему, можно найти необходимые для творчества новые, а главное, правдивые темы и образы, которые может подсказать только сама жизнь. Он не хотел заниматься гладкописанием, «тянуть за уши» в свои стихи только то, что приветствовалось тогдашним порядком и нередко – критикой. И часто не обходилось без приключений, без головной боли для редакции. И все потому, что Анатоль мог, никого не предупредив, вдруг исчезнуть. Поднимался переполох, начинались звонки друзьям и знакомым: он уже который день не показывается в редакции! Куда исчез, а вдруг с ним что-то случилось? Разгневанный Кастусь Тихонович снова грозится уволить, как только появится. Однажды уехал, как выяснилось позже, в одну из районных газет на Могилевщине, где на какое-то время устроился простым литсотрудником.
Помню, немало насмешек ходило среди писателей, когда стало известно, что Толя Сербантович выкинул очередного «коника» – пошел работать вахтером. на ликеро-водочный завод «Крышталь». Шутили: «Пустили козла в огород». Может, и в капусту, но вот что я прочитал в эссе Василя Макаревича. Думаю, и вам это будет интересно.
«Когда Анатоль зашел ко мне и спросил, как я отнесусь к тому, что он пойдет работать на один из минских заводов, я посмотрел ему в глаза: не шутит ли? Может, это дружеский розыгрыш? За ним такое водилось. Нет, на этот раз он говорил серьезно. А что будет с работой в редакции? Возьмет на какое-то время отпуск за свой счет. Где-то через месяц я заехал к нему на работу. Он сидел на проходной Минского ликеро-водочного завода, следил за теми, кто заходит и выходит. Поговорили, пошутили. Спросил у него: употребляет или нет? Он ответил: «Ни капли! Если есть желание, то – пожалуйста». Он открыл шкафчик, а в нем с полдесятка бутылок с этикеткой «Правительственная», что отобрал у «несунов». Из разговора я понял: долго он здесь не продержится. Не его это место! Даже мне захотелось поскорее покинуть это злосчастное место. В памяти остались строки: «Ты думаеш, што надта рады я, // А ты пра гэта ці спытаў? // Я гэтай горкае «Урадавай» // Не спытаў і не паспытаў.»
Анатоль вернулся на свое прежнее место в редакцию журнала. Не знаю, что там снова случилось, но в октябре 1966 года мне на радио, где я тогда работал в редакции вещания на зарубежные страны, как-то позвонила из «Бярозкі» Елена Михайловна Мимрик, на то время редактор-стилист, а позже ответственный секретарь журнала: «Если будет время, зайди завтра к нам. С тобой хочет поговорить Кастусь Тихонович». Я уже знал, что Анатолий уволился «по собственному желанию», и видимо, в редакции хотят «посватать» меня на его место.
Я не ошибся. Через неделю, хотя было немного неудобно перед Анатолем, что, дав согласие перейти в «Бярозку», я словно подсидел его, занял место за тем столом, где вначале сидел Рыгор Бородулин, а в последние годы – он. Начал просматривать пухлые папки с произведениями писателей и начинающих, которые перешли мне в наследство.
Эта «отставка» и статус «вольного художника», по-моему, не очень огорчили Анатоля. Они действительно в какой-то степени, как говорят, развязали ему руки, дали возможность почувствовать себя более свободным и независимым от прежних обязанностей корпеть над чужими рукописями.
Теперь он мог работать над стихами всласть, не думая о том, что где-то его ждут редакционные заботы, поиск рассказов и стихов на пионерскую тему, сдача в номер необходимого количества произведений, командировки – чаще всего с целью подписки на журнал. Теперь у него появилась возможность по желанию выбирать творческие командировки, и не близкие, в Новополоцк или Солигорск, Новолукомль или к мелиораторам Полесья, где искали героев для своих романов, повестей, поэм и стихов многие белорусские прозаики, а, считай, на край света – в Сибирь, на Дальний Восток.
Правда, такие командировки выдавались с разрешения военкоматов, и их обладатели становились «военнообязанными», призывниками-стажерами. Анатоль захотел, казалось, невозможного – командировку ближе к белым медведям – на Север. Но об этом немного позже, потому что следует, как мне кажется, вспомнить «первопроходцев», с чего и кого начинались эти творческие вояжи, хождения за тридевять земель молодых белорусских искателей сюжетов и приключений.
«Сядзелі мы ўтрох...»
Все началось неожиданно, даже случайно, с фантазии дружеской тройки: Рыгора Бородулина, Владимира Короткевича и Геннадия Клевко (я уже писал об этом). Завязку этого сюжета я мог бы передать своими словами, так как довелось ее услышать от легкого на язык, острого на словцо Рыгора Бородулина. Но думаю, лучше, чем он сам рассказал в своей книге воспоминаний «Аратай, які пасвіць аблокі», я рассказать не сумею. Может, в этом и не стоит «расписываться» и смаковать, но кажется мне, что сегодняшним читателям интересно все же знать, как могут завязываться добрые дела и появляться интересные литературные сюжеты. Тем более, Рыгор Иванович не прячется за давностью времени, а признается как на духу: «Сидели мы втроем у меня в квартире, что на улице Белинского. Когда бутылки на столе можно было подставлять ветру, чтобы свистели, грустно начали рассуждать о том, что хочется поездить, мир повидать. Мне стукнуло в голову позвонить генералу Алексееву, который возглавлял военно-шефскую комиссию в Союзе писателей Беларуси. Генерал любил литературу, сам писал прозу. Очень старался выбить как можно больше значков за культурно-шефскую работу над армией. Было у этих значков, кажется, три ступени.
А позвонил я генералу Алексееву, чтобы послал он нас на стажировку в любую военную газету. Нас – это Владимира Короткевича, Клевко и меня. В хорошем настроении мы попросили, чтобы послали нас как можно дальше. Генерал сказал, что дальше Владивостока нас послать не может. Телефонная просьба была глубокой осенью. Точнее, почти в зазимок 1964 года. Шли дни. О разговоре с генералом мы забыли. Пришла весна. Владимир собрался ехать к любимому дядьке в Рогачев, где в основном и писались «Каласы пад сярпом тваім». Я собрался к маме в Ушачи. И тут приходит повестка всем троим в военкомат. Подкрепив доброй чаркой, послали в военкомат Клевко. Пусть разведает, что к чему. Там ему сообщили, что он командируется на Дальний Восток, в город Владивосток для стажировки в окружной газете. Тут же предупредили, чтобы срочно передал Короткевичу и Бородулину.
И оказались мы в августе во Владивостоке. Мы с Клевко по-журналистски старались что-нибудь словить в записные книжки – изучали жизнь, а Короткевич во время наших поездок по Приморью не выпускал изо рта сигарету, обязательно читал какую-нибудь книгу и как бы дремал. А потом мы ахнули, что он увидел и как, главное, увидел. В какой-то день с вещмешком за спиной вообще исчез. Вернувшись, рассказывал о Кедровой пади, заповеднике. Нам привез в подарок кедровых шишек.»
Будучи стажерами в газете «Боевая вахта», друзья не только «красовались» в форме морских офицеров, но и смогли открыть для себя много нового, необычного – чего никогда бы не увидели дома. След от той творческой командировки не затерялся во времени и в творчестве друзей. Кто не читал и не восторгался «Чазеніяй» Владимира Короткевича, чудесной, богатой на неожиданные образы и находки; лирикой Рыгора Бородулина, «выловленной» и привезенной с берегов Тихого океана. Помню, у нас не сходили с губ строки из стихов о владивостокских девушках (не такого и приличного, по понятиям того времени, поведения), которые встречают на причалах матросов с рыболовецких судов из далекого плаванья и с богатым «денежным» уловом»: «Не з карабля, дык топай міма, паравозам галасі. // Глядзяць зялёнымі вачыма, // Як не занятыя таксі». В то время это было сказано не только необычно, образно, но и удивительно смело, что заставляло задуматься, как такое могли напечатать? Наверное, поэтому так остро и зацепилось в памяти.
Убедившись в пользе, хотя и временного, воинского призыва, к тому же увидев результат этих командировок, вслед за ними «флотскую вахту» отслужили Владимир Павлов, Федор Черня. И как результат – циклы новых стихов, по-настоящему интересных произведений, которые достойно пополнили их творческую копилку, нашу поэзию.
«А ёсць, а ёсць туга па поўначы...»
Что касается Анатоля Сербантовича, так он тоже надеялся на хороший творческий «улов». И он был. Анатоль умел удачно и уже со сложившимся профессиональным опытом забрасывать «поэтический трал», начиная с легендарного Урала: «На беразе Урала распранаюся. // Хвіліна – і я з кручы палячу. // Ды я стаю. // Я ў хвалі углядаюся, // Нібы праз хвалі я глядзець хачу.» – везде, где бы ни ходил, ни ездил, где бы «ни причаливали» его муза и вдохновение. А побывал он с осени 1966 года во многих уголках Советского Союза: в Казахстане, Средней Азии, в Заполярье, на Дальнем Востоке.
Что случалось с ним в далеких от Беларуси краях, как проходила служба во время военных стажировок, я от него не слышал. Но по одному случаю могу предполагать, что и в таких условиях, регламентированных строгой армейской дисциплиной, субординацией и Уставом армейской жизни, Анатоль оставался «оригиналом», человеком, способным на любой необычный поступок, который не мог прийти в голову ни одному, даже самому отважному новобранцу, тем более в Морфлоте, где испокон веков существует железная дисциплина, строгая субординация от матроса до адмирала. Кому охота за нарушение «сидеть на губе» или сутками драить палубу корабля? Это что касается обыкновенного «салаги», а что, если в его роли выпало оказаться Анатолю Сербантовичу?..
Не остался забытым такой курьезный случай. Всегда улыбаюсь, когда он всплывает в памяти. Воспоминания о нем из далекого Североморска привез Василь Хомченко. Сам Василь Хомченко, военный юрист в звании майора, был переведен туда в последние годы своей военной карьеры. Наверное, с расчетом на лушую пенсию при выходе в запас. Через некоторое время, приехав на побывку в Минск, он зашел в «Бярозку» в форме морского офицера и уже с двумя звездочками на погонах – капитаном второго ранга. Зашел не просто так, а принес новый рассказ «Белы Патап». Просил напечатать к его юбилею – исполнялось пятьдесят лет. Василь Федорович рассказал, как ему живется и служится на новом месте вдали от родной Беларуси, и вдруг, наверное, чтобы развеселить нас, вспомнил тот случай, о котором ему рассказали коллеги в Североморске. И случай этот касался – кого бы вы думали? – конечно же, Анатоля Сербантовича, когда тот был там в очередной командировке и стажировался на корабле.
Кто служил, тот знает, что происходит в воинской части или на военном корабле, когда ожидается приезд высокого начальства. Все вышестоящие чины не знают покоя ни днем, ни ночью, везде наводится образцовый порядок, чистота, проверяется готовность личного состава по всем законам воинской службы. А на флоте, наверное, с еще большим рвением: в морской службе немало своих, только ей свойственных особенностей и обязанностей. Как рассказал Василь Хомченко, в тот день на корабль, на котором в робе рядового матроса стажировался Анатоль Сербантович, наведался не просто адмирал, а сам командующий эскадры. Само собой понятно, приветствовать начальство на палубе выстроилась вся команда. Начался обход, считай, парадная церемония. Идет адмирал вдоль шеренги матросов, всматривается в их вытянутые в струнку фигуры и сосредоточенные лица, время от времени бросает слово-другое офицерам, которые его сопровождают, и вдруг из замершей шеренги навстречу ему выходит какой-то мальчуган, одетый в матросскую форму, которая держится на нем как-то причудливо и даже с каким-то вызовом. Командира корабля от ужаса передернуло: неужели с какой-то жалобой или просьбой? А мальчуган в матросской форме, словно ничего не случилось, протянул адмиралу руку и отрекомендовался: «Стажер Сербантович! – Потом добавил: – Поэт».
Командующий эскадры шел, приложив руку к своей фуражке, от неожиданности остановился и, постояв в растерянности какое-то мгновение, протянул нахалу(по-другому и не скажешь) руку. Поздоровавшись, стажер молча вернулся в строй. А адмирал, вскинув руку к фуражке, двинулся дальше. Над палубой, над строем матросов и офицеров повисла напряженная тишина. Чем все закончится?
– Откуда на вашем корабле это огородное пугало взялось? – не скрывая раздражения, спросил адмирал после парадной церемонии.
– Из Беларуси, товарищ адмирал, стажируется у нас, – оправдывался командир корабля. – Командировка у него такая. Творческая. Изучает флотскую жизнь, как он сказал. Так и в его предписании значится.
– Немедленно списать на берег, – приказал, как отрезал, адмирал. – Нечего таким недотепам делать на военном корабле. Пусть с рыбаками в море ходит, там романтику ищет. Больше пользы будет.
Не знаю, рассказывал ли кому Анатоль об этом озорстве (а иначе такое и не назовешь) и надолго ли задержался он в той «морской командировке», но вернулся он с Севера с циклом новых стихов: «Мора», «Мыс жадання», «Марскія кулікі», «Акіянна», «Белая кніга», «Халоднае і цёплае цячэнне», «Падлодка не ўсплыла.». Как видим, улов солидный, и я бы сказал, очень серьезный!
Конечно, никто – ни суровый адмирал, ни корабельная команда, кто был свидетелем той безрассудной выходки молодого поэта в матросской робе, его стихов не читал, но наверняка надолго запомнил тот неуставной курьез. Ну а если кто и вспомнил, то не иначе как с теплой улыбкой. Да и сам Анатоль, если судить по его стихам, по искренности и глубине их, до конца дней своих оставался влюбленным в далекий северный край, который навсегда оставил след в его сердце неповторимой красотой, всем тем, что завораживает, притягивает: «А ёсць, а ёсць туга па поўначы, // Адкуль вярнуўся без рубля, // Дзе аддаваў сябе не помнячы,// Баркасам, чайкам, караблям.»