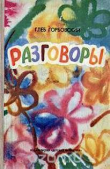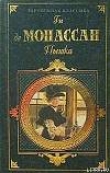Текст книги "«И весною взойду...» (ЛП)"
Автор книги: Микола Чернявский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Микола ЧЕРНЯВСКИЙ
«И ВЕСНОЮ ВЗОЙДУ...»
Повесть о друге
А над песняю той, недапетай,
Прагудзела труба жураўля:
Тых,
З кім дзеліцца неба
сакрэтам,
Маладым забірае зямля.
Анатоль СЕРБАНТОВИЧ
Где-то года два назад позвонила мне Римма Ковалева, доцент кафедры фольклора Белгосуниверситета. Поделилась новостью: на одном из сайтов в Интернете появилась их литературно-художественная программа – альманах «Дзьмухавец». «Не видел? О чем он? Рассказывает о жизни университета, о его знаменитых выпускниках, в том числе о писателях, которые в разные годы учились здесь. Если тебе интересно, зайди на наш сайт, можешь даже скачать на свой компьютер, и даже распечатать, если понравится. Ты не заходишь на наш сайт?» Услышав, что я не умею работать с Интернетом, этим чудом человеческого разума, удивилась: «А ведь у нас есть специальная рубрика, и я хочу, чтобы ты поучаствовал в ней, поделился воспоминаниями о годах учебы, жизни в общежитии (может, еще не забыл, как мы устраивали танцы в вестибюле), напечатал свои стихи о студенческом житье-бытье, какие сам посчитаешь интересными. Не думаю, что в памяти ничего не осталось о том времени. Конечно же, воспоминания остались и стихи найдутся».
Заинтересовавшись таким предложением, долго не раздумывая, согласился. Почему Римма Модестовна, как ее теперь зовут-величают студенты филфака, где она преподает (даже моя дочка Настя была слушательницей ее лекций), не забыла номер моего телефона, обратилась ко мне? Да потому что я помню ее еще вчерашней школьницей, усмешливой девчонкой, когда звали ее просто Риммой, да и не Риммой вовсе, а было у нее свое девичье имя. Нет, мы не учились с ней в одной школе и не были одноклассниками. Совсем другая история предшествовала нашему не такому уже короткому знакомству. Это позже я узнал: она мне, считай, землячкой приходилась – десятилетку закончила в Речице, оттуда и приехала на учебу в Минск. Совсем неожиданно нас свел университет, тогда еще единственный в республике – БГУ. А скорее, желание учиться в нем, стать студентами. В том августе далекого 1960 года, когда я приехал в Минск сдавать вступительные экзамены, на время их сдачи мне выдали направление в общежитие, которое находилось на улице Димитрова. Где находилась эта улица, наверное, надо объяснить, особенно молодежи, позже ее переименовали в Парковую магистраль, потом в проспект Машерова, а с какого-то времени она стала проспектом Победителей. Так же, как обновлялись и исчезали названия улиц, недавней весной пошел под снос и исчез из уличного реестра, но, надеюсь, не из памяти тех, кто когда-то жил в нем, дом под номером 9. Долгие годы он жался в тени современных высоток, словно мозолил им глаза, и вот «сдался», уступил свое место более современному монстру, уже не жилому, а торгово-развлекательному комплексу. Ничего не поделаешь. Явь наших дней. А тогда была своя – более понятная нам явь...
Держу в руке направление, думаю в растерянности: где искать это общежитие? Смотрю, а я не один такой. Может, спросить ту девушку, которая держит точно такой листок и о чем-то переговаривается с привлекательной молодой женщиной, наверное, матерью?
– Поедем вместе искать! – глянув на меня, решительно сказала женщина и подхватила свой чемодан.
Я не ошибся: Римма приехала с мамой. Из университетского городка мы пошли в сторону проспекта, который тогда носил, по-моему, имя Сталина. Риммина мама, как оказалось, довольно решительная женщина, быстро пошла впереди. Чемодан был тяжелый, но она будто не замечала его тяжести, и мы с Риммой едва поспевали за ней. Что девушку зовут Риммой, я узнал по дороге. Мне сразу понравилось ее имя, такое же было у моей старшей сестры.
Римма шла налегке, руки были свободными, а я кроме чемодана, загруженного учебниками и другими необходимыми вдали от дома вещами, нес, прижимая под мышкой левой руки, большой батон, который прикупил еще утром, выйдя из вагона, в привокзальной булочной. Батон тот весил, наверное, килограмма полтора, я отдал за него четыре рубля на те деньги. А взял большой, потому что боялся: вдруг разберут? Его за раз не съешь, если бы и хотел, так что хватит на день или два. Лишние деньги тратить зачем? Может до дома не хватить. Как добираться тогда? Я же не рассчитывал, что мне улыбнется счастье: в Доме печати получу целых сто шестьдесят рублей гонорара за стихотворение «Золотые руки», которое было напечатано в июльском номере журнала «Бярозка»! Так что можно было уже купить что-нибудь вкусненькое.
Батон я нес завернутым в газету, из которой он почему-то постоянно выскальзывал. Это мешало мне идти за Римминой мамой так же бойко, как она. К тому же, признаюсь искренне, в те минуты я чувствовал себя неловко перед этой беззаботно-усмешливой девчонкой и ее сосредоточенной мамой за свою деревенскую неуклюжесть: мол, осчастливился, бедолага, ничего подобного раньше в глаза не видел! А по правде – так и не видел. Но про себя все же радовался, что повезло попасть в такую компанию искателей неизвестной улицы и общежития, в котором доведется жить и готовиться к вступительным экзаменам.
Женщина не стеснялась останавливать прохожих и время от времени переспрашивала, не знают ли они, где находится улица имени Димитрова. Последним, к кому мы подошли с таким вопросом, был милиционер-регулировщик на перекрестке около ГУМа. Услышав, что нам надо, он не очень уверенно показал рукой: «Кажется, туда. Но вы еще по дороге у кого-нибудь спросите».
И мы, словно пилигримы, двинулись дальше мимо домов, что стояли по улице Ленина. Перешли трамвайные пути, за ними – широкий бетонный мост, который перекинулся через улицу, где-то там, внизу, слышался размеренный шум машин. За мостом, прямо перед нами, раскинулся пустырь, усыпанный битым кирпичом, заросший лебедой и репейником. Кое-где на пустыре паслись козы: чем не деревенский пейзаж? Отсюда начиналась улица, застроенная деревянными домиками, они жались друг к другу около приусадебных огородов. Позже я узнал, что это местечко в столице называется Татарская слобода. Такой необычный для столичного города пейзаж еще не один год будет оставаться неизменным, бросаться в глаза некой старосветскостью, а точнее, своей беспросветной убогостью. Возвращаясь сюда, Анатоль Сербантович напишет: «На Паркавай – прыгорбленыя хаты, на Паркавай – высокі інтэрнат...» Тогда он на самом деле казался высоким: из белого кирпича, пятиэтажный, он единственный возвышался на том пустыре, по соседству с деревянными хатенками, потому и бросался в глаза издалека. Увидев его, мы с облегчением вздохнули: это, наверное, и есть то общежитие, которое мы ищем.
Что не ошиблись, поняли, когда подошли ближе. Перед входом в общежитие столпились такие же, как и мы, парни, девчата с чемоданами и разбухшими сумками – претенденты на таинственно-романтическое звание студента.
– Почему все на улице толпятся, что, не пускают внутрь? – поинтересовалась мама Риммы у какого-то мужчины, который, наверняка, был здесь в качестве сопровождающего дочки или сына.
– Говорят, комендант где-то задержался. А без него никто не может принять абитуриентов, чтобы распределить по комнатам. Сказали, надо подождать...
Одни сидели на высоком крыльце, другие стояли невдалеке группками и в одиночку. Кто-то оживленно переговаривался, а кто-то молчал. Обычная картина: собралось много молодежи, вчерашних, считай, школьников, еще не успели перезнакомиться, избавиться от застенчивости и даже растерянности перед неизвестностью, что ждала их.
Я с тяжелым чемоданом и батоном под мышкой, который едва помещался в растрепанной газете, отстал от своих спутников, пробрался ближе к крыльцу, на голос, который слышался оттуда. Из всех, кто сидел на крыльце и толпился вокруг него, бросилась в глаза фигура паренька. Щуплый, худенький, с детским выражением лица, на котором заметно выделялся не совсем соответствующий его лицу нос (позже друзья и знакомые будут сравнивать с бородулинским), он мне, деревенскому хлопцу, в тот момент напомнил молодого петушка, который был готов закукарекать или броситься в драку из-за любой обиды. Это позже (не обращайте внимания, что часто использую слово «позже» и «потом», без них никак нельзя обойтись) старший товарищ по жизни и творчеству поэт Алексей Пысин в предисловии к его посмертному сборнику «Пярсцёнак» сравнит Анатоля Сербантовича с весенним жаворонком, а тогда, на крыльце студенческого общежития.
Он стоял на нижней ступеньке каменного крыльца и, словно подбадривая себя взмахами рук, читал. стихи. Свои или чужие – не знаю. Все, кто стоял рядом, внимательно слушали. Кому-то действительно было интересно, а кто-то, может, думал: ну что за чудак нашелся? А хлопец (можно сказать, даже хлопчик) вдруг замолчал, окинул «аудиторию» взглядом: «А может, кто еще хочет почитать стихи? Кто из вас пишет?»
Желающих не нашлось. Да и откуда им взяться, когда вокруг тебя все чужое, это не перед друзьями слово держать, показывать, что у тебя за душой. Некоторые даже, опасаясь, чтобы этот бойкий «артист» не зацепил его и не вытянул на «трибуну», отошли подальше от крыльца. Я тоже отошел, но, помню, подумал: «Ты смотри, какой смелый! Откуда он, на какое отделение приехал поступать? Видно, как и я, на белорусское?» Познакомились на консультации. Она была общей для всего филологического факультета. Оказалось, что он поступает на отделение журналистики. Туда, куда я подал свои документы вначале, но мне отказали: не было обязательного двухлетнего рабочего стажа после окончания средней школы. Когда знакомились, он протянул руку: «Анатоль Сербантович. Приехал из Шкловского района». Сразу признался, что пишет стихи и уже печатался в «Магілёўскай праўдзе». Был участником областных семинаров, знаком с поэтами Алексеем Пысиным и Василем Матеушевым. Позавидовать было чему, творчество этих поэтов я знал хорошо по их стихам в газете «Піянер Беларусі», которые печатались в рубрике «Беларускія пісьменнікі – дзецям». Сразу подумалось: палец в рот ему не клади. Какая-то ершистость и категоричность была в его голосе и едва уловимая уверенность в правильности всего, о чем он говорил. И это импонировало. Было видно, что за плечами у него серьезный жизненный опыт. Анатоль был на два года старше меня и уже поработал грузчиком в колхозе после окончания школы. Признаюсь, в правдивость этих слов не хотелось верить: «Не слишком ли ты слабоват для такой тяжелой работы? Разве мешки с зерном да картошкой по тебе?» И что я ошибся, убедился потом в общежитии, когда в шутку решил побороться – редко удавалось «припечатать» его руку к столу.
Разъезжались после вступительных экзаменов друзьями. Расставались с надеждой, что встретимся в сентябре, но уже студентами.
«Ёсць дом на вуліцы Свярдлова...»
Для Риммы Ковалевой я подготовил материал: цикл стихов и зарисовку в прозе «Ёсць дом на вуліцы Свярдлова». Ее завершил вопросом, который наверняка задал бы каждый, кто когда-то, в далекой юности, ступил на то высокое крыльцо, ходил по коридорам общежития, слыл своим среди друзей, находил приют в гомонливых комнатах: «Как ты живешь теперь, наше общежитие, кого радуешь своим теплом и уютом? И будет ли что вспомнить тем, кто ходит по твоим коридорам сегодня?»
Ёсць дом на вуліцы Свярдлова,
Які мне ўсцешвае душу,
Дзе спазнаваў таемнасць слова,
Якім жыву,
Якім дышу.
Сюды мяне вяртае памяць
Нібы юнацкіх дзён святло.
Няўжо было ўсё гэта з намі?
Няўжо ўсё гэта адцвіло?
І сэрца згодзіцца вяснова,
Устрапянецца, як лісток...
Ёсць дом на вуліцы Свярдлова —
Майго сяброўства астравок.
Познакомившись с моей, может, запоздалой исповедью, Римма Модестовна не скрывала своего волнения: мои воспоминания ей тоже навеяли немало о тех событиях, что прошли под крышей этого дома. Я же, возвращаясь в ту неблизкую пору, не забыл лишний раз рассказать о том, как нам жилось в студенческом общежитии, с чего начинался путь моих друзей-ровесников: Миколы Малявко, Эдуарда Зубрицкого, Михася Вышинского, Алеся Масаренко, Михася Зарембо, Рыгора Семашкевича, Геннадия Дмитриева, Казимира Камейши, Федора Черни, Иосифа Скурко, Марии Шевчонок, Ольги Ипатовой, и конечно же, Анатоля Сербантовича. Общежитие собрало нас всех вместе и сблизило. Вдали от дома никто из нас не чувствовал себя одиноким, «интернат» учил держаться дружной семьей. А что касается начинающих искателей рифмы, так еще – и семьей литературной.
Пусть у меня и не было с Анатолем такой закадычной дружбы, как, например, с Миколой Малявко, а у Анатоля с Василем Макаревичем, – у всех нас было главное, что с первого знакомства не просто сблизило, но и сроднило, переросло в творческое братство, – это одержимость, стремление поскорее постичь секреты мастерства, показать, что ты не случайно выбрался на эту непроторенную тобой дорожку и сможешь чего-то добиться. У нас не было никаких авторских тайн, мы искренне делились замыслами, тем, что уже сделано, что-то подсказывали друг другу, даже, без всякого сомнения, могли пожертвовать удачно найденной рифмой, образом, если понимали, что сам не сможешь воспользоваться этой находкой. Радовались не таким уже и частым удачам – напечататься в недоступных до этого «Маладосці», «Беларусі», «Полымі», «Вожыку». Или в «Дні паэзіі» и «Чырвонай змене», которую мы, новобранцы, справедливо считали «крестной». А те, кто прошел в ней «школу литературной зрелости», теперь уже нам на заседаниях литературного объединения терпеливо давали уроки мастерства, – Рыгор Бородулин, Владимир Павлов, Иван Колесник, Янка Сипаков, Юрась Свирка, Геннадий Буравкин, Кастусь Цвирка, Степан Гаврусев, Семен Блатун. Они, сами еще молодые, но с талантом от Бога, опекали нас, можно сказать, «зеленых», потому что верили в нас, надеялись на творческий взлет и достижения. И это, несомненно, подбадривало нас, поднимало настроение, понуждало работать над собой.
Анатоль Сербантович был как раз одним из тех неугомонных, нетерпеливых искателей, он опережал нас, успевал сказать то, над чем кто-то еще раздумывал, не боялся попасть в немилость за правдиво высказанные строки и слова, был одержим заветной мечтой: «Я, нібы зерні, словы сёння // Хачу пасеяць між людзей...» И в то же время: «Не мелка сеяць, не глыбока, // А каб у сэрцах узышлі!»
После прожитых трех лет «зайцем» в студенческом общежитии по улице Свердлова по решению местного студенческого «начальства» (того же председателя профкома университета Анатоля Кудравца, будущего талантливого прозаика, а тогда старшекурсника отделения журналистики, такого же «творца», каким был и я) мне, студенту вечернего отделения и сотруднику Республиканского радио, осенью 1963 года пришлось сказать «прощай» гостеприимному общежитию. Было грустно расставаться с тем, к чему успел прикипеть, где осталась частичка моей души, тем не менее, приглушив в себе волнение перед будущим, перебрался, словно из дружной колхозной деревеньки, которая никогда не знала ни покоя, ни тишины, на незнакомый малосемейный хутор, словно окунулся в другой мир, окутанный грустью и неизвестностью. Благо сборы были недолгими: связка книг, остального было мало – не успел еще к тому времени обрасти вещами.
«Вуліца Грамадская, кватэра прыватная...»
Благодаря подсказке радиожурналиста Анатолия Залевского, который там жил с семьей, квартира нашлась довольно быстро и совсем недалеко от железнодорожного вокзала, на улице Грамадской. Не очень широкая, не всюду заасфальтированная, кое-где мощенная камнем, она находилась по соседству с известной улицей Красивой. Почему известной? Да потому, что в предвоенные годы, да и после войны, там квартировались многие молодые литераторы.
Теперь здесь стоят высотные дома. А в то время в тени яблонь и вишен, груш и слив роскошествовал частный сектор. Мой новый приют находился на втором этаже аккуратного деревянного домика, еще не очень старого, и больше напоминал пристроенную летнюю мансарду, нежели жилое помещение. Но справедливости ради стоит сказать, что хозяева, планируя сдавать помещение квартирантам, утеплили его, в холодное время обогревали – внизу находилась небольшая котельная. Зато весной и летом был настоящий рай: в одно окно заглядывали ветки соседского сада, а в другое – хозяйская вишня. С двух сторон «голубятню» окружал аккуратный деревянный балкон. На него в погожий день можно было выйти и порадоваться ласковому солнцу, полюбоваться утопающими в садах домиками, ясной голубизной неба. Когда наведывались друзья в гости, то не могли удержаться от искушения протянуть руку в раскрытое окно, чтобы сорвать яблоко или горсть вишен. Они даже завидовали мне: такая романтика вокруг! И стоит ли далеко ходить, чтобы причаститься глотком поэтического вдохновения? Что это было именно так, через много лет припомнил Казимир Камейша в стихотворении «Окно», не забыв посвятить: «Міколу Чарняўскаму»...
Акно расчынялася ў сад
І ціха ўсміхалася лету.
І, просячы мёду, аса
Кружляла над думкай паэта.
Той двор аж стагнаў ад галін.
І падаў за шыбаю яблык
У бездань шчаслівых хвілін
Пад гукі высокага ямба.
Быў кожны сябе маладзей,
Нібыта ляцеў па-над часам.
Смяяўся, свяціўся наш дзень,
Як яблык пад чарамі Спаса.
Хмяліў нас вясёлы той сад
Напоем і нашым, і крымскім.
І ў шклянцы купала аса
Тутэйшага гонару крыльцы.
Было маладым не да сну,
Шукаючы дзіўнага сэнсу,
У сад малады, у вясну
Само расчынялася сэрца.
На той «голубятне», как мы называли ее между собой, я жил со своим земляком Владимиром – сегодняшним ученым, доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии наук. Он был старше меня и в то лето, окончив отделение журналистики БГУ, пришел работать в редакцию зарубежного вещания Республиканского радио, в которой тогда работал и я. Через какое-то время в военкомате обнаружили, что он еще не служил в армии, и его призвали на военную службу. Комнату мы снимали вдвоем, поэтому хозяйка посоветовала мне найти замену земляку: не стоит пустовать лишнему местечку на той «голубятне» и каждый месяц терять пятнадцать рублей.
Узнав, что Анатоль Сербантович по каким-то неизвестным мне причинам решил уйти из общежития и ищет жилье, я предложил ему: «Давай подселяйся ко мне! Недалеко, и хозяева порядочные, приветливые». Анатоль даже обрадовался: «А почему бы и нет? Поехали договариваться!»
«Рыфмамі вершы звязваю...»
И правда, хозяева были приветливые и гостеприимные. К тому же, по-своему интеллигентные, близкие мне по отношению ко всему белорусскому: хозяин, Павел Антонович, главный бухгалтер универмага, на память знал много стихов Янки Купалы, Якуба Коласа, Михася Чарота, Кондрата Крапивы, которые остались в памяти со школьных лет. Со мной старался говорить по-белорусски. Именно из хозяйской библиотеки я разжился двумя томами избранных сочинений Янки Купалы, которые издавались в 1928 году. Хозяйка, Зинаида Николаевна, была немного другого склада: литературой не интересовалась, но никогда не злилась на квартирантов, не вмешивалась в их быт. Когда случались семейные торжества, приглашала и нас за общий стол. Не каждый квартирант мог похвалиться таким уважением со стороны хозяев.
Не сразу, но тем не менее, хозяйская симпатия досталась словоохотливому Анатолю: какое-то время он приглядывался к ним, а они к нему. Нам же приглядываться, входить друг к другу в доверие особой необходимости не было: дружба наша проверена годами, и не было причин сомневаться в ее искренности и надежности. И все же хочется признаться, что через какое-то время я стал сомневаться: правильно ли поступил, когда предложил Анатолю соседство на нашей «голубятне». Я хорошо знал его по нашим тусовкам в общежитии, сборам в литературном объединении «Чырвонцы», по редакционному общению в журнале «Бярозка», по веселым студенческим застольям, и вдруг мы оказались под одной крышей, в одной комнате, соседями по топчанам, которые стояли почти впритык. Разные характеры: я – спокойный, в чем-то даже копун, которому свойственна рассудительность, он – беспокойный, непоседливый, горячий, дерзкий, категоричный в суждениях и высказываниях, может, даже с нотками самоуверенности. Анатоль не скрывал своих убеждений, говорил в глаза то, что думал, что подсказывали его придирчиво-критический разум и совесть. Он особо не разбирался, кто перед ним: писатель солидного возраста, с «короной» классика, или кто-то из нас, его друзей, таких же, как и он, искателей рифмы. Может, кто-то промолчал бы, свое мнение оставил при себе или приберег к удобному моменту, а он не мог – сразу «загорался»! Откуда это все, откуда у него такой характер? Анатоль признался в стихах о своей родословной: «І пэўна, і мела, і мае значэнне // Тое, што каб на калені не ўпаў, // Май нарадзіў, а хрысціў мяне чэрвень // І ў свінцовай купелі купаў». (Действительно, он родился 13 мая (!) 1941 года, за месяц до начала Великой Отечественной войны. Поэтому понять его можно: «Год сорак першы – нянавісць і боль».) И еще не упустил случая признаться: «Я ўзяў у ячменя характар яршысты, // Даў мне задуменнасць задумлівы бор.» Вот из-за этой «ячменнасці», наверное, и многочисленные неприятности имел, особенно от тех, кто был на высоких должностях или карабкался по ступенькам карьерной лестницы, чтобы добиться своего, хотя делал вид, что не замечает их, будто все ему нипочем...
Однако, что это я? Снова разговорился, свернул не на ту дорожку. Наверное, следует разъяснить, из-за чего возникли мои сомнения по отношению к нашему соседству на улице Грамадской, хотя я не сомневаюсь, был одним из первых, кто мог прикоснуться к тайнам его «творческой лаборатории», увидеть, как он трудится над стихами, творит. Даже хочу уточнить: он не творил, а колдовал. И чаще всего в ночной тишине. Пока Анатоль квартировал рядом со мной, в нашей комнате не успевал выветриваться аромат кофе. Не такого, конечно, как сейчас рекламируют и продают, попроще, доступнее, который был по карману тогдашнему интеллигенту. Чтобы не уснуть, он с вечера заваривал его целую кастрюлю, заворачивал в полотенце, чтобы не так быстро остывал, ставил на всю ночь у стола. и начинал писать. В эти минуты я не приставал к нему с разговорами, затихал на своем топчане, который стоял впритык к столу, старался уснуть. Мне надо было вставать рано, чтобы не опоздать в редакцию радиокомитета, а Толя мог поспать и попозже, даже задержаться: в журнале «Бярозка» рабочий день традиционно начинался «с опозданием», где-то уже в полдень, кстати, как и во всех литературных изданиях.
Засиживался Толя за столом, пока не начинало светать и на дне кастрюли оставалась одна гуща. Я, бывало, подшучивал: «Ты знаешь, Толя, почему твои стихи нравятся читателям, особенно девушкам? Да потому, что они замешены на кофейной гуще. На которой они любят гадать». Услышав такое, он сначала заходился каким-то смехом, потом, словно соглашаясь, высказывал свое суждение: зато крепче будут, не рассыпятся сразу, когда критики начнут их дергать и трясти, выискивая недостатки, они же у нас такие.
Свой взгляд на все был и у Зинаиды Николаевны, у нашей хозяйки. «Ой, Анатоль, послушай меня! Ты же можешь раньше времени посадить сердце», – говорила она, принимая из его рук пустую кастрюлю с черной гущей на дне. «Ничего, выдержит, – не соглашался Анатолий, – кофе не мешки с цементом или рожью, которые на своем горбу в колхозе таскал». – «Смотри», – предупреждала она, качала головой и закрывала за собой дверь нашей комнаты.
Я не имел привычки утром, пока Толя спал, совать нос, подглядывать в исчерканные страницы школьной тетрадки (почему-то именно в таких тетрадках он любил писать), которые беспорядочно были разбросаны на столе. Я верил ему, когда он, усталый, но довольный, признавался, словно желая в чем-то упрекнуть меня: «Ты спал как сурок, а я за ночь пять стихотворений написал. Не веришь? Тогда послушай, чтобы не сомневался», – торопливо переворачивал несколько листков в тетрадке, немного дольше задерживал взгляд на одном из них, и энергично начинал читать, жестикулируя рукой в такт строкам:
Рыфмамі вершы звязваю,
Атрымлівай – што каму,
І запіраю іх, вязняў,
Ў шуфляду, нібы ў турму.
Хто меней сядзіць, хто болей,
Аж покуль не будзе ўказ:
І не амнісціруе волю
Начальнік няўмольны – Час.
Начальнік,
працуй спакойна,
Табе давяраем мы.
Толькі адных дастойных
Ты выпускай з турмы».
Закончив чтение, он цепким взглядом буквально впивался в меня: «Ну как тебе? Не будут цепляться, что немного жестко сказано, узников да тюрьму вплел? У нас же такие слова не любят, стараются избегать, как будто никого за решетку не сажают, баландой не кормят». – «А по-моему, никакой крамолы нет, – высказывал я свое мнение – Образно же сказано. Только посмотри, чтобы в четвертой строке в первом куплете после “Ў” краткого снова “У” не сокращалось – “ў шуфляду”. Выговаривать сложно. И не по правилам. Это классики могли себе такое позволить, тот же Максим Танк, а к тебе из-за этого могут прицепиться. Скажут: надо поправить. Или Аврамчик, или так еще кто-нибудь.» Он снова пробежал глазами по строкам, ткнул пальцем в тетрадку: «Пусть пока так останется, а там посмотрю.»
Перечитывая недавно сборник «Жаваранак у зеніце» в разделе «З неапублікаванага» заметил: это стихотворение Анатоль оставил в таком виде, в каком читал тогда мне. Наверное, решил остаться при своем (это было в его характере).
«Голасам тужлівага адчаю...»
Наше совместное квартирование продолжалось недолго. Наверное, года два. Осознав, что двум котам в одном мешке ужиться не всегда удается, Анатоль однажды сказал мне, что хочет подыскать себе другую квартиру, лучше, чем эта, более подходящую для нормальной городской жизни. И вскоре он перебрался с нашей улицы Грамадской куда-то в район Грушевки. И мы теперь встречались редко. После того уличного происшествия, которое подстерегло его через какое-то время, Анатоль наверняка пожалел, что поменял соседство с улицей Красивой. Что с ним произошло в тот вечер, мне Анатоль не рассказывал, да я и не расспрашивал: может, ему не очень приятно было вспоминать о том, что оставило больной след, еще одну жгучую рану? Василь Макаревич вспоминает, что в тот зимний вечер его избила банда уличных хулиганов. Это и неудивительно: Грушевка всегда имела славу не самого тихого района столицы. От местного хулиганья перепадало многим. Не повезло и Анатолю. Все произошло по давно известному, привычному в таких случаях сценарию.
Они остановили его и попросили закурить. Анатоль ответил, что спичек у него нет. И по своей наивности похвалился, что у него есть деньги и что он может дать им на спички и даже на сигареты, вынул из кармана солидную пачку десятирублевок, и в это время что-то тяжелое обрушилось на его голову. Пришел в себя только в больнице. Голова была забинтована. Минута за минутой, день за днем настойчиво выбирался из когтей смерти. Наконец, как говорится, он вернулся в строй. Внешне Толя выглядел как обычно, но внутри – кто бы подумал? – был надломлен. Поэт признавался: «Здаецца, столькі шчырасці і ласкі, // Здаецца, толькі з мамай гаварыў, // А ўжо, як інвалідная каляска, // Качуся па нахіленай з гары.»
Мало кто знал, что это происшествие, а точнее, бандитское нападение, «сыпануло солью» на прежнюю его едва залеченную рану, словно сорвало с головы присохшие к волосам бинты, которыми бинтовали его голову медсестры и врачи в далеком детстве, когда еще жил в деревне. Случилось это на районной велогонке. Анатоль выступал за свой колхоз. На трассе он бешено крутил педали, гнал велосипед вперед. Чувствовал, что может одним из первых прийти к финишу, а может, стать и победителем гонки. Еще один поворот, еще немного поднажать, а там. Однако в последний момент случилось непредвиденное. На крутом вираже Анатоль не сумел справиться с велосипедом: переднее колесо скользнуло по камню, и он со всего разгона упал на булыжную мостовую. На мгновение, казалось, потерял сознание. Но тут же пришел в себя, вскочил на ноги, закинул на плечо разбитый велосипед, и – сколько там еще осталось? – побежал к финишу. Прибежал и упал на руки судейской бригады. Его сразу отвезли в больницу. Выписался вроде бы совсем поправившимся, но все же пришлось на год отложить поступление в Белгосуниверситет.
Могу согласиться с тем, что бросилось в глаза его другу Василю Макаревичу после того нападения. Я тоже заметил: что-то изменилось в нем. Как-то поубавилось в его характере прежней веселости и игривости, более задумчивым и печальным стал взгляд пронзительных глаз, он стал похожим на птицу, подбитую стрелой охотника. Но все же оставался, как и раньше, внешне энергичным, подвижным, нетерпеливо-задиристым, и в то же время рассудительно-серьезным, с припрятанной глубоко усмешливостью. Таким казался он на первый взгляд, а что творилось в глубине его души? Ответить на это могли только его стихи.
Голасам тужлівага адчаю
Пра свае нялёгкія правы
Сёння з самай раніцы крычалі
У сівым тумане журавы.
Крылы, як старонкі, шалясцелі.
О, каб прачытаць мы іх маглі,
То, напэўна б, расказалі цені,
Як іх цягне да сваёй зямлі.
Когда Анатоль вышел из больницы, возвращаться на Грушевку, ходить по тем улицам, где в любой момент снова могла подстеречь беда, у него не было желания. Снова начал расспрашивать друзей и знакомых: если услышат, пусть вспомнят о его просьбе. Помню, нашлась ему кровать в какой-то коммуналке, в бараке, недалеко от Дома печати, да ненадолго, вынужден был уйти. Бывало, даже в редакции ночевал.
Неизвестно, чем бы закончились поиски более-менее приличного жилья и его «хождения» по временным углам, если бы не пришла на помощь редакция. А точнее сказать – Кастусь Киреенко. Как я уже говорил, Кастусь Киреенко доброжелательно относился к своему талантливому сотруднику, был терпелив к его не столь уж редким провинностям, что часто омрачало их дружеские отношения. Правда, ненадолго. Шеф как быстро загорался, так же и остывал. Благодарный Анатоль даже посвятил ему стихотворение «На ўсходзе неба ўспыхнула экранам.» – о трудолюбивом садовнике, который знает, как надо быть бережливым и внимательным, «Каб з голых яблынь росчыркам рукі // Сукі непладаносныя – абрэзаць, // Пакінуць пладаносныя сукі». Кого не подкупят и не тронут такие строки?!
И на этот раз главный редактор очень сочувственно отнесся к Анатолю, сделал все возможное, чтобы решить проблему жилья на уровне Союза писателей Беларуси. Переговорив с руководством Союза, он обратился в Литфонд, чтобы ему выделили квартиру, где бы молодой талантливый писатель мог спокойно жить и работать. К тому же, этому способствовали и благоприятные обстоятельства: Анатоль Сербантович находился в одном шаге от вступления в Союз писателей. И вскоре его приняли. Без особого сомнения и придирок со стороны членов Президиума. Сразу после выхода первого поэтического сборника «Азбука». Тогда еще не было тайного голосования, прием в Союз писателей проводился открыто, поэтому тот, кто «стучался в писатели», мог тут же увидеть, кто на его стороне, а кто «точил зуб» на него, проголосовав против. Последних было не так и много. Кому хотелось наживать врагов или, что также было немаловажным, лишиться приглашения на послеприемное угощение в ресторане? Но вернемся немного назад, к жилищной проблеме, которая в те дни, если оказаться на его месте, несомненно, волновала Анатоля гораздо больше и была не меньшей радостью, чем прием в Союз, который был в его биографии еще впереди.