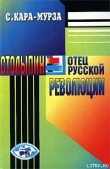Текст книги "Столыпинский проект. Почему не состоялась русская Вандея"
Автор книги: Михаил Румер-Зараев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
IV. Реформатор
По застарелой журналистской привычке начинать любой разговор, в какие бы глубины истории он ни уходил, со дня сегодняшнего начну и это мое повествование с факта начала 2009 года – с конкурса на присуждение «имени Россия».
Напомню, что в этом телешоу, проводимом по примеру других стран, первые три места в рейтинге заняли Александр Невский, Столыпин и Сталин. Каждая из этих трех фигур на народном пьедестале почета заслуживает отдельного разговора. Но меня в данном случае занимает личность Петра Столыпина, с таким пристрастием и артистическим темпераментом отстаиваемая Никитой Михалковым. Не знаю, сыграл ли здесь роль михалковский дар убеждения, но то, что Столыпин обошел Пушкина и Петра, Менделеева и Ленина и вышел практически на первое место (Александр Невский – личность, от нас бесконечно далекая, полумифическая и знакомая народу лишь по патриотическому фильму Эйзенштейна), заслуживает осмысления и размышления.
Этот убитый агентом охранки российский премьер и неудачливый реформатор вместе со всеми своими деяниями стремительно вошел в российское массовое сознание сразу же после краха советизма, в идеологии которого он оставался усмирителем революции пятого года, вешателем, автором «столыпинского галстука». И вот уже его имя носят различные фонды, национальная премия, присуждаемая представителям аграрной элиты России, медаль, выдаваемая за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, вот уже возникает поток житийной литературы, вот уже памятник реформатору собираются ставить в самом центре Москвы при поддержке Путина. А фразы из столыпинских выступлений – «Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия», «Мои реформы рассчитаны на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых» – цитируются как формулы патриотизма и державного величия.
Так кто же был Петр Аркадьевич Столыпин и какова его роль в истории государства российского?
Можно отметить происхождение из недр российской аристократии, ее культурного слоя – родственные и дружественные связи семейства с Лермонтовым, Толстым; родовое богатство – имения в Ковенской, Пензенской, Калужской, Саратовской губерниях. И при этом очевидная ранняя одаренность, стремление не к традиционной для дворянства военной или дипломатической карьере (маниловское «кем ты, душенька, будешь – дипломатом или военным?»). Он с блеском окончил физмат Петербургского университета, настолько поразив глубиной знаний профессора Менделеева, своего будущего конкурента в рейтинге «Имя Россия», что тот, увлекшись на экзамене обсуждением с ним научных проблем, едва не забыл поставить отметку и, в конце концов, воскликнул: «Боже мой, что ж это я? Ну, довольно, пять, пять, великолепно».
А после университета – неожиданный финт – не приготовление к научной карьере, не доцентура и кафедра, а скромнейшая должность помощника столоначальника в министерстве государственных имуществ, которая дала опыт низовой чиновничьей работы. Но вскоре уезжает в Литву, занимается своим имением и одновременно становится уездным, а спустя годы и губернским предводителем дворянства. Эти должности входили тогда в номенклатуру министерства внутренних дел, и министр Плеве считал, что их следует занимать способным практикам, преуспевшим в сельском хозяйстве, к каковым, видимо, причислялся и Столыпин.
Во время революционных событий – скачок в карьере – ненадолго Гродненский, а затем на три года – Саратовский губернатор. На этой последней должности он заставил о себе говорить, как о жестком и бесстрашном усмирителе крестьянских волнений.
Дальнейшая его биография воплощается в событиях масштаба государственного – с апреля 1906 года он министр внутренних дел, а вскоре и председатель Совета министров Российской империи.
Он был блестящим оратором – четким, динамичным, эмоциональным, афористичным. Свое выступление на открытии Государственной думы второго созыва в марте 1907 года он завершил следующим пассажем: «Я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений. В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: „Руки вверх!“. На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: „Не запугаете!“».
В этой сорокаминутной речи, произнесенной с трибуны Таврического дворца, где собиралась Дума, в тот момент более чем на сорок процентов состоящая из враждебных правительству оппозиционных партий левого блока – эсеров, трудовиков, социал-демократов, он обнародовал свой пакет реформ, призванных перевести Российскую империю в новую эру.
Эти реформы включали в себя преобразования в деревне, предусматривающие трансформацию крестьян из общинников, связанных круговой порукой, в собственников земли, передовых современных хозяев, по сути своего менталитета противодействующих всякому революционному брожению. Речь шла также об усовершенствовании системы образования с постепенным введением его обязательности, создании социального страхования и социального обеспечения городских рабочих, административной реформе, включающей в себя выборность местных властей, судов, полиции, реформе налогообложения, уравнении в правах старообрядцев и расширении прав евреев.
«Двадцать лет покоя – внутреннего и внешнего, – восклицал реформатор, – и вы не узнаете нынешней России!». Это говорилось ровно за десять лет до февральской революции, и самому Столыпину было отпущено из этих десяти лет четыре с половиной года до того рокового выстрела в киевском театре, который оборвал его жизнь.
«Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу. Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.
Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов.
Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:
– Смотрите! Он сел прямо на пол!
– Кто?
– Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!
Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.
Вокруг Столыпина было пусто.
По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь».
Это из воспоминаний Константина Георгиевича Паустовского, девятнадцатилетним гимназистом бывшего очевидцем убийства.
Из всего столыпинского пакета были осуществлены лишь закон о землевладении и землеустройстве и сопутствующие ему законодательные акты, получившие название «аграрной реформы». Но прежде чем говорить об этой реформе, представлявшей собой типичный для России реализованный утопический проект, обратимся к объекту реформирования – сельской общине – одному из ключевых социальных образований российской истории.
V. Счет рукопожатий
Иногда ощущаешь, как близко от нас бесконечно далекое прошлое. Есть такой счет рукопожатий. Вот человек, который мог пожать руку тому, кто родился в начале двадцатого века, а тот – тому, кто родился в середине девятнадцатого. Получается, что нас отделяет от Пушкина три-четыре рукопожатия. Но есть и другое не менее реальное ощущение истории. Оно возникло у меня в Кунье, где на пути из варяг в греки среди болот и лесов отыскиваются следы древних городищ, селищ и других поселений кривичей, тысячу лет назад сменивших здесь и ассимилировавших литовские племена.
На вершине песчаного холма – круглая площадка, опоясанная рвом и валом, следы частокола. Стоишь перед этим городищем на окраине деревни Новотроицкое среди некошеных трав, летний ветер легкой рябью пробегает по ним, шелестит в листве чахлого березняка, и все пытаешься представить, сколько рукопожатий – двадцать, тридцать? – отделяет нас от обитателей этого древнего поселения, от далеких пращуров нынешних псковских крестьян, так запустивших, забросивших землю, которую отвоевывали от лесов и болот их предки?
Куньинский учитель географии Вячеслав Анатольевич Гринев, один из тех энтузиастов истории своего края, которые одинокими огнями духовности еще разбросаны по сельской России, неустанно открывает все новые городища и возит туда своих учеников, показывая им артефакты древней культуры – остатки железоплавильных печей, следы свайных озерных поселений, культовые камни и жальники – славянские захоронения времен перехода от язычества к христианству.
Зачем это деревенским подросткам с их дискотечными плясками и мечтами о городской жизни, зачем им карабкаться по заросшим папоротником и полынью склонам холмов, рыться в черной земле культурных слоев, выслушивать жаркие речи учителя, пытающегося пробудить их воображение рассказами о жизни обитателей этих исчезнувших селищ? Зачем? Не знаю. Но без таких знаний, без такого пробужденного воображения, в котором теплится ощущение связи времен, нет народа, нации, а есть скопление случайно поселившихся здесь людей, легко пришедших сюда и легко покидающих эту землю.
Ключевский, этот поэт исторического знания, у которого воображение так удачно дополняет суровую правду факта, пишет об остатках городищ Киевской Руси, рассеянных по всему Приднепровью на расстоянии четырех – восьми верст друг от друга. Как и псковские селища, это пространство, очерченное кольцеобразным валом, достаточное для одного доброго крестьянского двора. Такие одинокие дворы, окопанные земляным валом с частоколом для защиты скота от диких зверей, по мере распада родового быта славяне ставили, расселяясь по Днепру и его притокам, ими же колонизовалось Верхнее Поволжье и Северо-Западная Русь. Собственно и Киев, по преданию, возник из укрепленных дворов трех братьев-звероловов, поселившихся на трех холмах высокого берега Днепра. Старшего брата звали Кий.
Но из южной Руси, теснимые степными кочевниками, поселенцы двигались на север, в верхневолжское междуречье и, отыскивая среди болот и лесов сухие возвышенные места, ставили на них избы, корчевали и выжигали лес, поднимали целину и, снимая несколько лет с удобренной золой земли хороший урожай зерновых, истощив почву, двигались дальше, ставили новый починок, повторяя все сначала.
Так ли Вячеслав Анатольевич Гринев толкует своим ученикам жизнь обитателей открываемых им селищ, эдак ли, и что остается в их молодых душах – не знаю. Но Ключевский толковал так, отмечая непрестанное движение людей вольно-земледельческой Верхне-Волжской и Псковско-Новгородской Руси. Это движение – исток всего, исток древних славян – звероловов, бортников, землепашцев, перемещавшихся по необъятной равнине, воюя или ассимилируя местные племена – чудь и мерь, литовцев и финнов, смешиваясь с ними, образуя постепенно великорусскую народность с ее городами и княжествами.
В ходе колонизации огромной северо-восточной лесной равнины, шедшей многие столетия, по мере освоения новых территорий, распределения земель между князьями и их дружинниками-боярами и смены подсечно-огневого земледелия трехпольным, происходит формирование сословий смердов и наймитов – крестьян, работающих на государственных или частных угодьях. Одновременно меняется и форма расселения – не однодворные селища – форпосты колонизации, а деревни, состоящие хотя бы из нескольких дворов.
Формированию государства – удельно-княжеского, а потом и царско-боярского – сопутствует создание сельской общины, которая по мере перехода от полюдья – регулярного объезда князей для кормления дружины на подвластных территориях – к подушевому и поземельному налогу становится не только единицей хозяйственного самоуправления крестьян, но и инструментом сбора податей. Этот инструмент совершенствуется под влиянием монгольского ига. Необходимость платить дань, сбор которой монополизировала Москва, заставляла использовать заимствованную у монголов, а ими перенятую у завоеванных китайцев систему сбора налогов, основанную на переписи населения и внутриобщинной круговой поруке. Но и после свержения монгольского ига эта система остается как модель сбора государственных доходов.
В дальнюю даль столетий российской истории уходят истоки крестьянского житья, складывавшегося в рамках общины со всеми ее реалиями, сохранившимися вплоть до столыпинской реформы начала двадцатого века, – коллективной ответственностью перед государством за уплату налогов, круговой порукой, социальной взаимопомощью, переделами земли. Во все периоды существования государства российского поземельная община оставалась не только инструментом крестьянской самоорганизации и взаимопомощи, но и механизмом принуждения к налоговой дисциплине.
VI. Плуг и соха
«Когда вы первый раз видите русскую деревню, вы можете подумать, что попали к моравским братьям. Здесь нет, как у вас во Франции, больших отличных ферм, где живут сельские капиталисты, – этих своеобразных сельскохозяйственных мануфактур, окруженных бедными лачугами, в которых многочисленные поденщики, подлинные сельскохозяйственные рабочие, влачат жизнь, не менее жалкую и не более обеспеченную, чем рабочие городских фабрик. Ввиду того, что каждый русский крестьянин входит в состав общины и имеет право на земельный надел, в России нет пролетариев. В нашей деревне по обеим сторонам проходящей через нее дороги, тянутся два ряда домов, совершенно одинаковых, похожих один на другой».
Это Иван Сергеевич Тургенев описывает во французской газете российский крестьянский быт, заставляя задуматься над многослойностью такого описания, рассчитанного на европейского обывателя, представляющего себе российскую жизнь на уровне «снег, водка, медведи». И сколько же тут всего намешано – и идеализация русского крестьянства, сравниваемого с моравскими братьями – протестантской сектой, известной чистотой своих религиозных помыслов, трудолюбием и пуританским бытом, и предубеждение против «язвы пролетариатства», воспитанное аграрным романтизмом, и вера в крестьянскую общину – альтернативу бездуховной цивилизации нового времени, общину, которой суждено было стать «чудотворной иконой славянофилов, народников, самодержавия». Причем писалась-то эта статья за четыре года до отмены крепостного права, когда поземельная сельская община была целиком во власти помещика.
Родоначальником какого-либо общественного интереса к существованию крестьянства был конечно же Радищев – этот первый русский интеллигент, выстреливший во власть цитатой из Тредиаковского, взяв ее эпиграфом к своему «Путешествию из Петербурга в Москву»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Помните, как его лирический герой в главе «Любани» видит пашущего в праздник крестьянина, который вынужден, чтобы семья не голодала, работать на себя в воскресенье и ночью, так как шесть дней в неделю ходит на барщину. «Бог милостив, – с замечательным смирением говорит пахарь, – с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья». «Страшись, помещик жестокосердый, – вслед за тем восклицает Радищев, – на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение».
То был первый порыв гуманизма, первое обращение к судьбам крестьянства, занимавших воображение российского общества на протяжении двух столетий до той поры, пока крестьянский бунт «бессмысленный и беспощадный» не обернулся революцией, поглотившей, в конце концов, крестьянство, лишив его родовых свойств – привычки к земледельческому труду, самостоятельности, инициативы.
И чего только не было на протяжении этих двух столетий, сколько законов и реформ, благонамеренных проектов, всплесков утопической фантазии. В самый расцвет крепостного права, когда помещик из землевладельца окончательно превращается в душевладельца, получив возможность безраздельно распоряжаться вверенными ему душами вплоть до ссылки непокорных рабов в Сибирь, на каторгу, отдачи в солдаты, Екатерина II, заботясь о просвещении аграрного сословия заводит в Царском Селе образцовую ферму и поддерживает проект создания земледельческой школы. А фаворит ее Григорий Орлов так и вовсе ставит на обсуждение в петербургском Вольном экономическом обществе вопрос о крепостной зависимости и правах крестьян.
Надо сказать, что образ фермы, устроенной по западному, чаще английскому образцу, долго будоражил воображение русских вельмож. В царствование Александра I просвещенные помещики из числа дворянской элиты выписывали из Англии и Германии ученых агрономов, внедряли завезенные оттуда сельскохозяйственные орудия, семена полевых культур, вызывая отторжение и иронию помещичьей массы. А московский генерал-губернатор Федор Васильевич Растопчин, тот самый, что сжег в 1812 году Москву и был увековечен в «Войне и мире», так тот, хозяйствуя в своем подмосковном Воронове, получил прозвище «профессора хлебопашества». Пережив увлечение западными методами земледелия и разочаровавшись в них, он написал знаменитую в те времена книжку «Плуг и соха», доказывая преимущества простой русской сохи перед английским распашным плугом – «почин хороший, но не для нашего климата».
Эта альтернатива «плуг – соха» олицетворяла противостояние двух мировоззрений, проявлявшихся не только в земледелии и протянувшихся на целые
столетия – мы и они, западный и русский путь, то, что русскому здорово, немцу – смерть. Поток ассоциаций здесь бесконечен.
Более полувека спустя после смерти Растопчина Николай Лесков написал документальный рассказ, где описывается, как англичанин – управитель имений министра внутренних дел графа Перовского решил внедрить в этих имениях взамен сохи английский пароконный плуг Смайльса, устроив в присутствии графа и крестьян показательную демонстрацию. Все шло прекрасно – плуг показывал неоспоримые преимущества перед старинной русской «ковырялкой». Граф был доволен, распорядился о повсеместном внедрении новшества в своих деревнях, но напоследок решил спросить мнение крестьян. Далее цитирую.
«Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил:
– Где сими плужками пашут?
Граф ему рассказал, что пашут „сими плужками“ в чужих краях, в Англии, за границею.
– То значится, в нiмцах?
– Ну, в немцах!
Старик продолжал:
– Это вот, значится, у тех, що у нас хлеб купуют?
– Ну да, – пожалуй, у тех.
– То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?».
Это «mot» старого крестьянина разошлось по России, дошло до Петербурга и в конце концов Николай I спросил у своего министра: «А у тебя все еще англичанин управляет?» Перовский на всякий случай сказал, что нет, мол, не управляет. На что государь заметил: «То-то». И граф уволил своего управляющего, который, уезжая, забрал с собой и английские плуги.
Такая вот милая фольклорная история о том, как старый малороссийский крестьянин поставил в тупик царского министра. Мог ли незадачливый граф что-либо ответить своему оппоненту? Если бы разговор шел всерьез и на равных, да и к тому же располагай граф данными современной нам исторической статистики, он сказал бы, что в первой половине XIX века, когда шел этот диалог, урожайность зерновых в России составляла сам-три, сам-три с половиной, то есть шесть-семь центнеров с гектара. В Западной Европе такая урожайность была нормой в XII–XIII веках.
Ну, а как же быть с вывозом хлеба, почему «они у нас хлеб купуют»? Вот что пишет по этому поводу в семидесятые годы XIX века один из лучших аналитиков сельской жизни того времени Александр Николаевич Энгельгардт в своих письмах «Из деревни»:
«Когда в прошедшем году все ликовали, радовались, что за границей неурожай, что требование на хлеб большое, что цены растут, что вывоз увеличивается, одни мужики не радовались, косо смотрели и на отправку хлеба к немцам, и на то, что массы лучшего хлеба пережигаются на вино…
Известно, что наш народ часто голодает, да и вообще питается очень плохо и ест далеко не лучший хлеб, а во-вторых, выводы эти подтвердились: сначала несколько усиленный вывоз, потом недород в нынешнем году – и вот мы без хлеба, думаем уже не о вывозе, а о ввозе хлеба из-за границы. В Поволжье голод… Имеют ли дети русского земледельца такую пищу, какая им нужна? Нет, нет и нет. Дети питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность детей куда больше, чем смертность телят… Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем кровь нашу, то есть мужицких детей».
А министр финансов конца восьмидесятых годов Иван Алексеевич Вышнеградский, при котором экспорт хлеба вырос вдвое, сформулировал аграрную политику того времени афоризмом: «Не доедим, но вывезем».
Отставание от Западной Европы по эффективности земледелия это следствие не только его низкого технологического уровня в России, но и в какой-то степени результат производства в условиях общины, где частые переделы земельных наделов отбивали охоту ко всяким инновациям.
Разумеется, в ситуациях, когда жизнь побуждала крестьянина к техническим инновациям, они происходили в той мере, в какой это было возможно. В развитие сюжета «соха-плуг» заметим, что при колонизации юга России после присоединения к империи степей Тавриды и Северного Причерноморья заселявшие эти степи выходцы из коренных российских и малороссийских краев, распахивая столько земли, сколько могли, применяли усовершенствованные плуги. Тем не менее соха – мелко пашущая и не переворачивающая слой земли в отличие от плуга, а отваливающая его в сторону, соха, которую каждый крестьянин мог изготовить себе сам, разве что деревенский кузнец выкует из железа сошник, а остальное из подручных деревяшек смастеришь сам, эта самая древняя соха оставалась главным пахотным орудием российского крестьянина аж до тридцатых годов прошлого века. Впрочем, может быть, современный эколог поддержит графа Растопчина и подтвердит преимущества мелкой безотвальной вспашки с позиций науки природопользования.
Вернемся, однако, к эффективности общинного производства. В те же семидесятые годы XIX века, когда Энгельгардт писал свои письма «Из деревни», другой исследователь сельской жизни – народнический писатель Николай Николаевич Златовратский, показывая жизнь среднерусской общины, задавался вопросом, почему в обследуемой им деревне при наделе в шесть десятин хорошей земли (напомню: десятина это 1,09 гектара) и поемном луге у семьи не хватает муки до весны, если только во дворе нет работника, уходящего в зимний отход.
Златовратский не отвечает на этот вопрос, видимо, не желая в соответствии со своей народнической психологией дезавуировать общинный способ производства, дающий столь низкие результаты. Но он же охотно и, несомненно, правдиво описывает двенадцать видов «помочи», практикуемой в деревне. Это и переход жницы, окончившей свою полосу, на соседнюю, где соседка еще не управилась, и коллективная уборка хлеба у больного крестьянина, самоотверженное тушение пожара всем миром, и вдовья помощь, тихая милостыня (как это емко звучит – тихая милостыня), совместная работа при стройке, косьбе, возке леса – с угощением или без угощения…
Остатки этих обычаев, которые можно считать слагаемыми этики аграрных цивилизаций, в трансформированном виде сохраняются в русском селе и по сей день. Да и не только русской поземельной общине была свойственна такая система взаимопомощи и коллективизма. Петр Алексеевич Кропоткин в своей работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» приводит немало примеров проявления этой тенденции как в сельских общинах Западной Европы, так и в деревнях Турции, Ирана, Индии.
В русской деревне сообща не только помогали друг другу, но и пользовались лесными, сенокосными и пастбищными угодьями, рыбными ловлями. А вот пахотные земли распределяли на душевые наделы в зависимости от трудовых возможностей семьи, делая это с изощренной точностью, с учетом «силы» каждой полоски пашни, определяя эту «силу» с помощью стихийного мужицкого кадастра. И главный принцип здесь – распределить «по равнению», то есть по справедливости. Следование этому принципу приводит также к ежегодной мене наделов. «Так если у двудушника семья „вошла в силу“, – пишет Златовратский, – а у трехдушника, напротив, количество работников в семье уменьшилось, они меняются наделами, „пересаживаются“, двудушник „садится“ на надел трехдушника, а последний переходит на надел первого. Мена эта совершается естественно, без всяких коммерческих сделок…».
Представим себе эту чересполосицу наделов в разных полях, это зыбкое хозяйственное существование, когда возделываемая вами земля завтра может перейти соседу и права наследования нет, ведь не ваша это земля, а мирская, мир – хозяин, сельский сход правит… Зато все «по равнению», по справедливости. И царский манифест от 19 февраля 1861 года, давая общине права распоряжения землей, ее переделов и круговой поруки в отбывании податей и повинностей, учитывал не только свою правительственную нужду в коллективной ответственности за сбор налогов, но и исконные традиции крестьянского общественного существования.
Крестьянин не знал слова «община». Совокупность домохозяев, сообща владеющих земельными угодьями, в его понимании называлась «мир». И как много реалий сельской жизни включало в себя это понятие – мирской сход, приговор мира, мирская земля, мирское вино, мирской человек, на миру и смерть красна… В середине XIX века из круга социально-экономических представлений крестьянского быта – расклада наделов и повинностей, прав и обязанностей каждого перед миром и мира перед каждым – эта структура народного бытия начала входить в общественное сознание как особая философско-историческая концепция, важное направление национальной мысли.