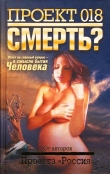Текст книги "Столыпинский проект. Почему не состоялась русская Вандея"
Автор книги: Михаил Румер-Зараев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Столыпинский проект. Почему не состоялась русская Вандея
Выдающийся российско-американский социолог Питирим Александрович Сорокин, переживший три русских революции, формулируя отличия реформы от революции, ставил на первое место среди признаков реформы ее соответствие «базовым инстинктам», менталитету народа, его представлениям о добре и зле. Если реформа не соответствует данному условию, она обречена, выход из кризиса маловероятен, и тогда наступает революция.
Осмелюсь дополнить формулировку Сорокина еще одним определением. Думается, что реформы, идущие вразрез с «базовыми инстинктами» народа, можно назвать реализованными утопиями. Они воплощаются в жизнь, когда некая абстрактная идея, рожденная в головах людей или одного человека, становится формой существования общества. Утопичен такой проект потому, что он идет вразрез с природой человека, сложившейся социальной практикой, хозяйственной традицией. Он может быть навязан обществу или тому, или иному его слою насильственно (иногда и не навязан, а принят добровольно для себя группами идеалистов-энтузиастов) и существовать годы, десятилетия, но, в конце концов, исчезнуть разными путями – за счет другой силы или трансформироваться в более приемлемую для человеческой природы форму. Более того, такой проект может породить новую хозяйственную или социальную традицию, соответствующую новым «базовым инстинктам», но в первоначально задуманной форме он обречен на исчезновение.
Реализованные утопии периодически появляются в истории любого общества как элемент его скачкообразной диалектической динамики – от утопии к реальности и от реальности к утопии. Сравнительный анализ этого процесса на базе существования аграрных обществ или аграрных секторов экономики расширяет наши представления о роли идеалистического мышления в формировании цивилизаций, о соотношении государственного начала и социально-экономических традиций общества и ряде других аспектов историософского осмысления действительности.
Выход из фазы реализованной утопии сложен для каждого общества.
И мы это ощущаем сейчас, когда постсоветская Россия на обломках колхозно-совхозного способа сельскохозяйственного производства нащупывает возможные формы реального существования села, пытаясь остановить его вымирание и найти компромисс между архаикой личного подсобного хозяйства и аграрными капиталистическими предприятиями, создаваемыми различными инвесторами. Как долго стране предстоит искать эти пути, пока результаты станут позитивными – кто знает.
I. Последний фермер
Дошла весть, что последний реальный куньинский фермер Александр Николаевич Ващенко, походив по всяким верхним конторам и узнав, какие ожидают его цены на молоко, продал скот, оставив себе лишь две коровы, и практически вышел из дела.
Я не случайно называю его реальным фермером. На бумаге их в районе тридцать три, но одни промыслами какими-нибудь занимаются, другие на купленной в свое время по дешевке технике огороды людям пашут или щебень из карьера возят. Их бумажными фермерами кличут. А Ващенко был реальный – скот, сеяные травы, молоко.
Знавал я его, помню ладную мужскую стать, сухощавую сильную фигуру много физически работающего пожилого мужика. И как разговаривали мы с ним на окраине его деревни с чудным названием – Лабазды. Помню жалобы на всех и вся – пьяниц-работников, равнодушную власть, его обещания бросить все и уйти. Куда? «Да хоть печи класть. Я ж печник добрый. Вон сын единственный ушел после армии в егеря. Все легче и вольнее, чем на отцовской ферме жилы рвать».
Судьба Ващенко – частица жизни района, за которым слежу много лет – то наездами, то узнавая новости из телефонных разговоров со знакомцами, то просматривая в Ленинке районную газету.
Кунья – это Псковщина – край северный, лесной, озерный. А еще у меня есть другой район – Шигонский – в Самарской области – поволжская степь, куда тоже езжу, звоню, слежу за тамошней жизнью по газетам, по интернет-сайтам. Там земля получше, чем в Кунье, и специализация зерновая, скот практически вывели, а зерновые сеют, и хоть много хозяйств разорилось, исчезло, какие-то городские фирмы приходят на село, пытаются возродить производство, да и фермеров там под сотню. Наверное, немало «бумажных», но есть и вполне реальные, владеющие порой по тысяче-две тысячи гектаров и хозяйствующие на них не без успеха.
Самый успешный среди них Иван Григорьевич Касаткин – крепкий пятидесятилетний мужик, в прошлом главный инженер колхоза, а теперь – владелец большого (три тысячи гектаров под зерновыми – раньше такая пашня у небольшого колхоза была) фермерского хозяйства, названного не без некоторого форсу – «Перспективы КС». КС – это Касаткин и сыновья. С Иваном Григорьевичем в деле – три сына, окончившие сельхозвузы, но оставшиеся с отцом, да и внуки уже подрастают. Словом, классическая витринная семейная ферма. Урожайность для здешних мест у Касаткина неплохая – центнеров по двадцать с гектара, так что вал составляет порядка шести тысяч тонн зерна за год. Сбыт его – дело непростое, цены пляшут, а об откорме свиней, что позволило бы создать замкнутый производственный цикл «кормовое зерно – мясо» в районе, который год только разговоры шли. То один, то другой инвестор обещает вложиться в свинокомплекс, но как-то все на стадии переговоров дело и замирало. И вот, наконец, пришли варяги. Три немецких предпринимателя – Юрий Шпис с Генрихом и Бернгардом Рольфесами учредили компанию «Рольфес-Шпис» и начали строить в районе свиноводческий комплекс на 10 тысяч голов, вкладывая в это предприятие многие миллионы евро.
Все выглядело великолепно: импортное оборудование, современные технологии откорма, хороший темп строительства, так что весной 2008 года первая очередь комплекса была готова и намечался завоз первых ста восьмидесяти свиноматок… Как вдруг громом среди ясного неба – коллективное письмо не кому-нибудь, а президенту России группы предпринимателей района, среди которых Юрий Шпис и Иван Касаткин, о невыносимых условиях хозяйствования, созданных начальником районного отдела внутренних дел Михаилом Чичельником. Поборы, вымогательство, предложения продажи земли по заниженным ценам связанным с Чичельником компаниям и покупки стройматериалов по завышенной цене у других близких ему фирм, а в случае отказа – прокурорские проверки, задержка транспорта под всякими предлогами, приостановка работы предприятий за мелкие нарушения инструкций, угрозы «положить мордой в асфальт» – словом весь банальный набор средств экономического террора, применяемых и в других местах необъятной нашей родины.
Скандал получился нешуточный, тем более что предшественника Чичельника сняли за несколько лет перед тем после долгих разбирательств за подобного рода художества и доказанный на суде мордобой. Власть отстаивала и Чичельника, за которым в его притязаниях угадывались другие значительные фигуры районного масштаба. Чем все это кончилось, не знаю, но уже в конце 2010 года стало известно, что Шпис и его партнеры, так и недостроив комплекс, отказываются от участия в проекте, а Касаткин продолжает работать (куда ж ему деться?), пережив странный пожар на ферме, который пожарники квалифицировали как поджог.
II. Хмели-сунели
Таковы эпизоды жизни двух глубинных российских районов, некогда избранных мною как объект журналистского наблюдения и исследования по принципу типичности для всей страны происходящего в тех местах за последние тридцать лет. И чего только там не бывало за это время. Надежды на новую жизнь сменялись глубоким разочарованием и унынием, колхозы меняли вывески, производство в них съеживалось подобно шагреневой коже, приходили и уходили городские фирмы, скупавшие остатки основных фондов и обещавшие поднять производство, появлялись и разорялись фермеры…
Вот и рассказанное мною выше так типично и характерно для целых регионов. Псковская Кунья это прообраз «черных дыр», которыми стали многие районы Нечерноземья. А в поволжских Шигонах главная беда (и не только сельской жизни) – коррупция, уничтожающая всякие надежды на хороший инвестиционный климат, о котором так любят говорить и областные и районные начальники, отчитываясь о «проделанной работе».
А как все волшебно должно было начаться, какие планы строились на приход капитализма на село, на который надеялись российские реформаторы – как Столыпин, так и Гайдар. Главным, казалось, воссоздать класс собственников, наделить крестьян землей и дать им свободно хозяйствовать. А там «сама пойдет»…
В декабре 1991 года, когда в распоряжении государства оставался лишь двухмесячный запас зерна, а продовольственные резервы, за счет которых латали дыры снабжения крупных городов, были на исходе, когда прилавки продовольственных магазинов в этих городах стали девственно пусты и, как-то зайдя в свой продмаг в Москве, я увидел на сияющих белизной чисто вымытых полках лишь пакетики грузинской приправы «хмели-сунели» (так и запомнился в моей семье этот год как время «хмели-сунели»), – так вот в эти самые предновогодние дни были опубликованы правительственные документы, содержащие в себе контуры аграрной реформы.
Крестьянам предоставлялось право выхода из колхозов и совхозов с земельным и имущественным паем, а сами хозяйства подлежали в течение года перерегистрации и реорганизации с целью приватизации земли и основных фондов.
Эти меры вполне соответствовали представлениям либерального сознания о будущем новой свободной России. И механизм преобразований был прописан в нашем воображении с учетом исторического отечественного и зарубежного опыта. Ведь представляла же собой нэповская «осередняченная» Россия море крестьянских хозяйств, в которых мелкие собственники в рамках общины на своих наделах размером пять-десять-двадцать десятин работали с полной отдачей, объединяясь в сбытовые, кредитные, снабженческие кооперативы. И не было бы сталинской насильственной коллективизации, все и дальше шло бы в соответствии с исторической логикой – одни крестьяне богатели, расширяли землепользование, превращаясь в сельских капиталистов-кулаков, другие беднели, разорялись и шли к ним в наемные рабочие – батраки (см. книгу марксистского теоретика В.И.Ленина «Развитие капитализма в России»).
Но это в сослагательном наклонении, а в изъявительном, а вернее, в повелительном – шестьдесят лет выпали из этого исторического процесса, создав в результате аграрной реформы тридцатых годов под названием «коллективизация» особый сельский уклад – по форме общинно-колхозный, а по существу государственно-капиталистический. И реформа начала девяностых годов под названием «деколлективизация» означала в нашем представлении возвращение к естественному ходу вещей, к логике прерванного исторического процесса.
III. Как виделось и как сталось
Как все виделось и как сталось? Виделся рынок, на котором действуют реформированные аграрные предприятия и свободные, наделенные землей фермеры, – много фермеров (потенциальная база крестьянских хозяйств, по некоторым оценкам, составляла пять миллионов семей). Виделись ассоциации вольных хлебопашцев, как в чаяновском утопическом романе. Виделись их государственная поддержка в виде дешевых кредитов, за счет которых покупается техника, развитое кооперирование и, в конце концов, товарные продовольственные потоки, избавляющие страну от импорта и насыщающие города своими отечественными харчами. Виделось сельскохозяйственное освоение огромных территорий и участие в глобальном разделении труда.
А что сталось по прошествии двадцати реформенных лет? Фермерский проект по существу провалился, если учесть, что на всю страну насчитывается примерно двести тысяч крестьянско-фермерских хозяйств (сколько из них реальных, сказать трудно), дающих считанные проценты объема сельскохозяйственного производства.
Фермер, входящий в идеологический оборот нынешней России, как фигура витринная, представительская, на самом деле является маргинальной частью своеобразной и весьма причудливой трехукладной структуры современного российского села. Он словно слабосильная пристяжная в этой русской тройке, которая, по заверению классика, мчится неведомо куда. А коренником остается коллективно-корпоративный сектор, состоящий из сельхозпредприятий – преемников колхозов. На их долю приходится более половины произведенной продукции. А все остальное дает третий скакун, правильнее бы назвать его клячей – личное подсобное хозяйство – малотоварная сельская усадьба с ее двадцатью – пятидесятью сотками придомовой земли, которая едва ли не столетие являлась основой существования крестьянской семьи.
Почти ничто из того, на что возлагались реформенные надежды, не сработало. Получив в первые же два года реформы право на 12 миллионов земельных долей, сельские жители лишь в малой степени воспользовались этим своим правом. Только 300 тысяч домохозяйств решили выйти из колхозов и организовать собственные семейные фермы. Остальные крестьяне предпочли сохранить статус наемных работников, сдав земельные доли в аренду своему коллективному хозяйству. Сами же колхозы, поменяв вывески и называясь, кто сельскими производственными кооперативами (СПК), кто товариществами с ограниченной ответственностью (ТОО), крайне болезненно пережили вхождение в свободный рынок. Реакцией на либерализацию цен, отмену мер государственной дотационной поддержки, огромный скачок диспаритета цен на промышленную и аграрную продукцию и другие реалии новой экономической действительности стало сокращение объема производства, запашки земли и стада скота, а порой и банкротство аграрных предприятий.
Приход после финансового кризиса 1998 года в аграрный сектор инвесторов из нефтяной, газовой, финансовой сфер, создававших крупные агропромышленные холдинги на обширных земельных массивах, лишь частично компенсировал падение производства, так что и в конце первого десятилетия XXI века Россия, экспортируя зерно, вместе с тем около 40 процентов своей потребности в мясных и 20 процентов молочных продуктов обеспечивает за счет импорта. Но и эти холдинги создавались в основном в окрестностях крупных городов и в южных регионах России, где традиционно сосредоточивалось наиболее эффективное сельское хозяйство. Огромные же территории Нечерноземья, Северо-Запада России и Сибири вымирали, становились обителями стариков и пьяниц – такими же «черными дырами», которыми стала псковская Кунья, давая основания географам говорить о сжатии национального пространства.
Но почему так сталось? Почему двадцать пореформенных лет не привели к ожидаемым результатам – к подъему сельского хозяйства и созданию новых рыночных социально-экономических структур? Почему не произошло капиталистического возрождения села? Причин тому немало. Но в контексте разговора о них вспоминается старый анекдот о том, как у генерала спросили, почему его пушки не стреляли во время сражения? На что он ответил: «Тому было десять причин, первая из них – отсутствовали снаряды».
Еще в конце восьмидесятых годов, в канун начинавшихся реформенных преобразований проводились социологические исследования с тем, чтобы выяснить, каков резерв грядущего фермерства. И лишь 10–15 процентов опрошенных показывали, что хотели бы вести самостоятельное крестьянское хозяйство. Социологи объясняли это тогда тем, что длительная эпоха специализации в аграрном производстве выработала определенные стереотипы общественного сознания и превратила сельских жителей в узких специалистов, потерявших универсальные крестьянские навыки. Такое утверждение казалось сомнительным, если учесть разнообразие навыков, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства. Но запомним этот тезис, к которому мы еще вернемся для объяснения происходящего в современном российском селе.
Надо сказать, что и в последующие девяностые годы ожидался переход от товарного личного подсобного хозяйства к фермерскому производству. Я не раз обсуждал эту тему со старыми знакомцами в шигонском селе Малячкино, где на полторы тысячи населения имелось всего три фермера. Собеседниками моими чаще всего были нормальные трудолюбивые мужики, главы классических колхозных семей: он – механизатор, она – доярка.
Да, работы сейчас нет, рассуждал я, но на подворье – две коровы, бычок, поросята, подпол полон луком – главной товарной культурой местных крестьян, картошкой, овощами и всякой другой огородиной, так почему же не двигаться дальше, взять свои десятигектарные земельные паи, вместе с женой так это двадцать гектаров, прикопить денег от продажи лука и молока или кредит взять для покупки пусть и подержанного трактора, выращивать на этих двадцати гектарах, хотя бы и овощи, и в путь – к фермерскому самостоятельному житью. Только головой крутили мои собеседники да отводили глаза с какой-то болезненной усмешкой, означавшей – где тебе, городскому чужому человеку, понять нашу крестьянскую жизнь.
Но что там мои дилетантские разговоры. В конце нулевых годов группа профессиональных социологов в рамках проекта социологического наблюдения кубанского села попыталась ответить на вопрос: «Почему даже кубанские подсобные хозяйства нельзя разом превратить в предприятия, то есть в фермерские хозяйства?». Особенно образным и ярким мне показался ответ одного информанта: «Просто из ЛПХ уйти в фермеры – это такой же шаг, как на майские праздники вместо Собера (гора в Краснодарском крае, доступная для легких пеших прогулок. – М.Р-З.) полезть на Казбек без альпинистского оборудования».
За такого рода эвфемизмами, как и за усмешкой моих малячкинских собеседников, стояло многое. И страхи перед неурожаем, перед трудностями сбыта, перед необходимостью отдавать долги, платить налоги при том, что еще неизвестно, какая прибыль будет, и неуменье вести бухгалтерию, следить за изменениями в налоговом законодательстве, неуменье быть юридическим лицом со всеми теми требованиями, которые предъявляет к нему государство. Нет, уж лучше сидеть на своем приусадебном наделе, кормить с него семью, продавать излишки, не платя налогов, которыми облагается фермерское хозяйство как товарная рыночная единица, и жить пусть бедно, но свободно, без страхов и ответственности.
И когда речь идет о привитых стереотипах общественного сознания и утрате универсальных навыков хозяйствования как причинах непопулярности фермерского пути, то это надо понимать не как потерю крестьянского уменья пахать землю, выращивать хлеб и ухаживать за скотиной, а как неуменье удовлетворять нормальным для всякого предпринимателя требованиям – вести бухгалтерию, искать оптимальные пути сбыта продукции, пользоваться кредитами, наконец, рисковать.
Риск – неизбежный спутник всякого предпринимательства, так же как владение землей, работа на ней – это всегда ответственность.
Но ведь мечтал же дед нынешнего российского крестьянина о земле, переселялся ради нее в Сибирь, устраивал бунты и революции, стремясь забрать ее у помещика. Так почему же его внук не хочет брать землю сейчас и свободно трудиться на ней, делая свою традиционную крестьянскую работу?
Когда его деда загоняли в колхоз, лишая вымечтанной земли, скота и права самостоятельно хозяйствовать, превращая его из собственника, мелкого предпринимателя в наемного работника, он сопротивлялся, мучился, но, в конце концов, подчинялся насилию. Коллективизация была проектом утопическим, отторгаемым сложившейся хозяйственной традицией сельской жизни. Но за десятилетия своего существования этот проект стал реальностью бытия миллионов крестьянских семей, приспособившихся к этой утопии и уже не знавших ничего иного.
Типичная колхозная семья (механизатор-доярка) привыкли получать зарплату, работая в колхозе без особого напряжения, возделывать свой огород и обихаживать личный скот, обеспечивая себя в значительной мере продуктами питания и имея деньги, на которые, правда, трудно было купить многое из необходимых предметов обихода. Но существовала система потребительской кооперации, где в обмен на сданные по низкой цене продукты подворья можно было кое-что приобрести из так называемого дефицита. Крестьянин вписался в это странное внерыночное существование, и как он ни хаял его, как ни жаловался на свою трудную жизнь, оно давало ему устойчивость и обеспеченность.
Разрыв привычных связей и форм бытия не толкал его к новым для него (а новое это, как известно, хорошо забытое старое) экономическим формам, ибо многое из того, чем обладал его дед, и прежде всего способность индивидуально и рискованно хозяйствовать на своей земле, было утрачено. Внук жил в рамках уже сложившегося за 60 лет хозяйственного уклада, и новый проект экономической реформы становился в условиях этого уклада утопией.
Получалось, что на протяжении двадцатого столетия российское село пережило три глобальных утопических проекта, причем каждый последующий противоречил сложившейся до него хозяйственной традиции, как бы перечеркивая ее и заставляя село начинать все сначала. Первой из этой триады была аграрная реформа, связанная в российской истории с именем Петра Столыпина.