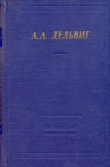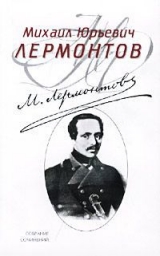
Текст книги "Полное собрание стихотворений"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Воздушный корабль
(Из Зейдлица)
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И, молча, в открытые люки
Чугунные пушки глядят.
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы и тайные мели,
И бури ему нипочем.
Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.
Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.
И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.
И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.
На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:
Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —
Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,
Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.
Соседка
Не дождаться мне видно свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высокó над землей!
И у двери стоит часовой!
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.
Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решоткой окно;
У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду…
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг.
На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,
Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Всё тоскует по воле, как я.
Не грусти, дорогая соседка…
Захоти лишь – отворится клетка,
И как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.
У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.
Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.
Пленный рыцарь
Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.
Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцырь железный.
В каменный панцырь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.
Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решотка бойницы,
Каменный панцырь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.
<М. П. Соломирской>
Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой.
И часто тайную отраду
Находит муке неземной,
За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.
Так, разбирая в заточенье
Досель мне чуждые черты,
Я был свободен на мгновенье
Могучей волею мечты.
Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно-памятный привет.
Отчего
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.
Благодарность
За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был…
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Из Гёте
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Ребенку
О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю…
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! – Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? – Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит…
Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней, – скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой…
Не вспоминай его… Что имя? – звук пустой!
Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его, – ребяческие дни
Ты вспомни и его, дитя, не прокляни!
А. О. Смирновой
В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас – хочу сказать вам много,
При вас – я слушать вас хочу:
Но молча вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что делать? – речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано…
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
К портрету
Как мальчик кудрявый резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.
Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.
Таит молодое чело
По воле – и радость и горе.
В глазах – как на небе светло,
В душе ее тëмно, как в море!
То истиной дышит в ней всё,
То всё в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.
Тучи
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Валерик
Я к вам пишу случайно; право
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!
Что помню вас? – но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых потому, что много,
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаяньи бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, – но вас
Забыть мне было невозможно.
И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не всё ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За всё я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью…
И нет работы голове…
Зато лежишь в густой траве,
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам;
И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу – дальний выстрел! прожужжала
Шальная пуля… славный звук…
Вот крик – и снова всё вокруг
Затихло… но жара уж спáла,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? – что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
Савельич! Ой ли – Дай огниво! —
Подъем ударил барабан —
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал…
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке – два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет – где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко… выстрел… легкий дым…
Эй вы, станичники, за ним…
Что? ранен!.. – Ничего, безделка…
И завязалась перестрелка…
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет…
Раз – это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов <вы>носят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Всё тихо – там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь всё спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
Но <в> этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп… глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный… В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня…
Ура – и смолкло. – Вон кинжалы,
В приклады! – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть…
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.
На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью… на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал…
Спасите, братцы. – Тащат в горы.
Постойте – ранен генерал…
Не слышат… Долго он стонал,
Но всё слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые…
И тихо плакали… потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый
Им вслед смотрел <я> недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
– А сколько их дралось примерно
Сегодня? – Тысяч до семи.
– А много горцы потеряли?
– Как знать? – зачем вы не считали!
Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.
Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвеньи
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденьи?
Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? —
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..
Завещание
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали,
И чтоб меня не ждали.
Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит… всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
Примечания к стихотворениям 1840 года
Как часто, пестрою толпою окружен…
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 85–88).
Автограф не известен.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 8, № 1, отд. III, стр. 140).
В обоих изданиях перед стихотворением стоит дата «1 января»; в «Стихотворениях» датировано 1840 годом.
Это стихотворение было написано в связи с новогодним балом-маскарадом в Дворянском собрании, на котором был и Лермонтов. И. С. Тургенев, также присутствовавший на этом балу, вспоминал, что «на бале Дворянского собрания ему (Лермонтову, – Ред.) не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки, одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
„Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских —
Давно бестрепетные руки…» и т. д.».
(И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, 1949, стр. 248–249).
И скучно и грустно…
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 109–110). Имеется черновой автограф – ЦГЛА, ф. 427, оп. 1, № 986 (тетрадь С. А. Рачинского), л. 66.
Впервые напечатано в «Лит. газете» (1840, № 6, стлб. 133).
Датируется январем 1840 года, так как 20 января стихотворение уже появилось в «Лит. газете». В «Стихотворениях» отнесено к 1840 году.
Раскрывая общественный смысл этого стихотворения, Белинский писал: «„И скучно и грустно» из всех пьес Лермонтова обратила на себя особенную неприязнь старого поколения. Странные люди! им все кажется, что поэзия должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тешить побрякушками, а не греметь правдою» (Белинский, т. 6, 1903, стр. 45).
Посреди небесных тел…
Печатается по автографу – ЦГЛА, ф. 427, оп. 1, № 986 (тетрадь. С. А. Рачинского), л. 66. Другой автограф (карандашный набросок, не законченный и зачеркнутый) – ЦГЛА, ф. 276, оп. 1, № 35 (архив П. А. Вяземского), л. 10.
Впервые опубликовано в «Библиогр. записках» (1858, т. 1, № 20, стлб. 634–635).
Датировалось ранее без достаточных оснований 1833–1834 годами. Автограф стихотворения находится на том же листке, что «И скучно и грустно»; поэтому можно его отнести к 1840 г.
Казачья колыбельная песня
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 89–92).
Автограф не известен.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 8, № 2, отд. III, стр. 245–246).
В «Стихотворениях» 1840 года датировано 1840 годом.
По поводу этого стихотворения среди гребенских казаков существовала легенда, что Лермонтов после битвы при Валерике в станице Червленой услышал, как казачка пела над колыбелью ребенка, и под впечатлением ее песни написал свою (см.: Леонид Семенов. «Лермонтов и Толстой», 1914, стр. 119). Это опровергается тем, что стихотворение появилось в печати в феврале, а битва при Валерике была в июле.
Белинский высоко оценил «Казачью колыбельную песню» и писал о ней: «Ее идея – мать; но поэт умел дать индивидуальное значение этой общей идее: его мать – казачка, и потому содержание ее колыбельной песни выражает собою особенности и оттенки казачьего быта. Это стихотворение есть художественная апофеоза матери» (Белинский, т. 6, 1903, стр. 52). «Казачья колыбельная песня» прочно вошла в народный обиход.
<М. А. Щербатовой> (На светские цепи…)
Печатается по автографу – ЦГЛА, ф. 276, оп. 1, № 48. Имеется копия – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), л. 10 об.
Впервые, с ошибкой во 2 стихе, опубликовано в «Отеч. записках» (1842, т. 20, № 1, отд. I, стр. 126), где датировано 1840 годом.
В своих воспоминаниях А. П. Шан-Гирей писал: «Зимой 1839 г. Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса „На светские цепи“). Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать» («Русск. обозрение», 1890, т. 4, № 8, стр. 747–748). То же рассказывала Е. А. Сушкова М. И. Семевскому: «Прелестное стихотворение „На светские цепи»… написано княгине Марии Алексеевне Щербатовой, рожденной Штерич, красавице и весьма образованной женщине» («Записки» Сушковой, 1928).
Есть речи – значенье…
Печатается по «Отеч. запискам» (1841, т. 14, № 1, отд. III, стр. 2), где появилось впервые. Имеется совпадающий по тексту автограф – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), л. 20.
В 1846 году в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. 2, стр. 168) была опубликована другая редакция стихотворения под заглавием «Волшебные звуки».
Датируется 1840 годом, так как цензурное разрешение на выпуск в свет тома 14 «Отеч. записок» было получено 1 января 1841 года.
И. И. Панаев рассказывает в своих воспоминаниях о том, как Лермонтов привез это стихотворение А. А. Краевскому (И. И. Панаев. Воспоминания. ГИХЛ, 1950, стр. 134–135).
Журналист, читатель и писатель
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 93—102). Имеется беловой автограф – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), лл. 11–12 об. и копия рукой В. А. Соллогуба – ИРЛИ, оп 2, № 62.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1840, т. 9, № 4, отд. III, стр. 307–310). В тексте журнала допущена опечатка, перешедшая в «Стихотворения», в стихе 84: «светлое» вместо «свежее». Исправлено по автографу.
В автографе помета: «Печатать позволяется. С.-Петербург, 19 марта 1859 года. Цензор И. Гончаров».
Датируется 20 марта 1840 года, так как в копии рукой Соллогуба написано: «С.-Петербург. 20 марта 1840. Под арестом, на Арсенальной гауптвахте». В «Стихотворениях» также датировано 1840 годом.
Эпиграф принадлежит, очевидно, самому Лермонтову.
Стихотворение было литературно-общественной декларацией Лермонтова, в нем выразилось отношение Лермонтова к журнальной полемике 1839–1840 годов и оценка им реакционной критики булгаринского толка. В образе «журналиста» Лермонтов, возможно, изобразил Н. А. Полевого, ставшего в это время на охранительные позиции («Лит. наследство», т. 43–44, 1941, стр. 761–762).
В. Г. Белинский дал восторженную оценку этому стихотворению: «Разговорный язык этой пьесы – верх совершенства; резкость суждений, тонкая и едкая насмешка, оригинальность и поразительная верность взглядов и замечаний – изумительны. Исповедь поэта, которою оканчивается пьеса, блестит слезами, горит чувством. Личность поэта является в этой исповеди в высшей степени благородною» (Белинский, т. 6, 1903, стр. 47).
Воздушный корабль
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 103–107).
Автограф не известен.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 10, № 5, отд. III, стр. 1–3).
В «Стихотворениях» датировано 1840 годом. Но можно датировать более точно – мартом 1840 года, так как В. Г. Белинский в письме к В. П. Боткину от 15 марта 1840 года писал, что Лермонтов, которого он навестил под арестом в ордонанс-гаузе, «читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает» (В. Г. Белинский, Письма, т. 2, СПб., 1914, стр. 93).
Сюжетная основа стихотворения восходит к балладе австрийского поэта-романтика Цейдлица – «Geisterschiff» («Корабль призраков»). Но Лермонтов далеко отошел от немецкого оригинала и не только изменил заглавие и порядок изложения, но и внес совершенно иной идейный смысл. В балладе Цейдлица его заинтересовал сюжет, позволявший ему воплотить свой оригинальный творческий замысел. Самая тема Наполеона давно привлекала внимание Лермонтова, см. стихотворения: 1829 года – «Наполеон», («Где бьет волна о брег высокой»), 1830 года – «Наполеон» («В неверный час») и «Эпитафия Наполеону»), 1831 года – «Св. Елена»).
Соседка
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), л. 19.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1842, т. 20, № 2, отд. I, стр. 127–128).
Датируется мартом – апрелем 1840 года, на основании воспоминаний А. П. Шан-Гирея, который указывал, что стихотворение было написано в ордонанс-гаузе, где Лермонтов сидел под арестом за дуэль с сыном французского посланника де Барантом.
Шан-Гирей писал, что «соседка» Лермонтова действительно существовала, но «была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери» («Русск. обозрение», 1890, т. 4, № 8, стр. 749).
П. А. Висковатов передает, что «Соллогуб видел даже изображение этой девушки, нарисованное Лермонтовым, с подписью „la jolie fille de sous-officier»«(„хорошенькая дочь унтер-офицера“. – Франц.) (Соч. под ред. Висковатова, т. 6, 1891, стр. 330).
Стихотворение проникло в тюремную и ссыльно-поселенческую среду, где бытовало в качестве песни.
Пленный рыцарь
Печатается по «Отеч. запискам» (1841, т. 17, № 8, отд. III, стр. 268), где появилось впервые. Имеется копия – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), л. 18.
Датируется предположительно апрелем 1840 года, когда Лермонтов сидел под арестом за дуэль с сыном французского посланника де Барантом.
<М. П. Соломирской> (Над бездной адскою блуждая…)
Печатается по «Отеч. запискам» (1842, т. 24, № 10, отд. I, стр. 320), где было опубликовано впервые.
Автограф не известен. Имеется копия без разночтений – ГПБ, собрание рукописей Лермонтова, № 62 (принадлежала В. В. Стасову).
Датируется предположительно, по содержанию, весной 1840 года, когда Лермонтов сидел под арестом за дуэль с де Барантом.
Относится к Марье Петровне Соломирской (1811–1859), жене Владимира Дмитриевича Соломирского, брат которого в 1837 году командовал лейб-гвардии гусарским полком. В 1839–1840 годах Лермонтов встречался с ней в свете. Сидя под арестом, он, очевидно, получил от Соломирской какую-то дружескую записку.
Отчего
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 115–116).
Автограф не известен.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 10, № 6, отд. III, стр. 280).
В «Стихотворениях» датировано 1840 годом.
Предполагается, что стихотворение посвящено М. А. Щербатовой (см. Соч. изд. Academia, т. 2, стр. 218). О М. А. Щербатовой см. примечание к стихотворению «На светские цепи».
Благодарность
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 117–118). Имеется беловой автограф – ИРЛИ, оп. 1, № 15 (тетрадь XV), л. 13.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 10, № 6, отд. III, стр. 290).
В «Стихотворениях» датировано 1840 годом.
Из Гёте
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 119–120).
Автограф не известен.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 11, № 7, отд. III, стр. 1).
В «Стихотворениях» датировано 1840 годом. По воспоминаниям А. Н Струговщикова, стихотворение было написано в конце ноября 1840 года, когда автор воспоминаний встретил Лермонтова у В. А. Соллогуба: «На вопрос его <Лермонтова>: не перевел ли я „Молитву путника» Гёте? я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй – недостает мне ее певучести и неуловимого ритма, „А я, напротив, мог только вторую половину перевести», сказал Лермонтов и тут же, по просьбе моей, набросал мне на клочке бумаги свои „Горные вершины»«(„Русск. старина“, 1874, № 4, стр. 712). Однако Струговщиков несомненно ошибся: в ноябре 1840 года Лермонтов был уже на Кавказе.
Данное произведение является вольным переложением стихотворения Гёте «Über allen Gipfeln» («Wanderers Nachtlied», «Над всеми вершинами» – «Ночная песнь странника». – Нем.).
Ребенку
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 111–114). Имеется автограф на отдельном листке – ИРЛИ, оп. I, № 47.
Впервые напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 12, № 9, отд. III, стр. 1–2).
В «Стихотворениях» датировано 1840 годом. В автографе рукой В. А. Соллогуба поставлена дата: «1838 г.».
Адресат не установлен. Высказывалось предположение, что стихотворение относится к дочери В. А. Лопухиной – Бахметевой (Соч. под ред. Висковатова, т. 6, 1891, стр. 291). Однако этому противоречит текст стихотворения, в котором речь идет о ребенке-мальчике («Ты на нее похож», «Ты повторял за ней»). Недостаточно обосновано и мнение, что стихотворение могло быть обращено «к сыну генерала Г. (т. е. Граббе. – Ред.), убитому в последнюю войну с турками» (Соч. под ред. Ефремова, т. 1, 1889, стр. 490).
А. О. Смирновой
Печатается по беловому автографу – ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 180 (альбом А. О. Смирновой), л. 3 об. Имеется беловой автограф другой редакции стихотворения – ГИМ, ф. 445, № 105 (альбом М. П. Полуденского), л. 61. Неполная копия, сделанная рукой В. А. Соллогуба, —
ИРЛИ, оп. 1, № 47 (повидимому – с чернового автографа).
В обоих автографах под текстом подпись: «М. Лермонтов».
Впервые в сокращении и с неточностями напечатано в «Отеч. записках» (1840, т. 12, № 10, отд. III, стр. 229). Стихотворение, очевидно, печаталось по альбому А. О. Смирновой, это подтверждается не только анализом текста, но и тем, что в этом же номере журнала на одной странице с стихотворением Лермонтова было помещено стихотворение Пушкина, печатавшееся несомненно по автографу в альбоме Смирновой (л. 1). Первые четыре стиха стихотворения Лермонтова не были напечатаны. Возможно, что эти стихи были исключены не самим Лермонтовым, а Смирновой. Имеющиеся же в печатном тексте изменения могли возникнуть в результате того, что Смирнова передала их по памяти.
Датируется 1840 годом по времени опубликования.
Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет (1809–1882) была в дружеских отношениях со многими русскими писателями: Пушкиным, Гоголем, Жуковским и др. Лермонтов познакомился со Смирновой в Петербурге зимой 1839–1840 года, бывал у нее и часто встречал ее в доме Карамзиных. В своей автобиографии А. О. Смирнова рассказывает о том, как было написано это стихотворение: «Софи Карамзина мне раз сказала, что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся вверх, открыл альбом и написал эти стихи» (А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., 1931, стр. 213).
К портрету
Печатается по тексту «Отеч. записок» (1840, т. 13, № 12, отд. III, стр. 290), где появилось впервые. Имеется беловой автограф – ЦГЛА, ф. 276, оп. 1, № 40; другой беловой автограф находился Берлинской Гос. библиотеке, в портфелях К. А. Фарнгагена фон Энзе, с пометой «Vоп Paulina Bülübin» («Русск. старина», 1893, № 4, стр. 59). Черновой автограф под заглавием «Портрет. Светская женщина» – ЦГЛА, ф. 427, оп. 1, № 986 (тетрадь С. А. Рачинского), л. 66 об.
В беловом автографе ЦГЛА внизу две пометы: «Писано собственною рукою Лермонтова. К<нязь> В. Одоевский» и «Это портрет графини Воронцовой-Дашковой. К<нязь> Вяземский».
Датируется 1840 годом по времени опубликования.
Обращено к графине Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой, урожденной Нарышкиной (1818–1856). Ее портрет был литографирован Греведоном в 1840 году в Париже. В. А. Соллогуб писал о ней в своих воспоминаниях: «Много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встречал я ни одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала всё ее окружающее» (В. А. Соллогуб. Воспоминания. «Academia», 1931, стр. 288).
Тучи
Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова» (СПб., 1840, стр. 167–168), где появилось впервые. Имеется копия под заглавием «Тучки» – ЦГЛА. ф. 276, оп. I, № 71.
В «Стихотворениях» датировано: «Апрель 1840», т. е. временем, когда Лермонтов уезжал из Петербурга в ссылку на Кавказ.
П. А. Висковатов передает со слов В. А. Соллогуба об обстоятельствах написания стихотворения: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение: „Тучки небесные, вечные странники!.. „. Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез…“ (Соч. под ред. Висковатова, т. 6, 1891, стр. 338).