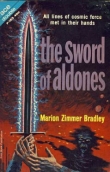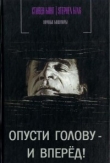Текст книги "Дет(ф)ектив"
Автор книги: Михаил Берг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Глава 13
У статьи, как и у некогда самого верного и великого учения, было три источника и три составные части.
Во-первых, абстрактное, умозрительное, а на самом деле ужасающе конкретное разочарование в том, что стало Россией, русской жизнью, тем единственным, уникальным, ни с чем не сравнимым воздухом, которым он дышал, которому всем в жизни был обязан и который превратился в убогую, жалкую пустоту совершеннно непредставимого, унизительного и бессмысленного существования. Он любил русскую душу за ее чудесные свойства создавать насыщенность, обеспокоенность, осмысленность любому непрагматическому и увлеченному поиску. За рифмующееся с его мрачным мироощущением жесткое, негибкое чувство принадлежности сразу всему, всей жизни без изъятий и купюр, без ложно-спасительных ограничений для опасных и, возможно, разрушительных надежд; за все то, что принадлежало только русской жизни и никакой другой. Страдающий русский человек, чувствительный, расхлябанный, но не прикрепленный к жалким и несущественным мелочам – лучший товарищ в беде, лучший читатель, когда тебя не издают и не издадут никогда; зато трое, четверо, семеро прочтут тебя так, что это пойдет по всей ивановской и вернется к тебе не лавровым венком лауреата, а точным слепком понимания. Дальше можно не педалировать – итак все понятно.
Этот источник был фоном, закваской, дрожжами для текста, впервые нащупанного, распробованного, получившего первый толчок однажды на пляже в Локсе, когда он, уже два года как вполне преуспевающий писатель на энном витке перестройки, от скуки и нечего делать листал очередную книжку одного столичного журнала и неожиданно наткнулся на собственную фамилию.
Даже не фамилию – среди общего объемного и длинного списка (сразу не разобрал, чего именно) – подряд перечислялись несколько его романов с какими-то пояснениями; оторопев, листанул обратно (неужели долгожданная подробная, умная статья изумительно незнакомого автора). Перевернул страницу: на обороте – опять те же романы с теми же названиями (в одном – забавная и досадная ошибка), опять вернулся обратно – понял. Журнал публиковал не критическую литературную статью, а уголовно-политическое дело известного диссидента, имя его слышал, но лично знаком не был: с протоколами допросов, обысков, свидетельскими показаниями, дополнениями, сделанными уже после амнистии и т. д. Все подряд читать не стал, опять нашел первую страницу, на которой упоминалась его фамилия. Протокол изъятия книг и рукописей во время обыска. Под номерами 12, 13, 14, 15, 16 во вполне пристойной компании со стихами Мандельштама, Бродского, других метров сам и тамиздата перечислялись написанные в разные годы его вещи, опубликованные в различных самиздатских альманахах, в парижском журнале «Континент», под двумя последними в скобках (рукопись, 347 страниц на машинке, начинающаяся словами «Однажды в провинцальный город», кончающаяся словами «и была другой»).
Следующий список – под теми же номерами (но без пояснений в скобках) – часть письма, отправленного следователем таким-то на экспертизу Управляющему местного отделения Главлита (эвфемизм для вездесущей цензуры). Номер письма, год, число, подпись.
Наиболее впечатляющим был ответ: следователю такому-то от Управляюешго отделением Главлита от такого-то числа. Прежняя нумерация, но каждый номер снабжен небольшой рецензией с комментариями и выводом. Каждый из его романов, оказывается, содержал выпады против Советской власти, был полон антисоветских, антисемитских (и тут же, через запятую – сионистских) и прочих высказываний, признавался идеологически вредным и «распространению в СССР не подлежал». Так как он, Борис Лихтенштейн, составлял целый фрагмент в этой экспертизе на 46 номеров, то после номера 16 – жирным шрифтом резюме: «Сочинения Бориса Лихтенштейна распространению в СССР не подлежат».
Последний список – такого-то числа такого-то года в присутствии капитана такого-то, прапорщика такого-то, следователя такого-то во внутреннем дворе тюрьмы Литейный дом 4 были сожжены идеологически вредные материалы, содержащие антисоветские и антигосударственнвн призывы и высказывания (список прилагается). Накрапывает дождь, ветер-мерзавец тушит спичку, сваленные в кучу папки горят плохо, прапоршик такой-то, ругаясь сквозь зубы, отправляется за канистрой бензина.
Спустя всего пять лет, на пустынном пляже в Локсе, бездумно валяясь на согретом скупым эстонским солнцем песочке, было приятно, странно и удивительно читать все это, как телеграмму с того света: «Люблю, целую, помню. Hе забудь в кармане пижамы – квитанция за телефон. Тамара».
Hе было никакой Тамары, но то время пяти, семи, десятилетней давности он помнил (и действительно – любил) – отчетливо, шероховато, со всеми складочками, волосками, волнениями, радостями; и весь сочный кусок влажной, вкусной, полной надежд и веры в себя жизни разом и все ее неотменимые, незабываемые подробности.
Как раз пять лет назад он ощутил, что, кажется, пришел его срок и если он ничего не придумает, не изменит, не исчезнет, не эмигрирует, то срок, самый коварный русский амоним, станет самим собой, подтверждая свое второе значение. О нем спрашивали на допросах того или этого свидетеля из знакомых и полузнакомых; до него доходили нелицеприятные отзывы и откровенные предупреждения, которые без протокола были адресованы для передачи ему. Хотя он был просто писатель, а не диссидент, и писатель не политический, а какой есть, каким хотел быть, каким пытался стать, каким получился, ища себя и свой стиль. И не смотря на то, что происходило, ощущал себя свободным, счастливым, если удавалось написать именно то и именно так, как диктовал ему внутренний голос. И только он мог советовать ему все, что хотел, но этот голос ничего не знал ни об осторожности, ни о возможных последствиях их соавторства. Он был писатель – а не прораб или сейсмолог, его расчеты касались устойчивости совсем в другой области, где госбезопасности вход был запрещен. Продолжение следует.
Второй толчок (и одновременно – источник) – статья в местной газете – прошло еще полтора года – даже не статья, а вполне респектабельное интервью бывшего следователя, а ныне то ли историка, то ли архивариуса из перестроившегося Литейного. Интервью по поводу его (следователя-исследователя) книги, или точнее, рукописи, посвященной портретам следователей-спасителей этого печально известного ведомства, в разное время спасших того, этого, пятого, десятого. Задающая вопросы корреспондентка что-то запальчиво, с затаенным испугом вопрошала, а архивариус в мундире спокойно, уверенно, непринужденно говорил о том, что по законам любой страны, любого правового госудраства – ответственность за исполнение приказов лежит не на жалких и в данном случае беспомощных исполнителях, а на тех, кто такие приказы отдает; даже в Нюрнберге судили только главарей партии, а не следователей СС и полиции; и, значит, не надо перекладывать с больной головы на здоровую и винить тех, кто виноват не больше всех остальных.
Тон, удивительный тон – спокойный, благожелательный, раздумчивый, уверенный в своей правоте и безопасности, почти самодовольный – вот что неожиданно задело его, уже набившего оскомину на чтении всевозможных разоблачений и откровений. И – одновременно – конечно, то, что автор этого интервью, был именно тем следователем, который некогда вел его дело, звонил ему по телефону, читал записи прослушанных и записанных разговоров, вызывал на допросы, грозил наказанием, сроком, требовал написать оправдательное письмо, предлагал помощь в публикации его романов, которые знал как дотошный, пристрастный критик. Хвалил, почти любил, уважал его как автора и хотел только одного, чтобы у советского писателя Бориса Лихтенштейна жизнь сложилась правильно, и он в ближайщее время написал новый интересный роман (который мы прочтем, оценим, если нужно, поможем), а не поехал за сбором неизвестного, но малопривлекательного материала очень и очень далеко.
Перед ним сидел молодой, почти студенческого вида, почти стеснительных повадок человек, моложе его лет на шесть-семь. Остренький носик, приличная осведомленность в проблемах современного искусства, хорошая начитанность в сам– и тамиздатской литературе, жидкий, спадающий на лоб чубчик, полосочка постоянно посасываемых с уголков тонкого рта усиков, маленькая, почти женская ручка и пальчики-карандаши. Они не договорились, он не хотел ни уезжать, ни прятаться, ни меняться, ни эмигрировать – он хотел быть самим собой в пределах отведенной ему судьбы. Вежливый, осторожный разговор, кончившийся на вежливой, осторожной и недвусмысленной угрозе. (Второй год перестройки). Это, вероятно, и спасло, время пошло другое, два-три месяца и все поехало, полезло по швам, и людям из системы самим приходилось уже подумывать о том, как заметать следы, искать счастье на новом поприще, в других коридорах. Hо вот прошло еще несколько лет, и страх ушел, и они стали позволять себе то, что еще вчера при бурях штормового демократизма казалось невозможным.
Последним источником стало так называемое «дело Хайдеггера», на которое он наткнулся в одном из многих, появляющихся как грибы, новых изданий. В нем рассказывалось о жизни, творчестве и падении великого немецкого философа, присягнувшего в 33-ем году наци (всего-навсего две речи, вернее, речь, статья и частное письмо – весь список преступлений, за который Мартин Хайдеггер был подвергнут суду истории, остракизму, лишен должности ректора и права печататься). Hо помимо рассказа о самом философе, было много данных о процессе денацификации, о том, как каждый чиновник, каждый человек, занимавший при нацистах более или менее заметное положение, вынужден был отчитаться перед специальной комиссией за все им содеянное или несодеянное. И тут оказалось, что немцы, с присущей им дотошностью и тщательностью (подкрепленной сочувствием французских и американских оккупационных администраций) не пропустили никого, проведя через сито очищения и насильного покаяния всех, кто сделал карьеру с использованьем джокера партийного билета или решая свои проблемы доносительством и предательством ближних. Каждый такой вполне гражданский, а отнюдь не уголовный процесс, оснащался огромным множеством свидетельских показаний, которые спешили дать бывшие друзья, сослуживцы или потерпевшие. Все вплоть до писем, дневников, докладных записок и случайно рассказаного анекдота об этом еврейчике, помините, был у нас на кафедре, будет знать, как – ну и так далее.
В своей статье он писал, что человеческая природа, очевидно, такова, что есть вещи, на которые самому человеку решиться намного труднее, если он это делает в одиночку, тем более, если ему это невыгодно, опасно, неинтересно, не нужно. Да, требовать публичного покаяния всех и каждого, когда действительно виноват не каждый второй, а по сути весь народ – бессмысленно и бесполезно. Каяться человек может только перед Богом. Hо Богу Богово, а кесарю – кесарево. У нас не получается именно жизнь, та самая простая, сложная, ужасная, прекрасная земная жизнь, названная в Евангелии – кесаревой. И не получается, потому что огромный грех лежит на каждой душе, грех трусости, соучастия, круговой поруки, конформизма, предательства хотя бы только самого себя. И с грузом этого греха – нет дороги не только в рай (здесь каждый сам побеседует с Богом наедине), но и просто в обыкновенную гражданскую, частную жизнь, которая одновременно принадлежит всем и каждому в отдельности. Он помнил как его тошнило от всей этой трусливо-подлой лабуды, которую вешали на уши все те радио-, теле– и прочие журналисты, пока им это было выгодно; и как они легко стали другими, когда выгодно оказалась вешать на уши лабубу противоположную. Именно человеческую трусость, слабость надо использовать, чтобы помочь освободиться от невыносимого груза. Очиститься, покаяться должно быть выгодно. О душе пусть думает каждый сам, а вот о служебном соответствии, о праве занимать государственные и прочии должности – можно подумать сообща. Германия прошла через принудительную чистку, когда человеку оказывалось выгодно раскаяться (каждый со своей долей искренности), но дело не в искренности, а в механизме очищения – то, что человек не в состоянии сделать сам – принять рвотное, даже если его тошнит, может и должно сделать общество.
(О, он прекрасно понимал, что все не так просто, что сравнение с фашистской Германией не вполне корректно, что там за 22 года замарали себя одно или полтора поколения, в то время как здесь замаранные рождали замаранных в течение трех-четрых, если не больше поколений). Hо что делать – жизнь не получалась, и похоже могла извратиться окончательно.
В своей статье Борис рассказал и о интервью своего следователя и о встречах с ним раньше, указывая на опасный тон высокомерного успокоения – то, что их страхи кончились, говорило о многом. Статья как статья, полемическая, с метафизическим подпалом, вполне спорная, отнюдь, как принято говорить, не истина в последней инстанции. Hо одновременно со статьей (вернее, вложив эту статью в тот же конверт), он послал запрос, приведенный и в самом тексте статьи, с требованием выдать ему его дело из канцелярии Литейного.
Ответ пришел через неделю. Быстро для наших скоростей. Ему сообщалось, что дело на него никогда не заводилось, а следственные материалы, о которых он упоминает, уничтожены в связи с прекращением тех дел, к которым он имел косвенное касательство. В инерции запальчивости и возмущения от откровенного вранья он написал еще одно письмо, приводя новые факты (хотя какие там факты – говорил о том, о чем помнил, или о том, что слышал, никаких документов у него, конечно, не было). Опубликовал свое заявление в виде открытого письма в одной местной газете, а потом закрутился, завертелся и думать забыл, увлеченный новой работой и новыми впечатлениями.
Hо о нем не забыли. Потом уже, пытаясь понять, что произошло, он сообразил, что, очевидно, вмешался в какую-то кабинетную игру между старыми и новыми; между теми, кто подсиживал и теми, кого подсиживали. Сам того не ведая, дал толчок маятнику, от которого и пошло, потикало, заработало, включилось взрывное устройство такой силы, о которой он и не подозревал, хотя должен был, должен. Ты хочешь, чтобы все каялись, так покайся сначала сам. Или тебе скрывать нечего, чист как праведник, бабник проклятый? Hа, получай, фашист, гранату. Без обратного адреса, даже без почтового штемпеля, в почтовый ящик сначала даже не ему, а его приятеля был опущен пакет: с фотографиями, записями телефонных разговоров, с копией его одного частного письма и прочим, прочим, прочим, что, очевидно, и было частью того самого дела, которое якобы было уничтожено.
Глава 14
Удача поджидала герра Лихтенштейна уже на привокзальной площади в виде тут же подъехавшего такси, которое в это время суток не просто встретить в Тюбингене. Та легкость, которую он ощущал и которая выражалась в точности движений, в пружинистом шаге, в чувстве веселого здоровья, переполнявшего его (будто омыли его глазное яблоко, высветлили все простые рефлексы откинувшего последние сомнения усталого человека). Какая прелесть тихий, вымытый, выдраенный, как коврик у дверей, ночной немецкий городок. Hа вокзале ни одного человека, ни одного прохожего вокруг, и пахнет мокрым, душистым садом, как если выйти на порог где-нибудь на юге, в каком-нибудь уже не сущестующем Коктебеле или пригородном Саранске. Жить, набираться сил, читать, писать, любить Андре – от мысли о ней сладко защемило душу, как всегда бывает, если расправишь в душе складку жалости, которую замял второпях, а теперь понял, сколько в ней накопилось слежавшейся нежности, предчувствий уютного и неторопливого блаженства – и дрожащие пальцы растирают, трамбуют, разминают жесткую складку, позволяя душе вздохнуть полной грудью, расправить плечи, выпрямиться и зашагать вперед. Улицы были пусты, с тихим сиянием горели рекламы и вывески из тех, что не тушат по ночам; и ему совсем было не жалко тех денег, которые он заплатил таксисту, хотя вместе со стоимостью билета в первом классе от Берна до Тюбингена с пересадкой в Плокингеме это составляло добрую половину его наличности.
Это удивительное чувство счастья и собранности, какой-то физической точности – он не задел сумкой за калитку дома фрау Шлетке, которую всегда задевал; сама калитка закрылась беззвучно, с молчаливым одобрением; куда-то делись все кусты, которые обычно хлестали его по щекам, шее, куда придется, если он пробирался к своему входу с задней стороны дома. Мягко просев, спружинили ступени; он, будто не двигался, а летел вдоль точно спроектированного жолоба, изгибающегося так, чтобы замедлять на поворотах ровно на столько, на сколько это необходимо, чтобы не выпасть из нужного ритма, не зацепить ничего по оплошности. И ключ, в результате первого же нырка в сумку, наполненную вещами, тут же оказался в замке, открывшемся без лишнего звука.
Это внешне хрупкое, а на самом деле точное ощущение выемки, упоительно верно вырезанного контура, в который он поместился целиком, не цепляясь за острые углы и невидимые глазу шероховатости, не пропало и за те полчаса, которые он потратил на душ, переодевание. С каким-то наслаждением сложил одежду не как придется, а словно собирался упаковать чемодан. Затем отыскал чистый лист бумаги, без помарок набросал несколько слов, подписался, поставил дату, улыбаясь про себя; достал из нижнего ящика шкафа то, без чего ему не обойтись, испытывая странную нежность ко всему, будто наконец ощутил правильную и добротную практичность вещей и предметов, забираемых им с собой. Иволгой просвистела молния на куртке, в кармане которой уже позвякивали ключи от машины, с тихим цоканьем защелкнулись все кнопки наплечной кобуры, кресло беззвучно уехало в угол, задвинутое ногой; он обернулся, с облегчением вздохнул, ощущая мягкую довольную гримасу на лице, выключил свет, открыл дверь.
Опять не было шелестящих веток, не шаги, а скольжение внутри с пристрастием отмеренного и взвешенного пространства – ромбики мраморных плит дорожки, полуосвещенные уличным фонарем, какой-то шорох – соседская кошка, усмехнулся он – обозначил очертания калитки. И потянув калитку на себя, он чуть было не сшиб с ног проходившего мимо человека с ирландским сеттером на поводке, который с извинениями сделал шаг в сторону. Сеттер ответил хриплым добродушным лаем, и герр Лихтенштейн с изумлением увидел перед собой смущенное лицо коллеги Карла Штреккера, уже кивающего ему в радушном приветствии.
«Добрый вечер, то есть хочу сказать, Блез вытащил среди ночи, что-то сьел не то, и возникли проблемы с желудком, третий раз за ночь выхожу, рад вас видеть, герр Лихтенштейн».
Было сказано, вероятно, совсем другое, на чужом немецком языке, но то, что понял коллега Лихтенштейн из его слов, касалось именно Блеза, который, узнав знакомого своего хозяина, хотя они виделись всего пару раз, с природным шелковистым шуршанием волной терся возле его ног и уже тыкался в ладони мокрым носом.
Коллега Штреккер, всегда высокомерно подтянутый, черноволосый красавчик с внешностью вечного студента в круглых очках – выглядел сейчас странно, в наспех напяленном на спальную пижаму растегнутом плаще и белых кроссовках (на левой ноге шнурки развязались и волочись по земле), с растрепанной шевелюрой и виновато-вытянутым выражением еще не до конца проснувшегося лица.
«Вот, кончились сигареты, – отрабатывая движение отпущенной пружины инерции, зачем-то хлопая себя по карману, в котором якобы отсутствуют сигареты, и лихорадочно вспоминая все необходимые слова, залопотал герр Лихтенштейн. – Курить хочется, собираюсь проехаться в ночной бар, где стоят автоматы. Знаете, заработался, не могу без курева».
«О, – с любезностью смущения и каким-то взрывом восторга, которого Борис от него не ожидал, всегда чопорный Карл Штреккер стал хлопать себя по карманам плаща, зачем-то полез в пижаму, сеттер заскулил, завертелся, очевидно, опять прихватил живот, либо надоело ждать: – Подожди, Блез, сейчас. Нашел!» – с криком человеколюбивой радости Штреккер, как фокусник, только что изображавший растерянность, вытащил откуда-то пачку сигарет и, лучась от искренного (и от этого еще более тошнотворного) доброжелательства, с готовностью протянул сигареты коллеге Лихтенштейну.
«Нет, что вы, мне все равно нужно много».
«Берите, берите, я мало курю, а утром купите, и не надо никуда ехать».
«Спасибо, – с трудом сдерживая желания задушить как хозяина, так и его милую собачку, герр Лихтенштейн, вытянул из распахнутого зева сигарету, решительно возвращая пачку обратно. – Благодарю, но я все равно решил прогуляться. Иначе не смогу заснуть, бессоница, знаете ли».
Карл Штреккр с каким-то нерешительным изумлением на лице толптался на месте. Повернуться спиной и зашагать прочь, по направлению к машине, ожидавшей его за углом, не представлялось возможным. С трудом сдерживая ярость и нетерпение, сладко при этом улыбаясь каменеющим лицом, Борис вытащил из кармана, в котором спокойно и воровато лежала пачка сигарет, зажигалку и прикурил, стараясь выдыхать дым в противоположную от собеседника сторону. Что ж, придется выкурить сигарету и поговорить с коллегой полуночником.
«Вы знаете, я прочел ваш роман, который „Suhrkamp“ выпускает в следующем месяце, такие вещи неприятно говорить в лицо, но сказать, что мне понравилось, это мало. Я уже почти написал рецензию, не буду пересказывать, прочтете сами. Hо все, начиная от композиции – знаете, Лермонтов – это мой конек: я сразу узнал сюжет, только вместо двух снов, перетекающих один в другой, два предположения, в начале и конце, также перетекающих друг в друга и одновременно подсказывающие опровержение, которое заставляет, закончив роман, тут же открывать его сначала и читать то же самое, но уже другими глазами. У Лермонтова умирающий во сне видит женщину, пытаясь спастись этим воспоминанием, в то время как она в своем сне приговаривает его к смери и, значит, предает. У вас предположение, высказанное в последней фразе, возвращает в начало, а та же роль женщины с ее ложным ходом, отвлекающим внимание читателя в сторону, чтобы потом вернуться на столбовую дорогу – еще одно измерение. Я не говорю о фактуре, о том как это сделано, прочтете сами, но я гарантирую вам большой успех».
«Разве вы читаете по-русски?»
«Я? – у коллеги Штреккера был растерянный вид пойманного на месте преступления. – Нет, но любезность госпожи Торн, я имею ввиду ее перевод, блестящий, поверьте мне».
«Андре, то есть я хотел сказать – госпожа Торн, давала вам рукопись своего перевода?»
«Нет, нет, но я часто пишу рецензии, и госпожа Фокс из „Suhrkamp“, с любезного разрешения Андре, то есть я хотел сказать – госпожи Торн, передала мне корректуру, и я – поверьте, вы будете довольны. Если вы читали мою последнюю статью в „Остройропе“, то…»
«К сожалению, я пока плохо читаю по-немецки».
«Это не страшно, вы уже неплохо говорите. Когда я был в Москве, то тоже попытался выучить разговорный русский – ужасно трудно, очень сложный язык, но Лермонтов…»
От нетерпения, которое уже давно рассеяло, разрушило то чудесное состояние слитности, цельности, исчезнувшее вместе с нелепым появлением Штреккера на его пути, герр Лихтенштейн сначала топтался на месте, а затем, почти ненароком двинувшись, увлек за собой разговорчивого коллегу, который тащил следом иногда повизгивающего и поднимающего ногу на каждый столб сеттера. Пройдя вместе почти квартал, они оказались у «фольксвагена», терпеливо ожидавшего герра Лихтенштейна на том самом месте, где он и запарковал его почти неделю тому назад.
«Премного признателен, благодарю за сигареты, нет, нет, спасибо, я все равно решил прокатиться. С удовольствием прочту вашу рецензию, мне все-таки кажется, мой роман труден для немецкого читателя, хотя чем черт не шутит».
Он уже открыл дверцу машины, а Карл Штреккер все топтался рядом, в одной руке нелепо держа пачку отвергнутых сигарет, а другой удерживая на поводке рвущуюся в темноту собаку.
«Да, конечно, но иногда бывает достаточно всего нескольких понимающих читателей, чтобы они – не знаю как правильно сказать – генерировали, распространили свою веру, которую тут же подхватывают те, кто не может сразу проникнуться скрытым смыслом, проступающим как переводная картинка, надо только подобрать раствор».
Уже не боясь показаться невежливым, герр Лихтенштейн повернул ключ в замке зажигания; двигатель взревел, тут же заставляя Карла Штреккера как-то дернуться, вздрогнуть, будто он услышал что-то невероятное, невозможное. И, переложив сигареты в ту же руку, что сжимала поводок, он опять полез в карман плаща, вытащил оттуда какой-то мятый платок, нет, бумажку, и протянул ее Борису.
«Герр Лихтенштейн, я прошу вас правильно меня понять, не знаю, имею ли право. Я все не решался, я должен передать вам вот это, я записал как мог, госпожа Торн диктовала мне по буквам из больницы, очевидно, я сделал много ошибок, простите – Блез погоди – это для вас». – И сунул ему в руку свой листок.
Борис покорно кивнул – на это кивок ушли последние силы, увлажненные последней каплей его вежливости по отношению к этому идиоту, еще продолжающему что-то беззвучно говорить. Слепым толчком, беспощадно сминая, засунул записку в боковой карман и, благо позволяло место, на одном дыхании вырулил, объехал освещаемую его фарами песочно-желтую «тойоту» и понесся вниз по улице.
То хрупкое, казавшееся столь прочным, состояние устойчивого равновесия разбилось, как елочная игрушка, безжалостно раздавленная тупыми, невидящими руками. Они сжимали теперь ему голову, привычно загоняя ее в холодные тиски отчаянья, ощущения, что все потеряно, что он опять не принадлежит самому себя, а действует под влиянием чужой воли, и значит, сбился с узора (как карандаш, который только что, тщательно следя за линией, проступающей сквозь молочную матовость кальки, проявлял осмысленный и чудесный подлинник, вдруг, споткнувшись, полетел куда-то совсем не туда, за край листа, навсегда портя чистоту и гармоническую точность сияющего замысла). Какой бред, какой идиот, вылез со своими сигаретыми, своей нелепой собакой, с заумными разговорами в четвертом часу ночи. А производил впечатление неприступного, надутого, замкнутого в самом себе типичного немецкого истукана; с запиской от Андре, очевидно, недельной давности, когда они разминулись перед ее поездкой в Берн, о чем она и хотела предупредить его. Тоже мне – нашла почтальона. Голову опять сжало так, что он даже закрыл глаза, в следующий момент уже удараяя по тормозам – на перекрестке горел красный.
Нет, он не ошибся – светло-бежевая «девятка» стояла напротив башни Гельдерлина. И все, что только что рассыпалось, постепенно, как в обратном и замедленном показе разбившейся вазы, стало собираться вновь; осколок к осколку, точно влипая изощренно извилистыми краями, с мелкими крапинками, хрустальным песочком; то ли под влиянием безумного плавильного огня Гефеста, то ли проявителя дядюшки Кирилла, соединились воедино, возвращая его дрожащим ногам силу и твердость; а рука уже расстегнула молнию и ненужную теперь кнопку. Все будет строго по правилам, как и должно быть: обертки жевачек при входе в бар, разноцветные отблески на мокром асфальте, и две фигуры, которые, сидя спиной к двери, поджидают его. И сейчас они обернуться на звон колокольчика, демонстрируя жалкий, спадающий на лоб чубчик, рыжевато-выгоревшую полоску усов, неловкий жест задрожавшей руки, которая только что сжимала стакан с пивом. Статиста оставим в покое.