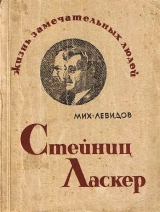
Текст книги "Стейниц. Ласкер"
Автор книги: Михаил Левидов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Период некоторой душевной усталости и подведения итогов почти всегда неминуем в жизни каждого бойца, особенно если его борьба имеет индивидуальный характер, связанный лишь с его личностью. Это случилось и с Ласкером. После Петербурга наступает длительная пауза в его шахматной жизни, прерывающаяся лишь двумя незначительными состязаниями и продолжающаяся вплоть до 1921 года, его гаваннского матча с Капабланкой. Годы империалистской войны Ласкер провел в Германии, живя «спокойно, хотя и впроголодь». Но эта пауза в шахматной деятельности была заполнена громадной умственной работой: это были годы труда над основным его философским сочинением «Философия несовершенного», законченным в 1918 году. В одном из разделов этого труда Ласкер излагает созданную им науку борьбы, или, пользуясь его термином, – «махологию». Этой своей концепции Ласкер придает особое значение. В опубликованном в 1926 году «Учебнике шахматной игры» он пишет о ней:
«Теория борьбы, которую предугадывали такие люди, как Макиавелли, Наполеон, Клаузевиц, которая точно была предопределена Стейницем на шахматной доске... мною была изложена философски и таким путем сделана достоянием всего мира; она очень глубоко проникнет в жизнь человечества». И несколькими строками выше: «Когда-нибудь в будущем моя философия, – да простит мне читатель это убеждение, основанное не только на тщеславии, – будет признана и оценена всем миром».
Нет необходимости детально анализировать общие философские концепции Ласкера и его «махологии». Эта концепция о несовершенности мира, как познаваемого объекта, так и интеллекта, познающего субъекта, отражая в известной степени основные тенденции эпохи загнивания буржуазной культуры и, в частности, тот психологический шок, который претерпела европейская интеллигенция во время войны, – является по существу своему типичной метафизической концепцией, построенной формально-логическим путем.
Но интересно отношение между Ласкером философом и шахматистом. Шахматная его деятельность, оказывается, дала ему материал для создания одной из частей его философского трактата. Это был подготовительный опыт – так представляет дело сам Ласкер. К примеру говоря, партии его в петербургском турнире с Рубинштейном и Капабланкой, имеющие громадную шахматно-эстетическую и шахматнопознавательную ценность, оказались лишь сырым материалом для какого-то абзаца в его философском труде. Так склонен думать сам Ласкер, – для нас неприемлема эта точка зрения, здесь нам нужно защищать Ласкера от Ласкера. Призовем на помощь аналогию. Представим себе человека, который, в поисках общих законов построения музыкального произведения и мобилизуя материал для иллюстрации этих законов, создал по пути, мимоходом, десятки и сотни гениальных сонат и симфоний. Это и случилось с Ласкером. Правда, Ласкер не уклонился от намеченного пути и написал свой труд. Но мы благодарны ему не за философскую его теорию, а за шахматную практику.
Проследив эту практику на 25-летнем периоде, естественно, приходим мы к вопросу: нельзя ли ее обобщить? Каков облик Ласкера-шахматиста, в чем его стиль?
Литература о Ласкере-шахматисте достаточно велика. Но это эмпирические наблюдения, почти одни и те же у всех, кто о нем пишет. Все знают, что Ласкер очень не точно, а зачастую и плохо разыгрывает дебюты, в отличие от всех шахматистов «новой школы» начала XX века, а тем более современных шахматистов, у которых знание теории дебютов является основой шахматного познания. За все время своей шахматной деятельности, а ей скоро минет полвека, Ласкер как бы не мог одолеть дебютной стадии игры. А может быть не хотел одолеть? Может быть он сознателен в своих ошибках? Многие держатся и такого мнения. Известно также, что Ласкер особо силен в стадии эндшпиля, что он стремится к размену фигур, к видимому упрощению. И наконец установили эмпирические наблюдения характерную способность Ласкера («колдовство», «внушение») превращать для себя проигранные партии в ничью, мертво-ничейное положение в выигрыш. Можно было бы сказать: чем хуже положение Ласкера, тем он страшнее; Ласкер выигрывает благодаря, собственным ошибкам. Это эмпирическое наблюдение блестящий шахматный писатель Тартаковер пытался обобщить в общий закон, применимый к любой партии.
Говорили также, что «секрет Ласкера» в плане игры. Пусть ошибочен этот план, но с такой уверенностью в своей правоте и железной настойчивостью Ласкер его проводит, что в итоге дезориентирует противника. И это наблюдение верно, но и оно голо эмпирично.
Сам Ласкер неоднократно указывал, что для него шахматы не искусство, не наука, а только борьба. Бесспорен и общепризнан, стало быть, вывод, что его стиль – стиль борца. Но и для Алехина шахматы – борьба, но и для математика Эйве шахматы – борьба. И однако в той же степени отличны они друг от друга, в какой отличны они оба от Ласкера.
Одна цитата из Ласкера придет нам на помощь. Он писал о неудаче Рубинштейна в петербургском турнире:
«Рубинштейну в Петербурге в первый раз жестоко изменила судьба, и это не в меру его потрясло. Он вероятно понял теперь, что это не пустая фраза, что жизнь есть борьба. Для игры Рубинштейна характерен стиль, которому несомненно принадлежит будущее. Это стиль, так сказать, «безличный». Играя, Рубинштейн никогда не считается с индивидуальностью своего противника. Он исходит из того, что «А» играет с «Б», и спрашивает себя, какой при данном положении ход будет наилучшим. Обыкновенно он и делает этот наилучший ход. Но на этот раз судьба посмеялась над ним и как бы спросила его с легкой иронией: итак, «А» против «Б», – ну нет, в конце концов ведь и ты все-таки живой человек».
Это написано о Рубинштейне. Но только ли о нем, а не о Тарраше также, о Мароци, о Шлехтере? Разве своей игрой с ними не доказывал Ласкер воочию, что не «А» играет с «Б», а Ласкер с имя рек? И разве эти же слова не относятся еще «в большей степени к самому зачинателю «новой школы» Стейницу? Ласкер неоднократно и настойчиво говорит о теории Стейница как об «откровении», гениальном прозрении, абсолютизирует ее, подчеркивая ее значение, как универсальной теории борьбы, примененной, в частности, в шахматах. Себя Ласкер считает верным стейницианцем, лишь открывшим миру значение учителя. Стейниц сам отнюдь не стремился сделать свои воззрения на шахматы базой философских теорий, и в этой области отношения Ласкера к Стейницу носят чисто эмоциональный характер. Но как относился Ласкер-шахматист к шахматным воззрениям Стейница? Они не прошли для Ласкера бесследно и в начале его пути. Но если был среди шахматистов тот, кто упорно полемизировал в своей практике со Стейницем, более того, органическим антистейницианцем, – то это был только Ласкер, когда он созрел. И в этом, больше чем в чем-либо, «секрет Ласкера-шахматиста».
В борьбе против хаоса и случайностей, против шахматного наития и шахматных чудес Стейниц создает не вполне законченную, но четкую и определенную шахматную догму. Как всякая догма, исходит она не из исключения, а из правил, игнорируя индивидуальное, устанавливая типическое. В шахматных концепциях Стейница всегда и только «А» играет с «Б». Игнорирование личного, человеческого элемента в шахматах, стремление осуществить в них торжество догмы и создавало такие эпизоды в жизни Стейница, как история с его защитой в гамбите Эванса в его встречах с Чигориным. Для своего времени догматическое учение Стейница было громадным прогрессом – в руках его эпигонов и учеников догма Стейница выразилась в голую, безыдейную технику, стала триумфом безличности.
Против триумфа безличности поднял Ласкер знамя принципиального бунта. Путь от Стейница к Ласкеру – это путь из царства догмы в царство свободы, но – его индивидуальной свободы – только для Ласкера. Поэтому не имел и не мог он иметь учеников, поэтому и казалась эта свобода другим – царством хаоса и парадокса.
Ласкер сам не раз указывал, что он «играет в шахматы психологически». Но лишь после Петербурга стало ясным, что психологический метод применяется им сознательно, систематически. И лишь тогда стали догадываться о роли психологии в его стратегии шахматной игры. Эта роль сначала – чисто вспомогательная: там, где техника ничего не может сделать, приходит на помощь психология. В ничейном положении намеренно дает Ласкер своему противнику шансы на выигрыш, рассчитывая, что в создавшихся сложных положениях сумеет он дезориентировать и запутать противника. Но Ласкер идет и дальше: он покушается на технику в самой могучей ее крепости, в области дебютов, где она так уверенно царит: разыгрывая дебюты намеренно не точно, он сразу придает партии характер острой психологической борьбы. Выведя противника из крепости догмы, сведя его с твердой почвы техники, Ласкер пользуется затем оружием, заимствованным из арсенала математики – теорией вероятности. Он как бы подсказывает – по Таррашу «внушает» – противнику ходы, по существу же их предугадывает. Ведь он знакомится предварительно с индивидуальностью противника и рассчитывает, что без опоры догмы и техники, базируясь лишь на своей индивидуальности, противник, вероятно, будет играть так-то и так-то, он побуждает противника играть индивидуальным стилем, лишая его защиты безличной техники, заставляя его импровизировать за доской. «Будь самим собой, а не ходячей шахматной книжкой, – так думает он о противнике своем, – и тогда ты мне не страшен».
Введение в шахматы теории вероятности через посредство психологического метода – такова формула игры Ласкера. Не трудно заметить, что этой формуле нельзя научиться и невозможно ей подражать. Она резко индивидуальна, она обусловлена основными качествами Ласкера-человека: неограниченной верой в себя, железной волей, интеллектуализмом, антиэмоциональностью и организаторским талантом. Да и в своей жизни, и в своей мысли, но особенно в шахматах, Ласкер – художник, мыслитель, боец, но главным образом организатор. Свои победы он осуществляет длительным, сложным и зачастую скрытым организаторским трудом.

Матч-турнир в Берлине в 1918 году. Сидят (слева направо): Ласкер, Рубинштейн, Шлехтер, Тарраш
Психологический метод не является, конечно, секретом Ласкера. В какой-то степени его применяет каждый шахматист. Но как часто превращается он в других руках из оружия победы в орудие самоубийства! Этим методом, в самой примитивной его форме, хотел бороться Алехин против догмы и техники Эйве во многих партиях их матча – и результат известен. Алехин был побежден именно благодаря истерическому применению этого метода.
А Ласкер был побежден – единственный раз в своей жизни – тогда, когда он выпустил из своих рук это оружие: речь идет о его гаваннском матче с Капабланкой.
В семилетие 1914—1921 годов шахматная деятельность Ласкера была минимальна. Небольшой матч с Таррашем в 1916 году, с пятью победами и одной ничьей, первое место в четверном матче-турнире Ласкер—Рубинштейн—Шлехтер—Тарраш в 1918 году, и это все. Правда, международная шахматная жизнь была сорвана войной. Но именно в эти годы наступает кризис в сознании Ласкера-шахматиста. И фраза из его статьи о Рубинштейне, о безличном стиле, которому несомненно принадлежит будущее, – первое проявление этого кризиса. Рети писал в 1918 году: «Ласкер, который играет без всякой шаблонной техники, рассчитывая лишь на свои собственные силы, должен больше чем кто-либо из других мастеров бояться старости. Если иссякнет его духовная свежесть, или хотя бы только живой интерес, тогда он ни с какой техникой не сможет достигнуть высоких результатов. Дух его столь же неутомим, как и прежде, однако мне казалось, что я замечаю в нем симптомы старости... Глава Ласкера-шахматиста, борца против шаблонной банальности, эта единственная в своем роде глава шахматной истории, подходит к концу».
Очень решительно это высказывание – справедливо ли оно в той же степени? Верно одно. К 1918 году у Ласкера появилась некая усталость от шахмат, как бы разочарование, и на самом деле чувствовалась потеря живого интереса. В 1918 году Ласкер опубликовал свою нашумевшую статью о реформе шахматной игры. Долгие годы боролся Ласкер своим психологическим методом против триумфа техники и догмы. И пришел, очевидно, к выводу, что, не говоря об его индивидуальных достижениях, принципиально эта борьба – безнадежна, безличность – стиль будущего. Но триумф безличной техники ведет к ничейной смерти шахмат. К этому выводу он и пришел, тем самым себя обезоружив, и единственное опасение видел во вмешательстве извне, в реформе правил игры.
Вот в этом психологическом состоянии был Ласкер в момент возобновления после войны переговоров о матче с Капабланкой. Шлехтер уже умер, Рубинштейн ослабел, претендентом на звание чемпиона был лишь Капабланка. Не стоит останавливаться на деталях длительных переговоров. Капабланке удалось одержать организационную победу, – как в свое время, в 1894 году, Ласкеру, – и настоять на устройстве матча в Гаванне, против чего Ласкер протестовал все время. В 1920 году Ласкер отказался от звания чемпиона в пользу своего противника, раздраженный длительной дипломатической склокой. Но в 1921 году, когда все организационные и финансовые вопросы были решены, он не счел возможным уклониться от борьбы.
Усталый и разочарованный, без иллюзий и надежд, выполняя неприятную необходимость, – как писал он сам, – направился Ласкер в Гаванну. Матч игрался (март—апрель 1921 г.) на большинство из 24 партий, но уже после 14-й партии, после 10 ничьих и 4 проигрышей Ласкер сдал матч, заявив, что отказывается от дальнейшей борьбы.
Общепризнанно, что Ласкер играл в этом матче так плохо, как никогда раньше. Техника его была слаба, он допускал грубые ошибки, а оружия психологического метода как будто никогда для него и не существовало. Указывалось неоднократно, – также и Ласкером, – что гаваннский климат сыграл здесь свою роковую роль. Нужно признать – роль значительную, но не роковую. После первых двух партий матча, окончившихся в ничью, Ласкер писал: «Шахматная игра приближается к совершенству. Из нее исчезают элементы игры и неопределенности. Слишком много в наше время знают: нет, следовательно, необходимости угадывать... Быть может, это печально, но знание приносит за собою смерть. Я всегда противился изучению. В наше время исчезла прелесть неизвестности».

Хозе Рауль Капабланка
Так пишет разочарованный человек. Отказавшись от своего оружия, потеряв в него веру или не умея применить его (вспомним матч со Шлехтером), Ласкер обрек себя на поражение. Красноречивым документом этого морального поражения являются нижеследующие слова из его брошюры о матче: «Я видел, как шахматы все более теряли прелесть игры и неизвестности, как их загадочность превращалась в определенность, как шахматы механизировались до степени объекта памяти... Капабланка кажется воплощением этого автоматического стиля... Конечно, шахматам осталось еще не долго хранить свои тайны. Приближается роковой час этой старинной игры. В современном ее состоянии шахматная игра скоро погибнет от ничейной смерти; неизбежная победа достоверности и механизации наложит свою печать на судьбу шахмат».
Но ведь это развитие мыслей, высказанных им уже в 1918 году? И это свидетельствует, что свой матч 1921 года Ласкер проиграл еще в 1918 году.
Значит Рети был прав в своих высказываниях о Ласкере в 1918 году?
Побежденный побеждаетНет, Рети не был прав!
В той же своей брошюре о матче Ласкер говорит: «Я не собираюсь отказываться от шахматной деятельности, я хочу еще послужить жизни, науке и шахматам. Но я хочу предварительно со стороны присмотреться к игре».
Как будто банальные, ни к чему не обязывающие слова, звучащие даже несколько комически. «Присмотреться к игре со стороны?» – и это говорит пятидесятичетырехлетний человек, четверть века играющий в шахматы! Мы помним, что пятидесятишестилетний Стейниц, разбитый Ласкером, также не хотел отказаться от шахматной деятельности, но мы знаем, что это привело лишь к трагической его агонии. Неужели та же судьба ждет и Ласкера?
Два года ничего не знает шахматный мир о Ласкере. В 1923 году в Остраве-Моравской состоялся небольшой, но довольно сильный турнир. В турнире участвует несколько стариков, представители шахматной молодежи, глашатаи «неомодернистского» течения в шахматах: Рети, Боголюбов и ряд других. Всего 14 человек. Среди них и старик Тарраш, играющий, однако, неудачно: он занял 8-е место, с 6½ очками. Но среди них и старый его противник Эмануил Ласкер. Он сыграл гораздо удачнее Тарраша: из 13 партий он собрал 10½ очков, не проиграв ни одной и заняв первое место, на очко опередив второго призера – Рети. Это была сенсация. – Как, Ласкер еще жив? Значит, еще не кончилась его шахматная жизнь? Но, с другой стороны, раздавались скептические голоса: «этот турнир не показателен», «там ведь не было ни Алехина, ни Капабланки» (Алехин стал особенно выдвигаться в эти послевоенные годы). Пылкий Рети вызвал после турнира Ласкера на матч как представитель неомодернистского течения в шахматах. Ласкер отклонил этот вызов, это течение не казалось ему принципиально значительным. Через два года он писал о нем в своем «Учебнике»: «Так называемый гипермодернизм существует главным образом потому, что этому методу не следуют». Но матч Ласкер—Рети был бы встречен в шахматной среде, вероятно, с меньшим недоумением, чем матч-реванш Ласкер—Капабланка или матч Ласкер—Алехин. Но не прошло и года после Остравы-Моравской, как был организован большой турнир в Нью-Йорке. Одиннадцать лучших шахматистов были приглашены участвовать в нем, играя по две партии друг с другом. Там были и Капабланка, и Алехин, и Рети, и Боголюбов. Из стариков участвовали: Маршалл, Мароци, Яновский; из среднего поколения: Тартаковер, Яте и Эдуард Ласкер, однофамилец бывшего чемпиона. Среди 11 лучших нашел свое место и Эмануил Ласкер: это не было сенсацией. Но сенсацией оказалось то, что он и в турнире нашел свое место, и это было первым местом. Из 20 партий он выиграл 13, сведя 6 в ничью и проиграв лишь одну – Капабланке. Но зато новый чемпион мира отстал от него на целых полтора очка, а Алехин, занявший третье место, даже на четыре. Словом, результат турнира был тот же самый, что и 10 лет назад в Петербурге, – Ласкер, Капабланка, Алехин. Этого десятилетия словно и не было, матча 1921 года словно и не существовало.
Но еще характернее было то обстоятельство, что стиль нью-йоркской игры Ласкера был все тот же. Вернулся психологический метод, усилившийся ныне в связи, конечно, с тем, что Ласкер «присмотрелся к шахматам со стороны». После первой половины турнира Ласкер опередил чемпиона на полтора очка; Капабланке, таким образом, предстояло сделать то, что так великолепно выполнил Ласкер 10 лет назад. Но он этого не сумел, хотя приложил все старания. Во второй половине турнира он сделал из 10 партий 8½ очков, но столько же сделал и Ласкер, сохранив свое преимущество. И в некоторых партиях турнира Ласкер проявил свое старое «колдовство». У него опять было несколько «безнадежно проигранных» партий, которые он, однако, не проиграл. А в одной партии со своим однофамильцем Эдуардом, старым, опытным мастером, он сумел добиться ничьей, имея в эндшпиле одного коня против ладьи с пешкой. Эдуард Ласкер по этому поводу в свое время заметил: «Я до сих пор не знал, что конь может сделать ничью против ладьи с пешкой». Особенно эффектным были две победы Ласкера над Рети: Рети мобилизовал все ухищрения неомодернизма с печальным, однако, для себя результатом. Но все же Ласкер проиграл одну партию Капабланке при одной ничьей, что и дало возможность чемпиону писать после турнира: «Я не думаю, что Ласкер хоть сколько-нибудь сомневается в моем превосходстве над ним... он взял первый приз главным образом потому, что молодые мастера играли ниже своей силы».
Понадобилась, стало быть, еще одна проверка, чтобы показать: что же было случайностью в жизни Ласкера – Гаванна или Нью-Йорк? Вскоре последовала и эта проверка: это был знаменитый московский турнир 1925 года – несомненно один из сильнейших турниров последнего десятилетия. Результат известен и достаточно убедителен. Ласкер хотя и занял второе место со своими 14 очками из 20 партий, отстав от первого призера Боголюбова на 1½ очка, но он все же оказался впереди Капабланки. Их встреча окончилась в ничью. В нью-йоркском, особенно в московском турнире Ласкер показал, во-первых, что он преодолел свое заблуждение или психологическую усталость, столь очевидную в гаваннском матче; и, во-вторых, что он сумел воспринять то новое в шахматной технике, чем были проникнуты воззрения неомодернистов. В возрасте пятидесяти шести лет он сумел преодолеть и свои психологические и свои технические пробелы. Боголюбов указывает, что стиль игры Ласкера в Москве «был более солидным и научным, чем на нью-йоркском турнире». И вместе с тем не ослабела его неукротимая воля к победе, его страстное желание демонстрировать в каждой партии не торжество техники, а силу своей личности. Когда окончилась его партия с Рубинштейном, Ласкеру-победителю аплодировал – в нарушение правил – не только весь зал, но и сам побежденный. Почему? Потому, что, как и 10 лет тому назад, в партии с тем же Рубинштейном сумел он выиграть классически проведенный эндшпиль, выиграть так, что опять его противник не понял – почему же он проиграл?
Итак, ушедший вернулся? Такой вывод можно было бы сделать из этих трех послегаваннских турниров. Но вывод этот был бы не верен, и по той простой причине, что Ласкер не уходил: Гаванна была если не случайным, то во всяком случае изолированным эпизодом в его жизни, причину которого нужно искать не только в шахматных факторах. Он уже не был официальным чемпионом мира, можно было полагать, что теперь, в 1925 году. Капабланка, Алехин и Боголюбов играют не слабее Ласкера, но с ослепительной ясностью видели шахматисты всего мира, что шахматный путь Ласкера единственен и неповторим и славен до самого конца. До самого конца, ибо ни в ком не вызвало удивления то, что после 1925 года, после этих трех турниров, Ласкер словно закончил свою шахматную деятельность. Он жил в Германии, он опубликовал свой «Учебник шахматной игры» и другую, заново пересмотренную книгу – «Здравый смысл в шахматах», основой которой явились его лекции, прочитанные еще в 1895 году. Он занимался также математическими работами. Его жадный, ищущий все новых проблем интеллект заинтересовался той отраслью забав и развлечений, которая никогда до тех пор не привлекала внимания подлинно творческих умов. Он стал изучать так называемые интеллектуально-карточные игры и опубликовал в 1928 году свою любопытнейшую «Стратегию карточной игры», где он пытается, своеобразно синтезируя заимствованный из математики метод теории вероятности и методологию шахматной игры, внести элемент научного мышления в такие игры, как экарте, винт, поккер и т. д. Рекомендуемая им стратегия может быть и правильна, но настолько сложна, что вряд ли найдется хоть один карточный игрок, который сумел бы мобилизовать достаточно энергии, чтоб овладеть ею, и достаточно хладнокровия, чтобы следовать ей. Для самого Ласкера эта книга явилась, вероятно, не более как умственным спортом, но этот спорт в стиле Ласкера. Громадное расстояние на первый взгляд отделяет «Философию несовершенства» от «Стратегии карточной игры», но и та и другая работа показательны для характеристики этого неутомимого интеллекта, этого неустанного организатора мысли и воли.
Так проходит девять лет. Ласкеру уже шестьдесят шесть. И с удивлением узнает шахматная среда, что он согласился принять участие в цюрихском шахматном турнире в августе 1934 года. Чем это было вызвано? – «Мне были интересны и симпатичны новые шахматные искания и устремления», – ответил на этот вопрос сам Ласкер.
Знакомство с новыми шахматными устремлениями состоялось. Но для Ласкера это было драматическим знакомством. Правда, в первом туре он разгромил нынешнего чемпиона мира Макса Эйве в партии, проведенной с юношеским темпераментом и необычайной силой. Шахматисты всего мира с изумлением и восторгом комментировали эту партию, – неужели он никогда не ослабеет, этот Ласкер? – спрашивали друг друга участники турнира...
Но после первого тура было еще 14. Шестнадцать шахматистов состязались в Цюрихе, из них 7 гросмейстеров и 9 швейцарских национальных мастеров, сила игры которых сравнительно не велика. У 8 из них Ласкер выиграл, с 9-м сделал ничью. Но в шести партиях с гросмейстерами сделал он всего 2½ очка. А в общем набрал 10 очков при четырех проигрышах и окончил пятым, позади Алехина, Флора, Эйве, Боголюбова. Скрыть было нельзя: это был неуспех, подобного которому Ласкер не знал за всю-свою жизнь. Согнуло время и его. И думали те, кому была дорога репутация экс-чемпиона: зачем он снова сел за шахматный стол? Неужели мир увидит трагическое зрелище, Ласкера, цепляющегося за каждый новый турнир, как за иллюзорную возможность убегающего и невозвратимого успеха? Неужели станет он на эту печальную дорогу бесцветных, вымученных ничьих, случайных побед и сокрушительных поражений? Неужели не найдет он в себе мужества после этой первой неудачной попытки – отказаться от дальнейших? Неужели кончит он, как Стейниц, как Тарраш, как многие другие, и придется читать сухие сообщения – на одном из последних мест вновь оказался экс-чемпион, окончательно утерявший свою былую силу? Неужели и ему отравят шахматы старость? Где же воля и разум Ласкера? И когда стало известным, что Ласкер будет играть в московском турнире 1935 года, в сильнейшем турнире, где ринется в бой с лучшими западными мастерами молодой отряд советских шахматистов, о силе которых уже догадывались, – стало больно за Ласкера.
Несомненно, московский турнир был самым трудным, но и одним из наиболее триумфальных испытаний за все 47 лет шахматной жизни Ласкера. Советские шахматные круги констатировали, что он вышел моральным победителем турнира. Не в спортивном результате было дело; не в том, что он оказался на третьем месте, не проиграв ни одной партии в сильнейшем турнире, набрав 12½ очков, лишь на пол-очка отстав от Ботвинника и Флора. И не в том даже, что он вновь, – в третий раз, – опередил Капабланку, разгромив его в блистательной партии.
Московские партии Ласкера восхищали своей многогранностью. Отчаянная схватка с Капабланкой, в которой форсирует Ласкер победу бурной атакой, проведенной так, что у Капабланки не было времени вздохнуть. Гениальная ничья со Шпильманом, опаснейшим бойцом, который, имея в эндшпиле двумя пешками больше, думает, что нет в мире силы, могущей предотвратить его победу, – и видит вдруг с удивлением, что незаметными ходами Ласкер создал такое положение, при котором ему, Шпильману, нужно добиваться ничьей. Сложно аранжированная, изумляющая богатством идейного содержания партия с Богатырчуком, которую не выиграл Ласкер только потому, что, утомившись, сделал в финале один неточный ход, – выиграй он ее, она считалась бы неувядаемым образцом шахматного искусства. Дерзкая партия с Каном, ультра-психологическая партия – он ошеломляет молодого советского мастера рискованной комбинацией, жертвует ферзя, за ладью и коня и триумфально ведет партию к победе. Но и во всех остальных – пусть кончилось большинство из них в ничью, – все то же всегдашнее ласкеровское стремление: победить рутину, убить штамп, найти неведомое, заблуждаться – но мыслить, ошибаться – но творить. Ищущий разум, несгибаемая воля, могучее хладнокровие и неустанная пытливость, – таков Ласкер в Москве на шестьдесят седьмом году жизни, на 47-м году своей шахматной игры. Кто сказал, что в мире есть старость? – как бы спрашивает Ласкер. И вопрос этот прозвучал в столице самой молодой в мире страны.








