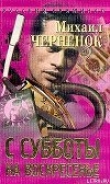Текст книги "При загадочных обстоятельствах. Шаманова Гарь"
Автор книги: Михаил Черненок
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава III
Серебровка была обычной деревней с двумя рядами добротных бревенчатых домов, выстроенных по сибирскому обычаю вдоль одной улицы. От других сел, будто оправдывая свое название, она отличалась, пожалуй, лишь особой ухоженностью. Крыши домов белели аккуратно пригнанным шифером, окна – в узорных, ярко выкрашенных наличниках. Огороженные палисадники буйно заросли цветниками и малинником, а по сторонам от проезжей дороги вдоль всей улицы зеленела – такая редкая в современных селах – придорожная мурава.
Смерть пасечника не вызвала у серебровцев особого удивления. Все, с кем пришлось беседовать Славе Голубеву, будто сговорившись, заявляли, что Репьеву на роду было написано умереть не своей смертью. Мнения расходились незначительно: одни считали, что Гриня должен был сгореть от водки, другие – замерзнуть по пьяному делу в сугробе.
В Серебровке Репьев появился пять лет назад, освободившись из тюрьмы. Где он отбывал наказание и за что, никто из серебровцев не знал. В колхозе начал работать шофером, – водительские права у него были, – затем пробовал трактористом, комбайнером, куда-то уезжал из Серебровки, но быстро вернулся и упросил бригадира Гвоздарева направить его на курсы пчеловодов. Проучившись зиму в Новосибирске, прошлой весной принял колхозную пасеку. С той поры поселился в пасечной избушке. В деревню появлялся лишь за водкой да продуктами. Пьяный любил разыгрывать стариков и «качнуть права» начальству. Трезвый был замкнутый, нелюдимый и как будто стеснялся своих пьяных выходок. Несмотря на «художества», пчелиное хозяйство Репьев вел добросовестно и колхозный мед не разбазаривал, хотя на пасеку частенько подкатывали горожане. Своим же колхозникам по распоряжению бригадира и председателя меду не жалел. Об отношениях Репьева с цыганами никто из серебровцев ничего толком не знал, за исключением того, что Гриня «крутил любовь» с Розой.
Поздно вечером Голубев, переговорив с добрым десятком сельчан, пришел в бригадную контору. В просторном коридоре с расставленными у стен стульями пожилая техничка мыла пол, а из кабинета бригадира сквозь неплотно прикрытую дверь слышалось редкое пощелкивание конторских счетов. Осторожно ступая по мокрым половицам, Голубев прошел в кабинет. Бригадир Гвоздарев, кивком головы указав на стул, подбил счетными костяшками итог и, повернувшись к Голубеву, сказал:
– Двести сорок один рубль тридцать четыре копейки надо было получить цыганам за прошедшую неделю.
– Такие деньги шутя не оставляют, – проговорил Голубев. – Витольд Михайлович, можно сейчас пригласить сюда кого-нибудь из тех, кто работал с цыганами?
– Попробуем… – Бригадир посмотрел на приоткрытую дверь: – Матрена Марковна!..
В кабинет заглянула техничка:
– Чо такое, Михалыч?..
– Сходи до Федора Степановича Половникова. Скажи, бригадир, мол, срочно в контору зовет.
– Прямо щас бежать?
– Прямо сейчас.
Когда техничка, кивнув головой, скрылась за дверью, Гвоздарев повернулся к Голубеву:
– Половников – кузнец наш. В прошлом году на пенсию вышел, а работу не бросает. По моему поручению он как бы шефствовал над цыганами.
– Что они хоть собою представляли, эти цыгане?
– Всего их десятка два, наверно, было. Мужчины в возрасте от тридцати до сорока. Один, правда, парень молодой, лет двадцати – двадцати двух. Красивый, на гитаре, что тебе настоящий артист, играет. Старуха годов под семьдесят да два пацаненка кудрявых, как барашки. Старшему Ромке лет около десяти, а другой года на три помладше. Ну, да вот Роза еще…
– Сам Козаченко как?..
– Мужик деловой. Слесарь первейший и порядок в таборе держит – будь здоров! Я как-то смехом предлагал ему стать моим заместителем по дисциплинарной части. Отпетых разгильдяев у меня в бригаде, конечно, нет, но, что греха таить, дисциплинка иной раз прихрамывает. Как ни крути ни верти, а в сельском хозяйстве невозможно наладить работу по производственному принципу, чтобы люди трудились от гудка до гудка…
Только-только Голубев и бригадир разговорились о житейских делах, тяжело протопав по коридору, в кабинет вошел кряжистый мужчина, пенсионный возраст которого выдавали, пожалуй, лишь исполосованный морщинами лоб да густая проседь в медно-рыжих волосах. Взглянув на Голубева, одетого в милицейскую форму, мужчина смял в руках кожаный картуз и, невнятно буркнув: «Добрывечер», словно изваяние, застыл у порога.
– Проходи, Федор Степанович, садись, – пригласил бригадир, показывая на стул возле своего стола. – Разговор к тебе есть.
– Дак, я ж ничего не знаю, – с белорусским акцентом сказал кузнец, примащиваясь у самой двери.
Гвоздарев чуть усмехнулся:
– Откуда тебе известно, о чем разговор пойдет?
Бронзовое лицо кузнеца покраснело. Потупясь, он словно растерялся и виновато кашлянул:
– Дак, по селу брехня пошла, будто цыгане на пасеке убийство совершили…
– И ты о цыганах ничего нам сказать не можешь?
– А чего я про них скажу?.. – Кузнец исподлобья взглянул на бригадира: – Без моего сказу все знаешь.
– Как они сегодня с работы ушли? – спросил Голубев.
Кузнец пожал плечами:
– Дак, кто ведает, как…
Бригадир нахмурился:
– Ты не был, что ли, с утра на работе?
– Был.
– Ну, а в чем дело, Федор Степанович? Почему откровенно говорить не хочешь?
– Я ж ничего особого не знаю.
– Тебя «особое» и не спрашивают. Вопрос конкретный ставится: как цыгане сегодня ушли с работы?
Кузнец помолчал, несколько раз опять кашлянул. Затем, как будто обдумывая каждое слово, медленно заговорил:
– К восьми утра все десятеро мужиков под главенствованием самого Миколая Миколаича Козаченки явились в мастерскую. Не успели перекурить перед началом работы, Торопуня на своем самосвале подкатил. Правую фару, видать, по лихости умудрился напрочь выхлестать…
– Это шофер наш, Тропынин фамилия, а прозвище за суетливость получил, – объяснил Голубеву бригадир.
Кузнец, будто подтверждая, кивнул головой и продолжил:
– С Торопуниной фарой занялся сам Козаченко. Быстро управился, и цыгане всем гамузом стали домкратить списанный комбайн, на котором в позапрошлом годе Андрюха Барабанов работал, чтоб годные колеса с него снять… Глядя по солнцу, часов в десять прибег Козаченкин старший мальчуган Ромка и во весь голос: «Батька! Кобылу украли!» Козаченко с сынишкой одним мигом – к табору. Совсем недолго прошло – опять Ромка прибег. Погорготал с цыганами по-своему, и вся компания цыганская, как наскипидаренная, к табору чуть не галопом подалась. Больше я их не видел.
– Что там стряслось? – удивленно спросил Гвоздарев.
– Дак, если б Ромка по-русски говорил, а то он по-цыгански: «Гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр»… Вот, когда первый раз про кобылу закричал, это я понял.
– Значит, цыгане около десяти утра бросили работу? – уточнил Голубев.
– Может, позднее. Надо Торопуню спросить – тот всегда при часах, а я по солнцу время определяю.
– Это при Тропынине произошло?
– Нет. Когда Торопуня, наладив фару, отъехал с Андрюхой Барабановым от мехмастерской, побольше часу миновало, как Ромка первый раз появился.
Бригадир, повернувшись к Голубеву, пояснил:
– Барабанов – наш механизатор. Поехал покупать личную автомашину «Лада». Вчера утром из райпотребсоюза звонили, что очередь его подошла. – И повернулся к кузнецу. – Значит, Андрей с Торопуней в райцентр уехал?
– Ну, – подтвердил кузнец.
Голубев, перехватив его настороженный взгляд, спросил:
– Цыгане не упоминали в разговоре пасечника Репьева?
– Этот раз нет.
– А раньше?
– Вчерашним утром пасечник в мех мастерскую заходил.
– Зачем?
– Чего-то с Козаченкой толковал.
– Что именно?
– Будто про тележное колесо разговор шел. Не знаю, на чем они столковались.
– Репьев что, предлагал колесо цыганам?
– Так как будто бы.
– А цыганочку Розу знаете?
– Знаю.
– Она не родня Козаченко?
– Сестра. Миколай Миколаич в строгости ее содержит, а Роза подолом так и крутит.
Кузнец заметно успокоился, однако лицо его при свете электрической лампочки по-прежнему казалось замкнутым, а глаза избегали встречаться со взглядом Голубева, словно что-то утаивали. Задав еще несколько вопросов и не получив в ответ на них ничего существенного, Голубев закончил разговор. Федор Степанович сразу повеселел, правой рукой сделал перед грудью замысловатое движение, будто перекрестился, и, поклонившись, поспешно вышел из кабинета.
– Верующий он, что ли? – посмотрев на бригадира, спросил Голубев.
– Есть за Федором Степановичем такая слабость. Чуть не всю библию наизусть помнит, церковные посты соблюдает строжайшим образом, праздники божественные все знает… – Гвоздарев усмехнулся: – Любопытная штука с религией получается. Взять, к примеру, того же Федора Степановича. Всю сознательную жизнь при Советской власти прожил, а в бога верит. Поддался в детстве религиозной мамаше. Даже семьи не завел, живет бобылем. Но мужик честный, труженик – на загляденье.
– Кажется, с цыганами он что-то мутит…
Бригадир задумался:
– Недоговорить Федор Степанович может, но соврать, это никогда!
– Чего же он боится?
– В свидетели, наверное, попасть не хочет. – Гвоздарев мельком взглянул на часы: – Ого! Придется вам заночевать у меня, гостиницы в Серебровке нет.
– Я обещал Кротову. Не беспокойтесь.
– До усадьбы участкового дальше, чем до моей.
– Разговор у меня с участковым.
– Это другое дело, – пробасил бригадир.
Серебровка, погруженная в осеннюю темень, тихо засыпала. В большом дому участкового светились только два окна. Когда Голубев, миновав просторную веранду, вошел в дом, Кротов, облаченный в вышитую крестиком рубаху-косоворотку, сидел в кухне за столом. Увидев Голубева, он отложил газету, снял очки, улыбнулся:
– Думал, уж не придете… Семья спит, сам угощать буду, – и, не суетясь, стал разогревать на электроплитке большую сковороду жареных окуней. – Вчера вечером на Потеряевом озере с удочкой полчаса посидел – хорошо окунь брался.
– Часто в Березовке бываете?
– Каждый день. Там центральная усадьба колхоза, вот и рабочий кабинет там же.
– Не надоедает взад-вперед ежедневно по два километра шагать?
– Это у меня как физзарядка. Если срочно нужно – служебный мотоцикл имеется, связь к моим услугам, – Кротов показал на телефонный аппарат, стоящий на тумбочке у кухонного буфета. – Так что, можно сказать, неудобств не испытываю от того, что не на центральной усадьбе живу. Серебровка – деревня лучше, чем Березовка.
– Каждый кулик свое болото хвалит, – с улыбкой сказал Голубев.
– Привык я здесь. – Кротов включил электрический самовар и неожиданно сменил тему разговора: – Какие успехи в раскрытии преступления?
– Неутешительные.
Голубев устало присел к столу и принялся пересказывать то, что узнал из разговоров с серебровцами. К концу его рассказа «подоспели» окуни. Ставя на стол скворчащую сковороду, Кротов, будто рассуждая сам с собою, заговорил:
– У Репьева имелась слабость в пьяном состоянии неразумные шутки шутить. То, бывало, начнет с нехорошим смешком кому-либо угрожать, что подожгет усадьбу. То какой-нибудь засидевшейся в гостях старухе скажет, что у нее старик только что в колодец упал. То всей деревне объявит, будто у пасеки фонтан нефти из земли вырвался и там начался пожар, который вот-вот докатится до Серебровки и спалит всю деревню. Словом, находясь в нетрезвом виде, Гриня баламутил народ основательно. Так вот, полагаю, не подшутил ли Репьев таким способом над цыганами? Серебровцы, понятно, его неразумные шутки давно раскусили и пропускали их мимо ушей: мели, мол, Емеля – твоя неделя! А цыгане по неведению могли принять за чистую монету…
Весь ужин Голубев и участковый, словно соревнуясь, высказывали друг другу самые различные версии, но ни одна из них не была убедительной. В конце концов оба решили, что утро вечера мудренее, и Кротов провел Голубева в отведенную ему для ночлега комнату.
Рядом с кроватью высилась вместительная этажерка, битком заставленная годовыми комплектами журнала «Советская милиция». У окна стоял письменный стол. На нем вразброс лежали: толстый «Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР», такой же пухлый том «Криминалистики», «Судебная медицина», «Гражданский кодекс РСФСР» со множеством бумажных закладок, старенький школьный учебник русского языка и небольшой сборник стихов Александра Плитченко.
Над столом, в простенке между окнами, висела застекленная большая фотография, на которой улыбающийся молодой генерал с пятью звездами в квадратных петлицах пожимал руку совсем юному красноармейцу, чем-то похожему на Кротова. Заметив, что Голубев внимательно рассматривает фотографию, Кротов с некоторой смущенностью заговорил:
– За неделю до начала Великой Отечественной войны сфотографировано. Командующий Западного особого военного округа поздравляет меня с выполнением боевой задачи по стрельбе на «отлично». Через сутки, как я отправил эту фотографию родителям, грянула война.
– С самого первого дня Отечественную начали? – с нескрываемым уважением посмотрев на Кротова, спросил Голубев.
– Так точно. И в последний день расписался на рейхстаге. Фашистских главарей из фюрербункера выкуривал, умерщвленных геббельсовских детишек своими глазами в кроватках видел. Жуткая картина, доложу вам…
– Трудно в первые дни войны было?
На глаза Кротова внезапно навернулись слезы, однако он быстро совладал с собой и заговорил лишь чуточку глуше, чем обычно:
– На войне всегда нелегко, товарищ Голубев, а для Западного округа Отечественная началась особенно трагически. Командование утеряло руководство войсками, связь была нарушена. Наш стрелковый полк, к примеру сказать, трижды попадал в окружение. Когда последний раз вырвались из кольца, в живых осталось всего около роты…
Голубев рассеянно взял со стола сборник стихов. Перелистнув несколько страничек, спросил:
– Поэзию любите?
– В райцентре недавно купил. Стихи о деревне понравились. Есть шутливые, но, прямо-таки, как про нашу Серебровку написаны. Вот послушайте…
Участковый, взяв у Голубева сборник, полистал его и с неумелой театральностью продекламировал:
Шумно в нашем сельсовете.
Ба! Знакомые все лица.
Разлетевшиеся дети
прилетели подкормиться…
Возвращая сборник, улыбнулся:
– Совершенно точно подмечено. По воскресным и праздничным дням молодежь из города в село, словно саранча, налетает. И мясо отсюда в город везут, и овощи разные. Родители только успевают разворачиваться.
– Из «прилетающих подкормиться» пасечник никому дорогу не перешел?
– Исключать такое, конечно, нельзя, только, доложу вам, в Серебровке отроду убийц не водилось… – Кротов, поджав губы, задумался и вдруг предложил: – Давайте отдохнем, товарищ Голубев, а то мы до утра будем ломать головы и все равно ничего путного не придумаем.
Заснул Голубев, как всегда, быстро, однако спал на редкость беспокойно. Поначалу снилась пляшущая молодая цыганка. Голубев силился разглядеть ее лицо, надеясь опознать Розу, но это никак не удавалось. Совершенно невероятным образом цыганка вдруг превратилась в этикетку одеколона «Кармен» и, взвившись над пасекой, исчезла в голубом небе. Затем приснился угрюмый цыган, разбрасывающий по Серебровке пустые пачки «Союза – Аполлона». Потом появился на низенькой лошадке, словно всадник без головы, пасечник Репьев. Зажав под мышкой старую берданку, он, как из автомата, расстреливал убегающих от него цыган, но выстрелы при этом почему-то походили на телефонные звонки. Тяжело трусившая под Репьевым лошадь вдруг резко взбрыкнула и, заржав мотоциклетным треском, скрылась в березовом колке. В ту же минуту из колка вышел медно-рыжий морщинистый кузнец Федор Степанович, держащий в одной руке голову пасечника, а в другой – новые кирзовые сапоги. Кузнеца сменила длинная колонна марширующих по Серебровке здоровенных парней со странными, размахивающими крыльями, рюкзаками. Один из парней вдруг показал Голубеву язык и голосом участкового Кротова громко сказал:
– Нашлась цыганская лошадь!..
Голубев открыл глаза – в дверях комнаты стоял одетый по форме Кротов.
– Нашлась, говорю, цыганская лошадь, – повторил он.
– Где?!. – вскакивая с постели, спросил Голубев.
– У железнодорожного разъезда Таежное, который на полпути от Серебровки к райцентру.
– Немедленно едем!
Голубев, торопясь, стал одеваться.
– Лошадь уже здесь, во дворе, стоит, – участковый, словно оправдываясь, принялся объяснять: – В шесть утра позвонил начальник станции с разъезда и заявил, что возле станционного дома со вчерашнего дня бродит какая-то пегая бесхозяйственная монголка, запряженная в телегу. Я на мотоцикл и – в Таежное. Как увидел лошадку, сразу признал – цыганская. Оставил у начальника мотоцикл и на подводе сюда…
Слушая Кротова, Голубев вместе с ним вышел на крыльцо. Лошадь, с натугой вытягивая из хомута шею, жадно срывала зубами растущую во дворе густую траву. Около нее, сутулясь, стоял бригадир Гвоздарев и хмуро разглядывал на телеге бурое пятно величиною с суповую тарелку. У передка телеги желтела кучка свежей соломы и стояла завязанная в хозяйственную сетку трехлитровая банка, наполненная чем-то золотистым. Поздоровавшись с бригадиром, Голубев спросил:
– Это и есть цыганская лошадь?
– Она самая, – ответил бригадир и, показывая на левое переднее колесо, басовито добавил: – А вот это от пасечника Репьева к цыганам перекочевало. Выходит, не ошибся я вчера, предполагая такое…
Голубев подошел к телеге. Бурое пятно на ней оказалось засохшей кровью.
– Было соломой прикрыто, – сказал Кротов и показал на трехлитровую банку в сетке. – Это вот тоже под соломой находилось.
– Что в банке?
– Натуральный мед.
– Больше ничего на телеге не было?
– Все сохранил в таком состоянии, как предъявили мне на разъезде.
– Пойду звонить прокурору, – сказал Голубев.
Прокурорский телефон на вызов не ответил. Не оказалось на месте и следователя Лимакина. Лишь начальник РОВДа подполковник Гладышев снял трубку после первого же гудка. Обстоятельно доложив ему о лошади, Голубев спросил:
– Что делать, товарищ подполковник? Прокурор со следователем на мои звонки не отвечают.
Гладышев у самой телефонной трубки, похоже, чиркнул спичкой. Видимо, прикуривал. Голубев представил, как насупились густые брови подполковника, и тут же услышал его приглушенный голос:
– Прокурор и следователь сейчас разбираются с цыганами. Вчера задержали Козаченко, ну и весь табор перед прокуратурой свои шатры раскинул…
– На чем цыгане добрались до райцентра?
– Говорят, на попутной машине. – Подполковник, похоже, затянулся папиросой. – Ты сейчас поручи оперативную работу Кротову, пусть он держит нас в курсе дела. А сам гони-ка цыганскую подводу сюда. Здесь решим, чем дальше заниматься.
Глава IV
Едва только Голубев, передав лошадь с телегой эксперту-криминалисту Семенову, зашел в свой кабинет, позвонила секретарша и предупредила, что в тринадцать ноль-ноль у подполковника Гладышева собираются все участники оперативной группы, выезжавшей на серебровскую пасеку.
Занявшись текущими делами, Голубев не заметил, как пролетело полдня. Когда он вошел в кабинет подполковника, там, кроме самого Гладышева, уже сидели прокурор, следователь Лимакин и судмедэксперт Борис Медников. Все четверо разговаривали, как догадался Голубев, о цыганах. Точнее, говорил Медников – остальные слушали.
Сразу за Голубевым появился и эксперт-криминалист Семенов со своей неизменной кожаной папкой. Подполковник взглянул на часы и вдруг улыбнулся:
– Товарищи! Минут через пятнадцать к нам подойдет… новый начальник уголовного розыска! Уверен, все мы с ним сработаемся. И опыт, и умение у него есть, дай бог столько каждому!
– Любопытно, кто?
– Скоро увидите, – подполковник обвел взглядом присутствующих. – Есть предложение подождать, чтобы… новый товарищ сразу включился в дело.
– Резонное предложение, – сказал Медников и, не ожидая согласия других участников опергруппы, продолжил прерванный рассказ. – Так вот, значит, дело так было. Один морской капитан нанял цыганскую бригаду покрасить пароход. Написал договор, выдал цыганам краску и ушел на берег. Возвращается – пароход сияет, будто новенький, а цыган-бригадир деньги за выполненную работу ждет. Пошел капитан проверять сделанное. Смотрит – другой борт совершенно не крашен. Спрашивает цыгана: «Какие ж вам деньги, дорогой товарищ? Вторую сторону ведь не покрасили». Цыган достает договор: «Ты сам, капитан, эту бумагу писал?» – «Сам». – «Так, читай, чего написал: мы, цыгане, с одной стороны, капитан парохода – с другой…»
Все засмеялись.
– Опять свежий анекдот где-то подхватил, – глядя на судмедэксперта, с улыбкой сказал подполковник.
– Из жизни случай, – флегматично возразил Медников. – Вчера на пасеке бригадир Гвоздарев рассказал. Он много лет на флоте проработал.
Дверь кабинета неожиданно распахнулась. Появившийся в ее проеме широкоплечий рослый капитан милиции проговорил:
– Прошу разрешения, товарищ подполковник.
– Разрешаю, – живо отозвался Гладышев и быстро обвел взглядом присутствующих. – Вот и Антон Игнатьевич Бирюков – новый начальник нашего уголовного розыска.
– Антон?!. – словно не веря своим глазам, воскликнул Голубев. – Наконец-то согласился вернуться к нам?
Капитан поздоровался. Прокурор, придержав его руку, спросил:
– Сколько, Антон Игнатьевич, проработал в областном угрозыске?
– Два с лишним года.
– Уезжал туда, помнится, старшим инспектором, а вернулся начальником розыска. Молодец, заметно по службе вырос.
Бирюков засмеялся:
– Генерал приказал вырасти.
– Ну, да ты не скромничай, не скромничай. Это ведь дело хорошее.
– Его больше месяца на повышение уговаривали, – с восторгом вставил Голубев.
Прокурор подмигнул ему:
– Не радуйся прежде времени. Неизвестно, как с новым начальником служба пойдет.
– У нас пойдет! Не первый год друг друга знаем, мы ведь уже работали вместе.
Судмедэксперт Медников, пожимая широкую ладонь Бирюкова, упрекнул:
– Впустую из-за тебя веселую историю рассказал. Только было смеяться начали, а тут ты пожаловал.
– Давай вместе посмеемся.
– Смех у нас невеселый, Антон Игнатьевич, – сказал подполковник. – В Серебровке вчера пасечника застрелили и вдобавок уже мертвому горло перерезали.
Бирюков, обойдя всех присутствующих в кабинете, сел возле стола подполковника в свободное кресло. Повернувшись к Гладышеву, спросил:
– Я помешал?..
– Напротив, ждали тебя, чтобы сразу в курс дела, как говорится, ввести, – подполковник посмотрел на прокурора. – Начнем, Семен Трофимович?
Прокурор повернулся к следователю Лимакину:
– Давай, Петре, рассказывай, что нам с тобой известно.
Лимакин открыл записную книжку. Изредка заглядывая в нее, стал подробно излагать фабулу дела. Утешительного в его рассказе было мало. Все опрошенные цыгане объясняли свой внезапный отъезд из Серебровки опасением, что их могут обвинить в убийстве пасечника, который накануне продал вожаку Козаченко за десять рублей колхозное колесо для телеги. Увидел убитого пасечника цыганенок Ромка, который якобы искал угнанную неизвестно кем лошадь и забежал на пасеку.
– В это можно бы поверить, но один факт настораживает… – Лимакин задумчиво помолчал. – Кто-то очень жестоко исхлестал бичом цыганочку Розу. Когда я предъявил ей обнаруженные в пасечной избушке туфли, она страшно перепугалась и очень наивно стала утверждать, будто туфли отобрал пасечник, а после этого ни с того ни с сего избил ее бичом. Вот тут-то и возникает «но»… Во-первых, по утверждению колхозников, Репьев подобной жестокостью не отличался, а во-вторых…
– Мы не обнаружили на пасеке никакого бича, – быстро вставил Голубев.
Лимакин утвердительно наклонил голову. Подполковник повернулся к судмедэксперту:
– Боря, что вскрытие трупа показало?
– Вот официальное заключение, – Медников протянул заполненный от руки стандартный бланк. – Коротко могу сказать так… Пасечник находился в стадии легкого алкогольного опьянения. Весь заряд пришелся в сердечную полость и застрял там. Смерть наступила вчера, между девятью и десятью часами утра, а горло перерезано, примерно, на полчаса позднее. Резаная рана создает впечатление, будто нанесена она опасной бритвой, однако исследование показывает, что горло перерезано остро заточенным ножом с широким и очень коротким лезвием.
Едва Медников замолчал, снова заговорил следователь:
– К сказанному Борисом могу добавить, что при наружном осмотре трупа мы с ним особое внимание уделили осмотру ступней Репьева. Они чисты, к ним ничего не прилипло. Значит, обувь снята уже с трупа.
– Это еще зачем?!. – быстро выпалил Голубев.
Лимакин развел руками и продолжил:
– Из груди Репьева извлечено двадцать восемь свинцовых дробин четвертого номера, что дает основание предполагать: выстрел произведен из гладкоствольного оружия небольшого калибра. Порох – охотничий, дымный. Обнаружены два газетных пыжа от заряда. На одном из них – часть фотоэтюда под названием «Тихий вечер». По фамилии фотокорреспондента удалось установить: оба пыжа сделаны из обрывка районной газеты за десятое августа этого года. Характер пороховых вкраплений в области ранения показывает: выстрелили в Репьева примерно с двух метров. При нормальной длине ружейного ствола дробь на таком расстоянии практически не рассеивается. Но в данном случае есть отклонения, и довольно заметные, от нормы. Можно предполагать, что стреляли из ружья с укороченным стволом…
– Из обреза? – удивился полковник.
– Да, что-то в этом роде.
Подполковник взглянул на эксперта-криминалиста. По излюбленной привычке всегда докладывать стоя, капитан Семенов поднялся. Положил на край стола папку, раскрыл ее, сухо-официально сказал:
– Предположения Лимакина поддерживаю.
– Повышенное рассеивание дроби возможно и при непропорционально большом, по сравнению с дробью, заряде пороха, – заметил подполковник.
– Правильно, – согласился Семенов. – Но в данном случае заряд был нормальный, а стреляли из ружья малого калибра. Такие ружья были распространены лет сорок тому назад и в простонародье назывались берданками.
– Что дает дактилоскопическая экспертиза?
Прежде чем ответить, криминалист вынул из папки несколько увеличенных фотоснимков и передал их Бирюкову. Тот просмотрел их и поднял взгляд на Семенова.
– На стакане, найденном в избушке, обнаружены отпечатки пальцев Репьева и Розы. И на фляге пасечник оставил свои следы, однако в березовый колок унес ее не Репьев. Кому принадлежат отпечатки ладоней, оставшиеся на ручках и на самой фляге, пока не установлено. Что же касается цыган, их отпечатков мы вообще не нашли. Только на сигаретной пачке «Союз – Аполлон» сохранился «палец» левой руки Козаченко. Эта пачка, впрочем, подобрана не на месте происшествия, а на бывшей стоянке табора.
– «Союз – Аполлон» здесь есть? – спросил Бирюков, показывая криминалисту снимок рассыпанных по полу окурков.
– Есть. Анализ слюны на фильтре показал, что курить сигарету мог тот же Козаченко. – Семенов сделал паузу. – На цыганской телеге обнаружена человеческая кровь второй группы. У Репьева была третья…
Наступило молчание. Бирюков с повышенным интересом рассматривал фотографии. Подполковник Гладышев, открыв лежащую на столе коробку «Казбека», закурил. Доставая из кармана пачку «Беломора», прокурор спросил:
– Не ранил ли Репьев своего убийцу?
– Чем, Семен Трофимович? – спросил следователь Лимакин. – На пасеке мы не обнаружили даже столового ножа.
– Ну, нож у пасечника был, – Бирюков отыскал снимок стола и указал на хорошо видные ломти нарезанного хлеба:
– Вот это, Петя, не топором нарублено. Кроме того, как можно жить на пасеке, не имея ножа?
Прокурор, разминая папиросу, поддержал:
– Конечно, нож у Репьева был. Вопрос – где он?
– А что Козаченко говорит насчет окурка, оставленного им на пасеке? – спросил подполковник Лимакина.
– Мы только сейчас об этом факте узнали, – вместо следователя ответил прокурор.
– Козаченко может заявить, что оставил окурок, когда покупал у пасечника колесо… – сказал Бирюков. – Какие-нибудь отпечатки следов на месте происшествия обнаружены?
– Трава там. Что в траве обнаружишь… – хмуро заметил Семенов, передавая Бирюкову снимок трехлитровой банки, наполненной медом: – Вот на банке есть отпечатки – и Репьева, и еще одного человека. Кто этот человек, устанавливаем.
Бирюков, просмотрев снимок, отложил его, взял другую фотографию, на переднем плане которой отчетливо просматривался след телеги, проехавшей по жнивью, а за реденькими березками темнела избушка пасечника.
– Это что, Петя?
– Следы… Судя по ним, вот от этого места к пасеке прошел человек, а потом вернулся назад. Убийца это или нет, мы не знаем. След можно было оставить и до и после убийства…
– Барс следов у пасеки не взял?
– Не взял. Время упущено.
Перебрав фотографии, Бирюков отыскал снимок засохшего кровяного пятна на цыганской телеге. Порассматривав его, обратился к Голубеву:
– Слава, обзвони больницы и фельдшерские пункты. Не обращался ли туда кто-либо с ножевым или огнестрельным ранением?
Голубев понятливо кивнул, а судмедэксперт усмехнулся:
– Вот так новая метла метет!.. Старается время не упустить, как Барс.
Бирюков нахмурился:
– Опасаюсь, Боря, что мы его уже упустили. Лошадь обнаружена на железнодорожном разъезде Таежное, где в сутки останавливается больше десятка электричек, идущих в оба направления. Преступник мог воспользоваться любой из них. – Посмотрел на прокурора: – Семен Трофимович, из цыган никто не исчез?
– Козаченко говорит, все на месте. Но мы ведь не знаем, сколько их было в действительности.
– А в колхозе сколько человек работало?
– Те, что работали, все в наличии.
– О лошади что говорят?
– «Кто-то угнал»… Цыганки в то время в палатках находились, не видели, а из мальчишек слова не вытянешь. – Прокурор помолчал. – Подозрительными кажутся и слова Розы. Мне она сказала, что спала в палатке, а другие цыганки говорят, будто Роза догнала табор на шоссе, когда цыгане «голосовали», останавливая попутные машины.
– Может, она просто отстала?
– Может быть, но что-то тут не то. Роза сильно запугана, без слез говорить не может.
После оперативного совещания в кабинете подполковника, кроме самого Гладышева, остались только прокурор и Бирюков. Все трое были невеселы. Посмотрев на Бирюкова, подполковник вздохнул:
– Видишь, Антон Игнатьевич, как приходится тебе вступать в новую должность. Будто нечистая сила подсунула это убийство! – И, словно стараясь приободрить нового начальника уголовного розыска, заговорил веселее: – С житьем тебе вопрос решен. Не трать времени, прямо сейчас иди в райисполком, там возьмешь ордер и ключ от квартиры в новом доме…
Бирюков ладонью откинул свалившуюся на лоб волнистую прядь волос:
– Квартира, Николай Сергеевич, от меня не уйдет, если с ней вопрос решен. Лучше я, не тратя времени, поеду в Серебровку. По-моему, ключ от преступления там надо искать.