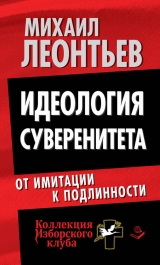
Текст книги "Идеология суверенитета. От имитации к подлинности"
Автор книги: Михаил Леонтьев
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Это – приговор Евросоюзу»
По мнению известного публициста Михаила Леонтьева, которое он выразил в интервью порталу KM.ru, Евросоюз поступил с Кипром «предельно садистски». «Нынешняя история с Кипром напоминает анекдот: «Я вчера спас девушку от изнасилования. Как? Уговорил», – заметил М. Леонтьев.
По словам публициста, то, что делают с Кипром, «это грязная, вонючая, но абсолютно корректная с юридической точки зрения операция, потому что Кипр никто в Евросоюз не тащил». «Они видели там свои преимущества, их никто не тащил вступать в определенные отношения с мировой финансовой системой, которая никому ничего не обещала. И никто Кипру не обязан. Евро – это не союз. С союзниками так не поступают. Это мочилово – грубое, асимметричное, но на которое они имеют формальное и реальное право, потому что они – хозяева. Они платят бабки, и они решают вопрос», – пояснил он.
«Я думаю, что серьезная вовлеченность Кипра в российские дела или России в кипрские не была последним аргументом в том, что с Кипром поступили предельно садистски. Кипрская экономика ни в чем не виновата. Кипр, будучи очень успешным государством, очень много вложил в Грецию, а Греция накрылась дефолтом. Этот дефолт был проплачен прямой эмиссией, и понятно, что это – немецкая эмиссия. Они не обязаны устраивать Кипру эмиссию, но это как бы нечестно. Киприоты пришли и сказали: «Ребята, вы чего делаете?! Вы им списали долги, вашим банкам проплатили, а мы?» А им говорят: «А мы вам ничего не обещали!» То есть Кипр накрылся на Греции. Конечно, у кипрской экономики есть проблемы, но они ничтожны по сравнению с тем, как его выставили. Но это – приговор Евросоюзу. Неважно, за что с Кипром так поступили: важно, что это – брак по расчету, а расчет больше не проходит. Поэтому этот брак будет рушиться. Я вообще подозреваю, что Евросоюз рухнет из-за выхода из него Германии», – заявил аналитик.
Что касается роли России в этой ситуации, то, считает Леонтьев, наша страна «помогла Кипру наполовину»: «Это прыжок на пять метров через десятиметровую пропасть. Рациональность этого действия мне недоступна: вы либо прыгаете, либо не прыгаете. Мы оказались задействованы за рамками нашей юрисдикции. Бог бы с ней, была бы она кипрской юрисдикцией, так ведь она не кипрская, а европейская. Мы свои деньги отдали не тому, кому надо, а теперь обижаемся, что они ведут себя неправильно. Но, ребята, кто же вас просил отдавать им деньги?..»
«Когда Путин говорит про суверенитет, то он говорит правильные мысли. Но суверенитет не ограничивается внутренней и военной политикой. Он и на экономику немножко распространяется, без экономики не бывает суверенитета. Для России это важный урок, но Россия теряет от экономической политики нашего финансового блока гораздо больше, чем от кипрских потерь. У нас на Кипре финансы, потому что в России невозможно работать. Почему там финансы государственных корпораций? Потому что государственная политика способствует тому, что в России работать нельзя. В России рефинансироваться нельзя. У нас нет нормального рынка, нормального кредита, ничего нет. У нас одна задача: надо выжать из экономики деньги и отдать их на Запад, потому что там эти деньги будут лежать, а здесь они будут плодить инфляцию. Деньги в экономике порождают инфляцию. А дыхание человека порождает грипп, поэтому человеку нужно заткнуть кляп в рот, чтобы он не дышал, и тогда у него не будет гриппа. Если ты человеку не даешь дышать, то у него точно не будет воспаления легких, а то, что он умрет, нас не касается. Это – финансовая стратегия нашего государства. Поэтому у нас государственные корпорации бегут на Кипр», – заключил Михаил Леонтьев.
КМ. ру, 27.03.2013
Примирение красных и белых уже состоялось
1 декабря в Ульяновске пройдет заседание Изборского клуба на тему «Примирение красных и белых и снятие противоречий между XIX и XX веком». Считается, что проект Изборского клуба создан для определения новой модели, которая, возможно, станет идеологической основой российской государственности. Почему проблема примирения красных и белых стала актуальна именно сейчас, почему за нее берутся эксперты клуба, а также как примирение возможно в рамках экономических моделей, в интервью Накануне. RU рассказал известный российский тележурналист, публицист Михаил Леонтьев.
Вопрос: – Михаил Владимирович, почему проблема примирения красных и белых вновь приобрела актуальность? И можно ли вообще их примирить? Далеко не все согласны, что это возможно.
Михаил Леонтьев: – На самом деле, это уже есть. Если мы возьмем Изборский клуб – это и есть красные и белые. Отмечу, что уже давно происходит деление не по линии красных и белых. Красные и белые примирялись много раз. Евразийцы были красно-белые, Сталин был красно-белым, начнем с этого, абсолютно красно-белый. У него были другие отдельные недостатки, но в этом смысле он очень синтетически воспринимал историю и доказал это.
Дело в том, что сейчас линия раздела проходит не по красным и белым, а по отношению к стране, грубо говоря, по геополитической ориентации. Отсюда существуют два параметра, по которым красные и белые легко примиряются.
Вопрос: – Какие это параметры?
Михаил Леонтьев: – Первое – это отношение к стране, то есть это патриотизм. Потому что красные и белые патриоты давно уже примирились. Это видно по митингам на Поклонной горе и так далее. И красные и белые предатели тоже уже давно и неплохо помирились. Вот посмотрите, для них главное предательство – это задача «слива» власти любой ценой, а власть и всевластие легитимное – это «слив» государственности. Она примиряет их между собой, вне зависимости от их мировоззрения, если у них оно вообще есть, кроме предательства.
Поэтому примирение красных и белых произошло и там, и там. Посмотрите на «болотные» митинги – они красно-белые. Это вообще не тот критерий, по которому что-то делится.
Второй параметр – это прорыв, это колоссальный рывок, который должна сделать Россия в развитии. Вот вокруг задачи как раз легко все это примиряется. Получается, что с одной стороны прорыв, с другой – война.
Вопрос: – Евгений Примаков в своей статье «Современная Россия и либерализм» пишет об актуальности для современной России темы соотношения государственных основ с либерализмом…
Михаил Леонтьев: – Очень правильная, сдержанная, по-примаковски сглаженная, весьма корректная статья.
Вопрос: – Можно ли соединить неолиберализм и подход, основанный на сильной роли государства в экономике? Или это упрощенное понимание проблемы?
Михаил Леонтьев: – Я не очень разделяю терминологию, которую употребил Примаков, но я понимаю, что он имел в виду. В чем прав Евгений Максимович? В том, что либеральный подход в экономике, безусловно, нужен. Рынок сам по себе либерален, просто у рынка есть очень четкие границы. Много раз говорилось о том, что раз и навсегда надо покончить с мифологией о роли государства в экономике. Это не имеет отношения к либерализму, монетаризму, это относится к нормальному здравому смыслу. Бизнес абсолютно идеален в своих естественных границах, за рамками он может очень мало. Бизнес не может ставить перед собой неконъюнктурные задачи. Если кто-то считает, что в экономике у государства нет неконъюнктурных задач, то, наверное, это ненормальный.
Потом, бизнес очень плохо выносит в определенных условиях, параметрах, обстоятельствах риски выше определенного уровня. Если есть какие-то проекты, даже экономически обоснованные, но очень длинные, и, таким образом, подверженные рискам внешней конъюнктуры, если эти риски очень большие, то русский бизнес их никогда, а западный – на сегодняшний момент на себя брать не будет.
Вопрос: – И что же, надо «поставить крест» на долгосрочных проектах?
Михаил Леонтьев: – Это не значит, что такие проекты не надо делать, это значит, что проблему рисков должно решать государство. Государство – стратег, государство может и должно ставить перед собой задачи, поставленные обществом. Ставить задачи неэкономические и неконъюнктурные и планировать эти задачи, добиваться их исполнения, а хозяйствовать должен бизнес. Государство не должно хозяйствовать, оно плохо это делает.
Вопрос: – Но многие с Вами поспорят по поводу того, насколько «эффективно» хозяйничают олигархи на приватизированных заводах.
Михаил Леонтьев: – Это не касается форм собственности, это форма управления. Государственная собственность может вполне управляться рыночно – если вы нанимаете управляющую компанию и по тем или иным соображениям не считаете нужным или целесообразным эту собственность продавать в настоящий момент. Тем более, если вы напрямую финансируете проект, вы не имеете права его продавать, потому что нельзя финансировать частный бизнес напрямую, это называется воровство.
Но проблема в том, что бизнес как идеальное хозяйствование разрушает государство как институт. Не царское дело торговать, царское дело – воевать. В широком смысле слова. В том числе и воевать в экономике, ставить стратегические задачи. Вот об этом идет речь. Это, в принципе, не противоречит тому, о чем пишет Примаков, просто он политкорректнее выражается.
Вопрос: – Тогда что, в Вашем понимании, Евгений Примаков называет неолиберализмом?
Михаил Леонтьев: – Неолиберализмом он называет либеральный фундаментализм. Не знаю, почему он «нео»? Но все равно, либеральный фундаментализм вообще отрицает государственное вмешательство. На самом деле, либеральный фундаментализм – это компрадорская колониальная идеология, насаждаемая мировыми действующими регуляторами в периферийных странах для того, чтобы вскрывать их рынки для экспансии и лишать их возможности не просто догоняющего, а опережающего развития. Это инструмент ассиметричной конкуренции со стороны лидеров. С целью сохранить и закрепить свое лидерство. Больше ничего за этим нет. Это вполне нормальная конкурентная практика – со стороны конкурента. Если вы на себя натягиваете методику конкурента, которая призвана не дать вам победить в конкуренции, то кто вы есть?
Вопрос: – Евгений Примаков также делает вывод, что России либерализм необходим, настоящий либерализм, и снижение роли государства в экономике возможно лишь в будущем, при совершенно других условиях. Но ведь для снижения роли государства эта самая роль хотя бы должна появиться…
Михаил Леонтьев: Это абсолютно верно. Что значит снижение? Если возвратиться к тому, что я сказал, то в рамках этих задач никакого снижения роли государства быть не может. Ну как может быть снижение в определении стратегии развития, в том числе экономического? Кроме государства, этого никто делать не может, не будет и не должен. С другой стороны, расширение роли государства может быть временным, в связи с тем, что задачи экономической реконструкции – индустриализации могут быть решены в настоящий момент только концентрацией государственных ресурсов. Это, конечно, сверхвмешательство, сверхучастие государства в экономике, когда вы не аккумулируете бюджетные средства. Что на это скажут мои партнеры из журнала «Эксперт», предположим? Они скажут, что нельзя изымать деньги из экономики для того, чтобы помещать в низкодоходные и рискованные активы. Они абсолютно правы в том, что, чем так использовать, лучше не изымать.
Вопрос: – А Вы с ними не согласны?
Михаил Леонтьев: – В отличие от них, мы считаем, что деньги из экономики надо изымать, их надо аккумулировать. В том числе и за счет продажи неких государственных компаний, может быть, добывающих, которые прекратили быть флагманами и инструментами проведения государственной политики в том числе. Они превратились в обузу, в структурную нагрузку на экономику. Может быть, эти очень большие средства надо аккумулировать, чтобы направленно пустить их на проекты развития, но потом в эти проекты инкорпорировать бизнес. Он с удовольствием будет инкорпорироваться в действующие проекты, гарантированные государством, потому что это снижение рисков и устойчивая и долгосрочная прибыль. Но сам на себя брать эти риски и задачи бизнес ставить перед собой не будет. Это абсурд. С этой точки зрения – да, конечно, сейчас нужно резкое увеличение роли государства, но не национализация, а нужно что-то создавать с нуля, а создавать может только государство.
Вот в этом наше различие между либералами-государственниками. Но не стоит забывать, что они тоже правы, по-своему, причем их правота на порядок лучше, чем то, что делают сейчас наши финансово-экономические власти.
Накануне. ру, 20.12.2012
Патриотизм и российская экономика
Альтернативой патриотизму является предательствоВ преддверии двадцатилетия принятия Конституции Российской Федерации в обществе вновь началась дискуссия о том, стоит ли внести поправки в Основной закон страны, отменяющие запрет на государственную идеологию. С этой темой связаны и поиски национальной идеи, которая смогла бы объединить наш народ. Высказывается мнение, что такой идеей мог бы стать патриотизм.
Свое мнение на этот счет порталу KM.RU высказал известный аналитик Михаил Леонтьев.
Я не слышал, что кто-то пытается ввести в Конституцию единую идеологию, потому что идеологии нет, ее не видно. Идеология – сложная вещь, тщательно разработанная, чрезвычайно обязывающая с интеллектуальной и политической точек зрения. На самом деле пытаются убрать запрет на идеологию и тем самым стимулировать власть и общество на ее поиск.
Что касается патриотизма, то с ним никаких вопросов нет. Путин говорил, что нашей идеологией должен быть патриотизм, но это не идеология, а критерий отношения к тем или иным политическим решениям. С этой точки зрения здесь спорить просто нельзя, потому что альтернативой патриотизму является предательство. Его можно назвать нейтральностью по отношению к государству, космополитизмом, но, по сути, когда речь идет о политических решениях, исходящих не из интересов страны, это и есть предательство по факту. Поэтому я не вижу здесь места для дискуссий. Наша власть все время предпринимает микрошаги в правильном направлении, но эти шаги настолько микроскопичны, что они не решают задачу. Представьте себе пропасть шириной десять метров. Так вот нельзя ее перепрыгнуть, прыгнув сначала на два метра, потом – на три, потом – на пять. Результат все равно один, пропасть в десять метров нельзя перепрыгивать в два прыжка. Но, с точки зрения общественного сознания, капля камень точит. Если мы посмотрим, от чего мы идем, то увидим серьезные изменения, накопленные в самосознании государства и общества.
Идеология России – это идеология победы и справедливостиУ нас все бы было в порядке, если бы не тяжелейшие проблемы с экономической политикой. Я боюсь, что все, что мы делаем во внешней политике, которая блестяща, будет ни о чем. Патриотизм состоит в том, чтобы прекратить абсолютно разрушительный, издевательский экономический курс, который зарывает экономику в землю, причем сознательно, с помощью простых макроэкономических параметров. Такую экономическую политику не проводит никто в мире. Мы дошли до того, что самым полезным действием в области экономики за всю историю новой России был дефолт. Не потому, что дефолт блестящ, а потому, что это единственное действие, которое шло поперек дегенерации.
Какой должна быть национальная идея России? Попытка ответить на это односложно свидетельствует об умственной отсталости. А если говорить не односложно, то я бы отметил такие моменты. Во-первых, Россия должна осознавать себя поликультурной имперской цивилизацией. Во-вторых, государство должно быть суперэффективным, способным победить любого противника.
Идеология России – это идеология победы и справедливости. Конечно, понятие справедливости очень разное, и его надо уточнить. Со своей точки зрения, одним из самых справедливых правителей в истории человечества был Чингисхан. Но для нас его справедливость сложноприменима, хотя мы являемся наследниками и этой традиции.
КМ. ру, 06.12.2013
II. Элита, народ и власть
Свобода и справедливость
Резкий рывок к ненюханной свободе, который наше общество проделало более 20 лет назад, привёл к тому, что мы этой «свободой» чуть не захлебнулись. Пришлось откачивать. Буквально.
Следствием этого рывка оказался острейший дефицит справедливости. И сколько бы известные, даже вполне многочисленные группы населения ни выходили на площади за «свободы», императивом и острейшим дефицитом для огромного большинства является именно справедливость.
Проблема в том, что эти понятия не ходят вместе, и не дай боже, чтобы они столкнулись. Наша задача – обеспечить ту степень свободы и ту степень справедливости, чтобы они не пошли друг с другом врукопашную, как это не раз бывало в нашей истории.
Определение понятийТрудно найти сегодня более популярный, а потому и более затасканный лозунг, чем «Свобода и справедливость». Мягко говоря, мало кто отдаёт себе отчёт, о чём, собственно, идёт речь. Прежде чем ответить на вопрос, как мы совместим эти во многом противоречащие друг другу понятия, неплохо было бы понимать, что мы имеем в виду, когда говорим о свободе, и что мы имеем в виду, когда говорим о справедливости. Потому что более растяжимо трактуемые понятия, наверное, вообще найти трудно.
Исторически лозунг свободы – лозунг буржуазных революций. Пассивная свобода, «свобода от…» – от принуждения, от лжи, от проклятого начальства – это свобода подчинённых.
«Свобода для…» – это свобода господина, право на власть. Собственно, именно так и выглядели буржуазные революции, когда имущее сословие привлекало к своим задачам – задачам овладения властью – неимущее сословие. Проще говоря, «верхам» и «низам» предлагались (и предлагаются по сей день) совершенно разные «свободы». Вспомните: «Свобода, равенство, братство». Особенно здесь прелестно – «братство», и как ярко оно проявилось за 300 лет истории буржуазной (то есть либеральной) демократии.
И заметьте: даже в этой демагогической триаде отсутствует понятие справедливости. Но без справедливости у нас в России ничего построить нельзя. Если не обеспечить понимаемый и принимаемый нашим народом уровень справедливости, никакой свободы не будет. Или таковая свобода станет – как это опять же не раз бывало в истории – инструментом самоликвидации.
Понятие справедливости очень разнообразно трактуется – и не только с точки зрения разных идеологий. Оно связано с архетипами народного мышления, которые воспроизводятся раз за разом, даже когда эти идеологии сменяют друг друга, о чём свидетельствует вся наша история. В современном западном понимании, собственно, как и традиционном западном, – справедливость есть закон. Что законно, то и справедливо. Но если вспомнить, например, самый ранний дошедший до нас памятник русской церковной литературы (конец XI века) «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, главная идея его в том, что благодать выше закона: «Ведь закон предтечей был и служителем благодати и истины, истина же и благодать – служитель будущего века, жизни нетленной». В законе оправдание, а в благодати спасение, пишет Илларион. То есть надо понимать так, что здесь «благодать» – это и есть высшая справедливость, божественная. И она выше любого закона.
И призывая к «верховенству закона», мы должны понимать, что закон этот должен быть основан на нашем историческом понимании справедливости. Иначе этот закон работать, уважаться и соблюдаться не будет, и мы будем по-прежнему повторять банальности о «правовом нигилизме» нашего народа. Дело здесь не в наследии коммунистической эпохи, а в более глубинных архетипах, с которыми невозможно и опасно не считаться. Русскому человеку, кроме материальных благ и утех, нужна благодать. А те, кому она не нужна, – они по определению не русские.
Экономическая свобода и экономическая справедливостьЧто касается политики и даже в большей степени экономики, это противоречие между справедливостью как равенством перед законом (либеральное «равенство возможностей») и нашим традиционным «по справедливости», который иногда понимается как «поровну» (в экстремальном варианте, если вспомнить замечательного Шарикова, – «отнять и поделить»), – это сущностное противоречие и, с другой стороны, сущностная возможность компромисса. И что бы ни пищали по этому поводу записные демократы, это противоречие, как и возможность его разрешения, находится в первую очередь в материальной плоскости – в экономике.
Экономическая свобода – это либеральная ценность. Это рынок. Без экономической свободы рынка не может быть, он лишён смысла. А без рынка не может быть эффективной экономики, – и мы это проходили.
Рынок – единственный эффективный и вообще достойный внимания способ организации хозяйствования в тех сферах, где возможна жёсткая конкуренция. Ещё раз повторим: государство не должно хозяйствовать там, где способен хозяйствовать рынок. При этом, во-первых, теперь уже слепому видно, что рынок не обеспечивает глобального саморегулирования: глобальное саморегулирование – это такой же миф, как глобальное планирование. Во-вторых, сам по себе рынок не может эффективно функционировать в отсутствие развитых внерыночных институтов.
Но даже внутри рынка существует понятие «рыночной справедливости», которое тоже связано с эффективностью: это равные возможности для игроков. Без этого понятия рынок тоже жить не может. И обеспечение этих равных возможностей – рутинная работа государства (защита конкуренции, антимонопольное законодательство, деловой климат, гарантии отношений собственности и пр.).
Ничего больше в рынке непосредственно с точки зрения «справедливости» придумать нельзя.








