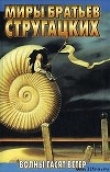Текст книги "Черный Ферзь"
Автор книги: Михаил Савеличев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Внезапно возникает острейшее желание помочиться. До рези в мочевом – следствие замерзших ног. Ему противопоказано мерзнуть. Что-то с метаболизмом, странный взбрык организма, реагирующего на малейшее переохлаждение невозможно обильным водоотделением.
А стоит ему во сне скинуть с себя одеяло, так тут же начинают одолевать мерзейшие кошмары, где он озабочен лишь одним – поиском подходящего туалета для отправления нужды, что растягивается в безумное путешествие по отвратительным склепам, перепачканным экскрементами, провонявшими мочой, и даже если, переборов брезгливость, он все же решает воспользоваться одним из унитазов, кишащим тошнотворными личинками, то подобное опорожнение мочевого не приносит облегчения, и он обречен до самого пробуждения скитаться в лабиринтах отбросов, вдыхая густую вонь мирового сортира.
– Самый подлый вопрос, который только можно задать, – а если они от нас именно этого и ожидали? – пальцы, теребящие загривок копхунда, вдруг с силой стискивают ухо большеголовой твари. Зверь разевает пасть в беззвучном вое, и откуда-то возникает предчувствие, что, не выдержав боли, он кинется в безумной ярости, но не на хозяина, а на жалкого, голого человека, которому не хватает мужества попроситься в туалет.
– Ожидали, что мы наткнемся на артефакт. Ожидали, что по идиотскому недомыслию полезем его исследовать. Ожидали, что не уничтожим ублюдков, а примем в семью. Ожидали, что никто из них не будет оставлен на планете, а будут рассеяны по вселенной, точно споры тлетворной болезни. Ожидали даже, черт возьми, что некоторые из них по иронии вселенской судьбы станут специалистами по спрямлению исторических путей!
– Он все еще человек, Exzellenz, – приходится робко добавить, потому что резь внизу живота становится непереносимой, но еще более непереносимо видеть Вандерера в состоянии глухого отчаяния.
Рука, терзающая ухо копхунда, замирает. Зверь вываливает длиннющий язык и тяжело дышит, пуская обильную слюну.
Вандерер начинает хихикать, и уши поначалу отказываются этому верить, ибо Вандерер нигде и никогда не был замечен не только смеющимся, но и просто с улыбкой, даже если за улыбку считать легкий изгиб уголков рта. Идеально прямой от природы разрез тонкогубого рта всегда оставался идеально прямым. Всегда.
А уж такова привилегия молекулярного хирурга, что он видел пользуемого в разных ситуациях – когда тот любил и когда ненавидел, когда убивал и когда спасал от смерти, когда лежал под ножами корабельного киберхирурга и когда вкушал амброзию с небожителями Мирового Света.
Черт побери, он даже видел, как этот наводящий на многих священный ужас человек мочился в гальюне, пристроившись у писсуара, и ни единой крамольной мысли не шевельнулось в голове, только – «Какая могучая струя!»
Вандерер хихикал мелким шкодником, отмочившив особенно омерзительную пакость.
– Что есть человек?! Хи-хи… Что есть человек?! Две точки, лежащие внутри сферы, могут разделены гораздо большим расстоянием, чем точки внутри и вне ее. Наш великий ненавистник необратимых поступков готов расширить пределы человечности до вселенских масштабов, хи-хи, вот только согласится на это сама вселенная, а?!
Позыв становится необоримым, а сдвинуться с места невозможно, будто ступни примерзли к палубе. Последний спазм и величайшее облегчение ужасающего унижения, точно во сне, где для опорожнения мочевого пузыря приходится использовать самые неподходящие места, залитые ярким светом и переполненные спешащими по своим делам людьми, которые лишь делают вид, что не замечают отливающую в уголке фигуру, но волны презрения окатывают вперемежку с тяжелым запахом застоявшейся урины.
Вот только в отличие от сна густо-оранжевая жидкость, растекаясь по палубе пенистыми ручьями, приносит настоящее, а не иллюзорное успокоение.
– Мелкий шкодник, – бурчит Вандерер.
Совершенно непонятным и неуловимым способом он оказывается впереди, во весь рост – худой, нескладный, в невообразимом балахоне, висящем на нем, как на вешалке, с огромным черепом и огромными ушами, с таким ледяным вниманием рассматривающим все подробности физиологического отправления, что хочется даже не отвернуться, а – завыть, завыть от отчаянного унижения.
– Мелкий шкодник, – огромные башмаки остаются на месте даже тогда, когда бурные потоки добираются до них и растекаются вокруг нечистым озерцом.
Копхунд, вставший позади хозяина неодолимой преградой, тянется носом к башмакам, нюхает, становясь похожим на крупную собаку, если бы не круглые золотистые глаза, что с почти человеческим презрением разглядывают провинившегося.
Рука с узловатыми пальцами профессионального палача-душителя тянется к карману, несомненно отяжеленному любимой многозарядной смертью, и стыд волшебной алхимической реакцией превращается в панический страх, который костистой хваткой стискивает низ живота. Струя замирает мучительной огненной пробкой, но что такое боль по сравнению с ужасом созерцания неумолимого конца?!
Многозарядная смерть черным оком гипнотизирует, завораживает, а глухой голос наполняет сжатую до размеров обделавшегося ничтожества вселенную почти Господним повелением:
– Встань и иди! Встань и иди! И скажи бомбе, что если она хочет взрыва, то запал к ней у меня! Пусть придет, тогда и рассудим!
– Господин крюс кафер! Господин крюс кафер!
Черная дыра почти неминуемой смерти гипнотизирует, не позволяя сдвинуться с места, но лицо Вандерера внезапно обвисло, обрюзгло, поплыло разогретым парафином. Глаза сгнили, превратившись из мерзлых осколков космического льда в кишащие червями язвы.
– Гос-с-с-с-сподин… крюс-с-с-с… кафер-с-с-с-с…
Ужасно… Чудовищно… В голове набухает кровавый раскаленный пузырь – мозговая эмболия, сообщает равнодушный голос, вероятность – ноль ноль ноль ноль… Ошибка комплементации – в пределах статистического шума… Симптоматика – девиантное поведение… Прогноз – негативный… негативный… негативный…
– Вс-с-с-с-стань и идитес-с-с-с-с… гос-с-с-с-сподин… крюс-с-с-с… кафер-с-с-с-с…
Мир чудовищной метрики порождает чудовищные души. Двумерное дифференцируемое неориентируемое многообразие, компактное и без края, а значит – без дуализма добра и зла, лишенное двусторонней геометрии души, что не нуждается в односторонней «сукрутине в две четверти», которую Высокая Теория Прививания склеивает из светлой человеческой стороны, спасая дух от вакханалии нравственных проблем, но порождая неодолимые краевые эффекты, когда податель сей индульгенции воспитания заведомо действует от имени и во благо Человечества.
Отсюда не вырваться и не убежать даже молекулярному хирургу, творившему по неведению то, что обычно подлежит по закону милосердия и гуманизма вечному погружению в черную дыру тайны личности. Разве не в последнюю очередь этот подленький якорек НЕ удерживает нас от свершения отвратительных делишек?! Какие бы преступления мы не совершили во имя разума и просвещения, благодарное Человечество заботливо укроет нас самих от мук совести, ибо неведение того, что творим, только и движет нас вперед, вперед, вперед.
Никто не придет и не скажет, что молекулярный хирург Парсифаль напрасно искал Грааль превращения человека воспитанного в сверхчеловека, копаясь в генетических наслоениях точно археолог, поставивший целью всей своей (и не только своей, ха) жизни отыскать легендарный город и тем самым научно превратить полусказочный эпос в слегка приукрашенный отчет о реальных событиях.
Разве может хоть кто-то заявить, что благороднейшая цель, имеющая к тому же прочный научный фундамент, не оправдывает средства ее достижения, даже если эти средства – сопливые, плачущие, ползающие, гадящие отбросы генетических экс(пери)(кре)ментов?
Или кто-то осмелится ткнуть в него пальцем лишь за то, что Высокая Теория Прививания не позволила ему весь этот генетический хлам, всю эту свору эволюционного мусора, цирк уродов, наглядно демонстрирующих – из какого сора природа ваяет видовые шедевры, отправлять в аннигиляционное ничто?
Разве прозябание в темных катакомбах хуже, чем смерть? Разве возня в собственных нечистотах и пожирание себе подобных – не гуманнее ослепительной вспышки в жерле портативного уничтожителя? Жизнь не требует оправданий и привходящих условий. Она – самоценна по своей сути. Вот базовый постулат Высокой Теории Прививания.
Как же их мутило, когда они пришли к нему! Рыцари плаща и кинжала оказались слабоваты для того, чтобы принимать жизнь во всех ее проявлениях, даже если она создана таким нелепым демиургом, как он.
Анацефалы, полурыбы, мохнатые, хвостатые, слепые и многоглазые, безрукие и безногие, бесформенные куски мяса с отверстиями для пищи и испражнений, покрытые чешуей и присосками, лишайниками врастающие в малейшие трещины, извергая тучи спор, заживо пожирающих других уродов по несчастью.
Черновик эволюции, пропись, где еще неумелый творец тщится повторить неумелой рукой типографский образец алфавита с завитушками, ошибаясь, перечеркивая, разбрызгивая чернила, но с каждым разом приближаясь в недостижимому образцу.
Разве можно обвинять природу в том, что она щедро извлекала из небытия сонмы отвратных чудовищ, нащупывая единственно правильный путь к человеку разумному, которому и вручила полномочия вершить управляемую эволюцию, эволюцию, укорененную в разуме, а не в примитивном желании жрать и размножаться?
– Никогда не думал, что катаклизм окажется лысым человеком с оттопыренными ушами, – тогда он еще не утратил способность шутить, разглядывая бритвенный разрез рта Вандерера. Даже наоборот – так мог шутить только тот, кто точно знал, что бог – измышление для слабаков. – Естественная природа мельчает на выдумки, не находите? Чтобы выбраться из тупика рептилий, природе понадобился гигантский метеорит, а чтобы предотвратить появление хомо супер – всего лишь чиновник.
Вандерер разглядывал его и даже не моргал. Пожалуй, это больше всего производило впечатление – круглые, неморгающие глаза. Словно пуговицы, пришитые к лицу куклы. Словно кусочки льда, вставленные в вылепленную из снега фигуру.
Только потом молекулярный хирург сообразил, что ему оказали невиданную честь, потому что никакой метеорит, комета, ледниковый период не могли сравниться с той разрушительной силой, что концентрировал в себе железный старец.
– Вы не задали главный вопрос, Парсифаль, – вот что тогда сказал Вандерер.
– Какой же? – он сухо сглотнул, позволив себе проигнорировать вежливое обращение к воплощенному катаклизму, который обрушился на слабые всходы новых эволюционных дерев, обещавшие дать обильные плоды, но сейчас оказавшиеся бессильными против напалма, выжигающего подвалы и лаборатории.
Дом на высоком берегу, где внизу извивалась узкая речушка, мутная от песка, какое-то время крепился, стараясь удержать внутри полымя, отчаянно всасывая ледяную артезианскую воду и извергая ее на плотные тучи огня. Но вот стены не выдержали напора, вздулись безобразными пузырями, покрылись бубонными пятнами пожирающей изнутри чумы воздаяния за вкушение плода познания, и оглушительно лопнули, выпустив фейерверк искр.
Смоляной дым лизнул брюхо висящей низко краюхи ликвидационной команды, та дернулась и неохотно уступила место вырастающим в безоблачное небо столбам, похожим на оплывшие кресты.
– Какой же? – повторил он, а точнее – не повторил, а просто прокатилось во внезапно возникшей внутри пустоте эхо необязательного вопроса и вырвалось наружу, шевельнув потрескавшиеся от жара губы.
Серебристые трубки потянулись вслед за краюхой, люди медленно отступали от пожарища, а на их защитных костюмах плясали багровые блики. Ветер взметнул сноп искр, щедро бросил на высохшую трава, и та занялась множеством крохотных огоньков, жадно пожирающих сухостой, оставляя после себя черные проплешины.
Шальные брызги пожара долетели и до них, но Вандерер даже не шевельнулся от укусов жертвенного огня. Он походил на инквизитора, приговорившего к сожжению рыжеволосую красотку-ведьму, и теперь внимательно наблюдающий за ее корчами, за тем, как очистительный жар слизывает с похотливого тела оболочку греховной плоти, высвобождая рвущуюся к небу вместе с жутким воем агонии бессмертную душу.
Тогда ему на какое-то мгновение показалось, что эта облаченная в аспидный шелк фигура воздаяния ждет знамения, напряженно вглядываясь в буйство пожара, которое насиловало, рвало в клочья, пожирало бесстыдно открытые чужому взору потаенные уголки сераля, где шлюха-эволюция похотливо соединялась в запретной связи со своим же порождением, и тут же отрыгивало безобразную блевотину – предвестницу грядущего пепелища.
Костлявые пальцы сдавили плечо. Стиснули так, что захотелось взвыть от боли, но вбитый в подкорку инстинкт врача заставлял предположить худшее – что чернеющая рядом глыба наконец-то дала трещину, что мотор, давно работающий на сверхпроводимости в условиях сверхнизких температур, где даже душа переливается точно гелий – без малейшего трения совести, внезапно дал крохотный сбой, от чего глыба пошатнулась, накренилась, и если бы не молекулярный хирург…
Игривость воображения всегда являлась его слабым местом. Разве что-то могло разладиться в механизме, на плечах которого возлежала ответственность за небесную твердь, которую он, словно атлант, обречен держать до самого конца, ибо не находилось рядом Геркулеса, в чьи могучие руки он мог бы ее передать – пусть ненадолго, на чуть-чуть, на крохотную долю мгновения…
Продолжая давить на ключицу, умело управляя вспышками мучительной боли, Вандерер склонился к его уху и прошептал вопрос на заданный вопрос.
Распухшее, багровое солнце садилось за горизонт. Испятнанное пожарищем небо приобретало глубокий оттенок синевы, и ветер тщился разорвать в клочья плотные маслянистые клубы, что расплывались по поверхности сумерек, сажей замазывая первые звезды.
– Что же мне теперь делать? – растерянно спросил он.
– У меня есть для вас работа, – сказал тогда Вандерер. Достал откуда-то странную тонкую палочку, набитую какой-то высушенной травой, сунул одним концом в рот, а другой запалил, чудом добыв огонь одним щелчком пальцев. Вдохнул дым, задержал дыхание, выпустил из ноздрей.
– Работа? – растерянно переспросил он. Тогда он первый раз увидел курящего человека и это поразило его, пожалуй, не меньше, чем уничтожение дела всей жизни.
Поразительно. Но Вандерер всегда умел делать поражающие воображение вещи. Словно умелый трюкач, он извлекал из запасников все новые и новые фокусы, сбивал с толку, путал следы.
– Вы должны стать другом, Парсифаль, – стряхнул пепел с сигареты Вандерер.
Незаметно подкралась ночь. Тускло светились останки дома, тускло светился огонек сигареты. И ему вдруг показалось, что не было никакой ликвидационной команды, не было никакого пожара, а был лишь этот вот костлявый человек с оттопыренными ушами, нелепый и страшный в своем аспидном балахоне, который просто подошел к его жизни, скрутил из нее травяную палочку и задумчиво скурил до самого основания, пока тлеющий огонек не обжег губы.
– Вы должны стать другом, Парсифаль, одному… ну, скажем так, человеку. Лучшим другом. Близким другом.
– Разве можно стать другом по приказу? – он перешагнул ограждение и подошел к пепелищу. Поворошил носком ботинка головешки.
– Стать другом можно по чему угодно, – в голосе Вандерера почудился сарказм.
– Что же вы тогда понимаете под этим словом? – строительный белок дома коагулировал и вонял сгоревшей яичницей. За ограждение запах не проникал, но здесь вонь залепляла ноздри.
– Все просто, Парсифаль. Быть другом – это значит убить на мгновение раньше, чем он убьет вас.
Глава седьмая. ФУСС
Теперь она почти не стеснялась Свордена Ферца. Впрочем, во время их совместных походов на море он все равно старался смотреть в другую сторону, пока та плескалась в заливе и удостаивал девочку вниманием лишь когда она выходила из воды. При этом ее пепельные волосы чудом тут же высыхали, облачая наготу в пушистое платье почти до щиколоток. Она представлялась ему русалкой, казалось – взгляни невзначай на ее водные забавы и непременно увидишь рыбий хвост.
Хотя, можно сказать, он все равно лукавил. Усевшись на каменистом пляже, закрыв глаза, прислушиваясь к завыванию ветра в лабиринте узких, острых, потемневших от непогоды и времени остовов странных сооружений, любые намеки на предназначение которых безжалостно сожрало время, он вылавливал в симфонии пустынного берега еле слышный шелест ее одежды, осторожные шлепки босых ног по голышам, терпеливо дожидаясь момента соединения холодного арктического моря и теплого человеческого тела. И дождавшись, он слегка приоткрывал глаза – совсем чуть-чуть, когда узкий просвет между век и завеса ресниц превращали суровый пейзаж с тоненькой фигуркой в пастель, нарисованную профессиональной рукой художника.
Свордену Ферцу даже казалось, что он узнает автора этой картины, которая, будь она нарисована, пробирала до дрожи ледяной суровостью, пропитавшей берег, море, скалы, одинокий айсберг, давным-давно вынесенный штормом на отмель.
Но вот странно, на множестве пейзажей, развешанных в доме, он ни разу не видел изображения моря, только лес, поселок, крошечный садик, разбитый у самого порога, заброшенные дороги, некогда клинками рассекавшие лесную чащу, а теперь медленно и неохотно прорастающие подлеском.
Однако стоило девочке дойти по мелководью до глубины, где свинцовый отблеск воды обретал особенную тусклость, и нырнуть в пучину, населенную лишь водорослями, как Сворден Ферц откидывался на спину, вытягивал ноги и, заложив руки за голову, разглядывал плотную пелену низкого неба.
Странно, но нависавшая чуть ли не над головой упругая твердь не создавала ощущение чего-то давящего на темя и плечи, какое порой испытываешь в замкнутом пространстве. Чудилась за ней бездонная пустота, которая, не прикрой ее эфемерный фирмамент облаков, непременно вызвала бы головокружение и тошноту. Некий большеголовый друг сказал бы, что дыру заклеили от таких как ты, а не от таких, как я…
Ледяная вода плеснулась на живот, от неожиданности Сворден Ферц чуть не заорал, вскочил на ноги и огляделся по сторонам, протирая кулаками заспанные глаза. Надо же, умудрился задремать! На ветру, на стылых камнях! Переливчатый смешок доносился со всех сторон – его окружили полупрозрачные, похожие на мыльные пузыри фигурки большеротой чертовки с развевающимися волосами. Попахивало нашатырем.
– Я вот тебе! – добродушно буркнул Сворден Ферц, усаживаясь обратно на нагретые телом камни. Малышка махала ему из воды. Он погрозил ей кулаком, и та опять скрылась в пучине. Изумрудно мелькнул рыбий хвост.
И словно в ответ на его угрозу, по камням прокатилась волна преображения – медленно, величаво, упруго, словно и впрямь морская волна, наступающая на ссохшийся от жажды берег, в чьей растрескавшейся утробе дремали закованные в морщинистую твердь семена растений и животных.
Ее касание серых голышей взывало к жизни буйство красок, чье безумное великолепие казалось невозможным в суровом арктическом царстве. Еле заметные клочки бурого мха, окаймлявшие принесенные ледником глыбы, на глазах разрастались, насыщались ядовитой яркостью тропиков, унылые сочленения жестких кустарников, дребезжащих под ударами ветра с металлическим привкусом биомеханических созданий, вдруг украсились нежными изумрудами лепестков, а их лязг в одно мгновение сменился на теплый шелест.
Как бы в ответ на воцарившее безобразие далеко-далеко взметнулись ввысь тонкие хлысты, похожие отсюда на случайные царапины на только что нарисованной картине, если бы не их подрагивания и раскачивания из стороны в сторону, точно возникшие усы теребил могучий ветер, хотя трудно представить себе столь грозные, почти тектонические сдвиги в атмосфере, способные поколебать колоссальные сооружения.
Однако Малышка никакого внимания на какие-то там усы не обратила, изображая теперь из себя игривый морской народец, обожающий сопровождать белесые туши дасбутов, выпрыгивая из воды, а затем вновь вбуравливаясь в тяжелую просоленую толщу. Мертвяки обожают охотиться на беззаботных созданий, чья веселость настолько поглощает их самих, что они нисколько не расстраиваются по поводу судьбы сотоварищей, чьи искалеченные, изодранные, распластанные пулями, гарпунами тела усеивают поверхность вод, окрашивая гребни волн в зловещий бурый цвет.
Сворден Ферц подобрал из-под ног голыш, волей Малышки обретший синеватую прозрачность, приставил к глазу и обозрел расстилавшийся перед ним мир. Пережив чудо трансформации, камень, тем не менее, упрямо пропускал сквозь холодную, шершавую толщу вид все того же безжизненного берега, унылый айсберг, стылый, испятнанный шугой океан.
Наконец, Малышке надоело плескаться в воде, она вихрем взметнулась над свинцовой поверхностью, сделала какой-то невероятный кульбит, коснулась кончиками пальцев ног плотной шкуры ледяного океана и побежала к берегу, подгоняемая в спину ветром, спиралью завертывающий вокруг нагого тельца струящийся кокон пепельных волос.
Рядом со Сворденом Ферцем она остановилась, замерла, затем удвоилась, утроилась, учетверилась, окружив его хороводом своих разноцветных копий, и сама встав меж ними – замерев и плохо сдерживая смех. Естественно, не выдержав такого сгущения нашатыря, Сворден Ферц тут же принялся оглушительно чихать, заглушая шум прибоя, свист ветра и прочую природную какофонию.
Малышка не выдержала, прыснула в ладошку, но все же смилостивилась и рассеяла фантомы одним движением пальчика. Затем присела перед Сворденом Ферцем, чье лицо от мучительного чиханья побагровело, глаза слезились, нос распух, и заявила:
– Ты слишком часто сюда приходишь!
Сворден Ферц понимал, что неожиданный аллергический приступ – дело рук Малышки, а точнее – ее эмоционального состояния. Он никогда не видел, чтобы девчонка огорчалась, злилась, обижалась – на ее лице всегда царили лукавство и улыбка, да и трудно себе представить, будто этот невероятно широкий рот мог сложиться в какую-нибудь недовольную ижицу. Ее губам иначе не хватило на лице места, кроме как растягиваться от одного лопоухого уха до другого.
То, что спасло ребенка в здешних нечеловеческих условиях, скорее всего не могло выражать свои желания через мимику, выражение глаз Малышки, как не могло обозначить свое присутствие иначе, чем через колоссальные усы, возникавшие ниоткуда и никуда пропадавшие. Каналами общения с чужаками для них оставались слова и дела Малышки.
Вот и сейчас Свордену Ферцу ясно дали понять – его присутствие утомило мало склонных к гостеприимству хозяев, а потому ему пора возвращаться. Конечно, не навсегда, ведь Малышка обожала болтать, спрашивать, играть, но на достаточное время, пока Малышка будет в одиночестве носиться по берегу, плескаться в океане или сидеть на самой границе леса, размышляя с помощью веток и камней – а что же он такое и что скрывается за поворотом, в глубине лога?
– Я сейчас уйду, – пообещал Сворден Ферц раскачивающимся вдалеке усам.
Малышка скорчилась рядышком, обхватив длинными руками коленки. Волосы скрывали ее почти всю, но по голой коже предплечий, голеней, сплошь украшенных безобразными шрамами, можно было предположить во что превратилось остальное тело прирученного неведомыми чудищами дитя человеческого. Окружающий ее мир безжалостно жевал попавшего в пасть вечной зимы крошечного младенца, пока не исторг из уст своих таким, каким он только и мог здесь существовать.
– Меня разорвали пополам, – вдруг призналась Малышка и придвинулась еще ближе, отчего Сворден Ферц еще сильнее ощутил исходящий от нее жар. – Одна половина меня не хочет, чтобы ты уходил, а другая – хочет. Очень хочет.
Ему захотелось по-отечески приобнять Малышку, но он помнил – не стоит и пальцем касаться раскаленного, как утюг, тела. Когда-то он совершил подобную ошибку, всего лишь потрепав дитя по угловатому плечику, после чего Малышка внезапно встала и ушла, не говоря не слова, оставив его одного на берегу отчаянно дуть на обожженную ладонь. Потом она еще долго куксилась, прячась где-то поблизости и наблюдая как он ждет ее, отчаянно растирая и разминая промерзшие члены.
Его рука замерла в воздуха, отдавая дань охватившему искушению, но горячая волна окатила его с ног до головы, расползлась вокруг них правильным кругом истаявшего снега, и Сворден Ферц понял – время истекло. Он встал, потянулся и принялся одеваться.
– Что это там? – вдруг спросила Малышка. Она не повернулась к нему, но Сворден Ферц понял, о чем спрашивает девочка.
Хм, когда-то подобное должно случиться. Или это все-таки не она, а те, кто выходил упавшего из-за предела неба младенца? Впрочем, вряд ли. Какое им дело до различий в человеческой анатомии! Взросление, созревание… Какую бы вивисекцию не произвели негуманоидные гуманисты в своих таинственных пещерах, заполненных лабиринтами зеркал, они сохранили в подопечной чересчур много человеческого. Или они всего лишь не смогли разглядеть в ней этого человеческого – трансцендентности их божественному сознанию?
– Мы потом поговорим, – торопливо, почти трусовато сказал Сворден Ферц.
Малышка не настаивает, а только спрашивает:
– Пока тебя не будет, сюда никто не придет?
Уж на это он может ответить совершенно точно:
– Никто.
Она провожает его до порога леса. Здесь Малышка останавливается:
– У меня много вопросов. Когда тебя не было, я брала камни и ветки, и ответы появлялись у меня в голове. Но чем больше я разговариваю с тобой, тем меньше получаю ответов. Я думала ты ответишь на те вопросы, на которые не могут ответить ветки и камни. Но на самом деле ты поедаешь ответы! Вот так! – Малышка вдруг раскинула руки в стороны, запрокинула назад голову, широко открыла рот, став похожей на птенца, требующего корма.
Порыв ветра внезапно подхватил копну ее волос, разметал, вздыбил, впервые открыв взгляду Свордена Ферца то, во что превратили когда-то человеческое тело неведомые чудища-гуманисты. Невольно хотелось отвести глаза, но он смотрел и смотрел, не отрываясь, не моргая, не в силах сообразить – какие же чувства вызывает в нем то, что сотворили с Малышкой.
Если это и являлось милосердием (хотя, есть ли у них сердце?!), то что же тогда для них бессердечие?! Где проложена грань между жизнью и спасением? А ведь они тоже в каком-то смысле спрямляли исторический путь человека, точнее – его эволюционный путь, что вписал хомо сапиенс в нишу его существования, но увы – почти не приспособил выживать в чужих мирах. Спрямляли не во имя каких-то собственных целей, идеалов, ценностей, а подчиняясь развитому моральному инстинкту, который пока не угас в них вместе с желанием осваивать и преобразовывать окружающий мир. Так человек воспитанный придет на помощь страждущему, не слишком задумываясь над сутью его страданий, но целиком сообразуясь с теми стандартными формами морали, что требуют от него: «Сделай и другому то, что сделал бы и себе».
Каждый раз, когда Сворден Ферц уходил с берега, то погружаясь в густую тень деревьев, он оглядывался и всегда заставал одну и ту же картину – Малышка, стоя на коленях, смотрела ему вслед, длинными, угловатыми, мосластыми руками перебирая разложенные перед ней камни и ветки, а у него почему-то при этом возникало тоскливое ощущение, что однажды он все-таки не вернется…
Сегодня он не оглянулся.
– Маленькое чудовище отпустило любимую игрушку погостить дома, – усмехнулась поджидавшая Свордена Ферца большеголовая тварь. – Кажется, у вас, людей, есть на сей счет некое предание – про карлицу и красавца?
– Про красавицу и чудовище, и цветочек аленький, – терпеливо поправил Сворден Ферц, подавляя в себе желание со всего маху хлопнуть бесцеремонную тварь по толстому загривку.
– Вот как? Интересно… – ни черта ему, конечно, не интересно. Тварь ловко семенила рядом на трех лапах, так как из подушечки четвертой прямо на ходу выкусывала репейник.
Под сводом густого леса становилось жарковато. Огромные, неохватные стволы вздымались высоко в мутную твердь, широко расставив в стороны лапы ветвей, будто пытаясь дотянуться до соседей, опереться на их могучие тела и сделать еще один, теперь уже последний бросок ввысь, погружая верхушку в губчатую субстанцию слабо фосфоресцирующего неба.
Землю покрывал пружинящий при ходьбе слой пожелтевших иголок, сквозь который там и тут пробивались островки травы и кустики полярной клубники. Крупные ягоды пламенели в сумраке, становясь похожими на рубины, щедрым чудом рассыпанные по всему лесу.
Сворден Ферц старательно обходил, перепрыгивал ягодники, но большеголовая тварь упрямо перла напрямик, безжалостно ступая по клубнике лапами, отчего та с хорошо различимым чмоканьем лопалась, разбрызгивая в стороны алую мякоть и сок. При этом тварь, чьи родители были прирожденными ночными охотниками – ловкими и бесшумными, в отличие от них демонстративно производила уйму малоприятных звуков, длинными когтями цеплялась за траву, при каждом шаге отбрасывая назад вырванные с корнем ошметки скудной полярной природы.
На первых порах Свордену Ферцу казалось, что большеголовая тварь просто-напросто издевается над ним, пытаясь по каким-то своим, звериным, соображениям побыстрее вывести его из себя, но потом он отказался от домыслов.
Подобная, скажем так, небрежность проявлялась у нее во всем и со всеми. Какая-то наглая бесцеремонность, что в незапамятные времена позволяла ее предкам спать на постели хозяев, если их оттуда не сгоняли поганой метлой или хорошей оплеухой, тем самым напоминая – кто в стае главнее. По каким-то неизвестным Свордену Ферцу соображениям большеголовая тварь некогда пришла к выводу – главой здешней стаи, в которую она включала все местное население, а так же зверье, пасущееся на ягодных угодьях, является именно она и никто другой.
Возможно, хороший пинок по брюху мог бы ее разубедить в столь ошибочном умозаключении или хотя бы заставить в нем усомниться и с большей церемонностью относиться к окружающим. Вот только никто на такой пинок не решался. Даже наоборот, тварь, умело изображавшую из себя добродушного уродца, обожали, особенно дети, которые висли на ней гроздьями, трепали за медвежьи уши, дергали за короткий хвост, а особо мелкие – даже седлали и, подгоняя хворостинкой, разъезжали по поселку.
Кто-то по доброте душевной выстроил для твари домик, сообразуясь со своими, сугубо человеческими, представлениями – что для зверя удобно, а что нет, снабдив жилище всеми благами цивилизации, включая ванну, туалет, линию снабжения и узел коммуникаций, управление которыми опять же приспособив под неуклюжие лапы огромноголового создания.
Но с большим интересом и любопытством обследовав предлагаемую к заселению «конуру», даже пометив ее в некоторых местах и разок воспользовавшись линией снабжения для заказа живой крысы (крысу, на удивление, доставили, однако в замороженном виде), зверь жить здесь категорически отказался, предпочтя вырыть под домом огромную нору, что можно считать за высшее проявление любезности весьма бесцеремонной твари.