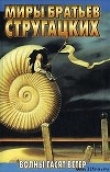Текст книги "Черный Ферзь"
Автор книги: Михаил Савеличев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Бездна? – переспросил господин Ферц. – Какая бездна?
Длинные черные волосы трупа щупальцами шевелились в потоках воды.
Господин Ферц еще раз глянул на отсутствующий потолок. Теперь ему показалось, что разноцветные огоньки из чего-то ужасно далекого и равнодушного преобразились в жутковато живое – огромное, стылое, плотное, как безымянное подводное чудовище, что с голодным безразличием разглядывает жертву мириадами крохотных глаз.
Зачесалась щека. Крюс кафер поднял к лицу руку и обнаружил, что сжимает окровавленный кортик. Кровь запеклась на широком лезвии, к крестовине рукоятки прилипли волосы и клочки чешуи. У господина Ферца появилось чудовищная по глубине уверенность, будто эта рука принадлежит вовсе не ему.
Человек у проема шевельнулся и как-то внезапно оказался рядом с распростертым телом. Теперь стало видно, что он почти обнажен, если не считать коротких серебристых штанов, не достающих до колен. Копхунд попытался лизнуть кровавую рану, но человек мягко его оттолкнул:
– Оставь, – присел на корточки, поправил прядь волос мертвеца. Взглянул на господина Ферца:
– Поневоле задумаешься об иронии судьбы, – шевельнул коротким носом. – И о ее медлительности. Чтобы убить этого кроманьонца, понадобились десятки тысяч лет, освоение галактики, создание Высокой Теории Прививания и изобретение алапайчиков…
Светлело. Господин Ферц посмотрел вверх, и ему вновь захотелось завыть – нечто округлое, гнилостного цвета, испещренное прободениями, откуда медленно выдавливались потоки отвратной жижи, наползало на бездну. Меркли пристальные огоньки глаз, но от этого не становилось легче – точно огромный каменный шар вкатывался на плечи, заставляя мышцы напрягаться, взводиться до того предела, за которым их скрутит судорогой, человек рухнет на пол и будет размозжен, как гнусный паразит. Так давят ногтями вшей, вытаскивая отвратных червей из их убежища в гнойных кавернах кожи, желая очиститься не от скверны и зуда, а лишь от отупляющей скуки трюма.
Копхунд прижал маленькие полукруглые уши, слегка присел на задние лапы и взвыл – неожиданно тонким голосом, что ввинтился в виски крюс кафера ржавыми сверлами.
– Легко быть специалистом по спрямлению чужих исторических путей, – заметил человек. Вой твари ему нисколько не мешал. – Отгородиться от мира ледяной стеной полного отчуждения во имя высокой цели, либо отретушировать мир согласно ложной теории, втиснув его тело в прокрустово ложе воображения, отделившись от грязи огненной стеной правдоносца.
Господина Ферца выворачивало – как слишком тесную нитяную парадную перчатку, когда стаскиваешь ее со вспотевшей руки – медленно, неотвратимо, ужасно.
– Но на Флакше не проходят такие шутки, – непонятно к кому обращался темный полуголый здоровяк. То ли к трупу, то ли к копхунду, то ли все-таки к господину Ферцу. – Стоит очутиться внутри него, под твердью, не знающей ни солнца, ни звезд, как сразу же лишаешься ложных гипотез. Этот мир безжалостен к людям, он пропитан смертью и ненавистью. Человеческая жизнь здесь ничто…
Колоссальный камень взвалился на темя и замер там в неустойчивом равновесии, размышляя – катиться дальше или остаться до того момента, когда подвернувшееся по пути тело окончательно не сплющится, сомнется, растечется лужицей слизи. Крюс кафер схватился за лезвие кортика и сдавил его пальцами. Никакой боли.
– Но только здесь можно получить бесценный опыт. Кто прошел горнило Флакша уже никогда не станет человеком…
Ужасно похолодало. Господин Ферц попытался переступить с ноги на ногу, чтобы хоть как-то облегчить резь в мочевом пузыре, но сапоги вмерзли в лед. Только теперь он заметил – вода, вытекавшая из бочки, превратилась в громадную сосульку, внутри которой зеленело тело воммербют. Пар вырывался изо рта, осаживаясь на каменных стенах рыхлыми наслоениями инея.
Господин Ферц обхватил себя за предплечья и чуть не завопил от ужаса – собственные ладони ему показались раскаленными утюгами. Окровавленный кортик со звоном упал на пол.
Стужа пробирала и копхунда. Поначалу он морщился, поджимал поочередно лапы к брюху, яростно прядал ушами, затем как-то нелепо съежился, словно из него выпустили половину воздуха, крупная дрожь пробежала по телу, башка зверя ходила ходуном, глаза свирепо вращались, и когда уже казалось, что тварь завалится на бок в сильнейшем приступе лихорадки, копхунд вдруг замер. Теперь его шерсть стояла торчком, отчего он превратился в мохнатый шар и выглядел бы весьма потешно, если бы не налившиеся кровью, яростно выпученные глаза, каждый в эпицентре крупных морщин.
Что касается человека, сидевшего на корточках над трупом, то на холод он не обращал никакого внимания. Вокруг его голых ступней образовались проталины на заледеневшем полу.
– А может мне научить тебя играть в трик-трак? – спросил самого себя человек. Он как-то незаметно перетек в вертикальное положение и скрестил руки на груди. Мышцы рельефно прорисовались сквозь кожу.
Резь в мочевом стала невыносимой. Господин Ферц простонал сквозь стиснутые зубы.
– Это очень легко, – человек пристально вгляделся глазами, цвета воды в доках, в глаза крюс кафера, медленно поднял правую руку и щелкнул пальцами.
Последнее, что успел подумать господин Ферц, – действительно, как просто…
Комната удалялась с невероятной скоростью. Будто кто-то ухватился за кусок резины и принялся его растягивать – до предела натяжения, когда податливая масса истончается до толщины волоска и готова вот-вот лопнуть, а в воздухе повисает еле ощутимый привкус разогретого каучука, предвещающего – сейчас это и произойдет.
Господину Ферцу показалось, что теряет равновесие, пытаясь удержаться в несущемся коридоре он вытянул вперед руки, нащупывая опору в пространстве абсолютного движения, и с ужасом увидел, как перепачканные кровью пальцы вытянулись в неимоверную даль, увлекая за собой запястья, локти, предплечья, будто все еще не желая безнаказанно отпустить странного человека в коротких штанах и его копхунда, для чего, против воли остального тела господина Ферца, они пытались дотянуться до шеи ореховоглазого, сомкнуться на ней и не выпускать до тех пор, пока из разинутой пасти не вывалится почерневший язык.
Но что самое странное, никто из проходящих мимо по бесконечному коридору не обращал никакого внимания на несущегося спиной вперед крюс кафера и его руки, похожие, скорее, на нелепый такелаж заброшенной крепости, провисающий под тяжестью намерзшего льда, осевшей соли и гуано громовых птиц, нежели на часть тела. Да и выглядели прохожие так же странно, как и тот коротконосый, до чьей шеи все никак не могли дотянуться пальцы, – обряженные, вне зависимости от пола, исключительно в серебристые штаны, не достающие и колен, в сопровождении копхундов всех мастей, расцветок и возрастов, по-хозяйски прогуливаясь по уносящемуся коридору, входя и выходя из многочисленных дверей, за которыми усматривались все те же казарменные клетушки офицерского состава.
Впрочем, обычные люди также наличествовали. Торопясь по своим делам, на господина Ферца внимания они не обращали, равно как и на полуобнаженных, даже если, а это случалось не так уж и редко, их угораздивало с ними столкнуться.
Выпученные глаза военных, которые шли, натыкались, порой падали, но невозмутимо поднимались и продолжали шагать с уверенностью заведенных механизмов, безмятежные улыбки короткоштанных, насупленные морды копхундов – все постепенно сливалось в ускоряющемся падении в бездонный колодец.
Наверное, так чувствует размазываемый по хлебу растаявший кусок масла, пришла в голову господина Ферца весьма странная мысль, потому как он не мог вспомнить – что же такое хлеб и что такое масло…
Ревела сирена, разрывая плотную завесу шумов завода – туго взведенного от внутренней гавани до верхней палубы цитадели, снаряженного белесыми тушами дасбутов, разной степени сборки и сохранности, бесконечного в циркуляции колоссальных доков и платформ, более похожего не на механизм, а на чудовищное по плодовитости животное, с регулярностью приливов отсаживающего в океан очередную волну стального, злобного потомства.
Если вслушаться в какофонию звуков, до поры скрывшихся за пронзительным воем уставного начала дня, то протиснувшись сквозь скрип титанического такелажа, уханье молотов, визжание пил, угрюмый хруст шпангоутов, нагружаемых плитами корпусов, взрыкивание турбин, тяжкие вздохи турбозубчатых агрегатов и всхлипывания осушительных насосов, можно, если повезет, добраться до еле различимого плеска воды, принимающей и отдающей тела лодок.
Покрытый плотным слоем мусора, смердящий человеческими экскрементами и экскрементами механизмов, стиснутый в узком лабиринте пирсов и доков, крохотный клочок океана, раскинувшегося в конечную бесконечность за пределами цитадели, приносил, тем не менее, какое-то необъяснимое облегчение.
– Вам плохо, господин крюс кафер?
Открывать глаза не хотелось. Но надоедливый голос продолжал:
– Я могу чем-то вам помочь, господин крюс кафер?
Господин Ферц внезапно вспомнил, что именно с такой интонацией господин Зевзер интересовался самочувствием у распятого на пыточной машине испытуемого. Крюс кафер вздрогнул и открыл глаза.
Он действительно сидел на лавочке в центральном доке. Перед ним навытяжку стояло нечто в промасленном комбинезоне не по размеру. Тощее сероватое личико, гноящиеся глаза, жесткие патлы, обильно пересыпанные насекомыми и собранные во множество косичек, выдавали крысу, неведомо какими путями выползшую на верхнюю палубу из мерзкой трюмной норы.
От подобной наглости господин Ферц несколько остолбенел. Начало текущего дня выбивалось, конечно, из привычной колеи скромного служащего контрразведки группы флотов «Ц», но если явление полуголого здоровяка еще можно объяснить последствиями чрезмерного употребления психокорректоров, то теперешний случай ни на видение, ни на сновидение списать невозможно.
Крыса была реальна, как только может быть реален отвратный слизняк, ползущий по влажной стене, оставляя бурую полосу смердящей слизи. И нет ни сил, ни желания придавить склизкое порождение трюма, и остается лишь сидеть и оцепенело взирать на его медленное перемещение от пола до потолка и обратно.
Грохот дока заглушил верещание крысы. Громадный ковш с лежащим на ржавом основании дасбутом заполнял обозримое пространство. Гигантские водопады обрушивались из дренажа, отчего в воздухе повисла мутная взвесь. По белесой туше бродили фигуры в плащах до пят. А сверху, навстречу доку, спускался ремонтный такелаж, похожий на вынутые из корпуса узлы и агрегаты пыточной машины.
Крыса сделала шажок вперед, вытянула длинную тощую шею и наклонилась к господину Ферцу, словно собираясь сообщить нечто конфиденциальное. Хотя, в таком грохоте и реве сложно представить себе, что кто-то как-то ухитрится подслушать – какую общую тему для беседы нашли крюс кафер и зачуханный выродок.
Замерев в полупоклоне, расставив мосластые руки и неестественно вывернув шею, крыса продолжала пристально смотреть на господина Ферца и шевелить губами. Крюс кафер вместо того, чтобы полоснуть наглое животное кортиком по горлу, попытался понять ее бормотание, но крыса говорила на неизвестном ему варианте трюмного арго.
Туша дасбута в сухом доке и разделочные механизмы ремонтного такелажа сомкнулись с таким грохотом, что заложило уши.
Сверкнули молнии, вспыхнули факелы резаков, взвыли пилы, разбрасывая жмени разноцветных искр, заухали копры, вбивая в корпус блестящие колы.
Люди на палубе засуетились, вцепились в свисающие с платформы кольчатые заиндевелые трубы, потянули их туда, где ремонтная механика с голодным урчанием вгрызалась в тело дасбута.
Откуда-то из-за плеча господина Ферца высунулся брусок игломета, в ухо выдохнули: «Не шевелись», оружие дернулось, и крюс кафер увидел как остановившийся мир пронзают черные дротики, буравя в тягучем мареве сходящую к обвисшей нелепой куклой крысе спираль траекторий.
Когда стрелам оставалось навылет пробить впалую грудь трюмной твари, та вдруг задергалась в припадке наркотической ломки, руки зашлись в уродливой пляске, вовлекая за собой все тело, которое даже не изогнулось, а обломилось перегруженным рангоутом, с неимоверной скоростью, но все той же неуклюжей трясучкой уводя крысу от смертельной дозы стального противоядия.
С двух сторон в мир, начавший потихоньку – со скрипом и искрами – набирать обороты, протиснулись тени, похожие на бесформенные клубы дыма, щетинясь все теми же брусками иглометов, что пялились на невозможно ловкую тварь восемью сверкающими жерлами, сыто отрыгнувшими очередную порцию снадобья, затем еще и еще.
У крысы не оставалось никаких шансов. Плотно нашпигованное иглами пространство сжималось вокруг нее без единой щели, сквозь которую она могла бы просочиться.
Работали профессионалы – не те липовые охотники за липовыми шпионами, что бултыхаясь в трюмной грязи строчат липовые доносы на опоенных ими же самими крыс, а точнее и не на крыс даже, а на распухшие, ревматические и подагрические полутрупы, догнивающие в сырых лабиринтах цитадели. Здесь и сейчас на охоту вышли настоящие гончие, что намертво вгрызаются в смертельно опасную добычу, а значит и сама добыча лишь прикидывалась жалкой крысой.
Волны сомкнулись на пустом месте, прокатились друг сквозь друга и с нерастраченным упрямством обрушились на гончих. Звякнули металлизированные плащи, скрывая охотников от пронзающего ливня своих же дротиков, один из которых повис у самого лица господина Ферца, и тот осторожно взял его двумя пальцами из воздуха и вонзил в обтянутую черной перчаткой руку, державшую игломет у самого уха крюс кафера.
Сверху пала тень, грязные пальцы сомкнулись там, где мгновение назад находилась шея господина Ферца, а сам он, вырвав игломет из омертвевших рук гончей, ткнул бруском в патлатую голову крысы и вдавил спуск.
Такого не могло произойти, но как в дурном сне чудовищно медлительный игломет чудовищно медленно выдавил из себя дротик, и тот чудовищно медленно скользнул сквозь пряди растрепавшихся волос оскалившейся крысы.
– Dummkopf! Rotzanse!
А дальше тело господина Ферца превратилось в огромный надувной баллон – такое же упруго-звенящее, неповоротливое, удивительно легкое – чуточку толкни, и крюс кафер воспарит – мимо револьверного механизма сухих доков с различной степенью препарирования бледных туш дасбутов, мимо встречных спиралей галерей, идущих от палубы к палубе, с короткими отростками стыковочных узлов, отдувающихся паром при каждом соединении с доком, мимо бесконечного потока машин и людей, везущих, тянущих, несущих контейнеры, ящики, тюки, сквозь плотную сеть такелажа, где сотни и сотни кранов поднимали и опускали лоснящиеся веретена торпед, угрюмые обрубки баллистических ракет и упрятанные в шестигранные корпуса хищные тела ракет крылатых, все выше и выше – к дырчатому куполу цитадели.
Но подобное воспарение духа господина Ферца к загадочным высотам оказалось прерванным самым грубым способом – вцепившись в крюс кафера обеими руками, крыса с неимоверной силой сдернула его с лавки, подтащила неповоротливое и непослушное тело к поручням, вскочила на них, развернулась, ловко взвалив добычу к себе на плечо, и сиганула вниз – в тухлую бездну трюма.
Дут! Ду-дут!
Вновь как в кошмарно медленном сне господин Ферц видел, что их падение сопровождают пристальные зрачки иглометов, свесившихся за поручни, что плотный воздух, сквозь который с трудом протискиваются падающие тела, взрезают, неумолимо приближаясь, темные прочерки дротиков, но когда соединение траекторий становится неизбежным, все пространство заполняет патлатая крысиная башка с выпученными глазами и ощеренным ртом с гнилыми пеньками зубов.
Крыса содрогается от множества попаданий, и господин Ферц с отвращением видит как изнутри ее вонючей пасти прибывает вязкая волна бурой жидкости, накатывает на язык, похожий на белесого ядовитого слизня, переливается через изъязвленные дёсна и брызжет в лицо крюс кафера.
– Dummkopf! Rotzanse!
…Запись остановилась. Тусклый экран мозгогляда погас, и господин Ферц с раздражением стащил с головы обруч:
– Ничего не понимаю! На каком языке они говорят?
Человечек на стульчике шевельнулся, затряс могучими жировыми складками и попытался дотянуться до покрытого обильным потом лица. Рука оказалась чересчур коротковата, чтобы преодолеть вязкую трясину оплывшего расплавленным стеарином тела. Даже пальцы нелепо торчали в стороны из распухшей подушки ладони разваренными сосисками, готовыми вот-вот лопнуть.
На мгновение Ферцу показалось, будто увиденный в последнем кадре язык издыхающей крысы каким-то чудом избежал участи сгнить вместе с телом, выполз из гнилой пасти твари, пробрался из трюма на верхние палубы, облачился в белый халат и ухитрился зажить собственной жизнью, уже как Пелопей – начальник отдела ментососкобов.
Пелопей взял со столика веер и принялся обмахиваться. Господин Ферц ждал.
– Похож… с-с-с-с… на диалект… с-с-с-с… материковых… с-с-с-с… выродков… с-с-с-с… – просипел предположение толстяк.
Слова с трудом находили выход из лицевых складок, проходя по множеству закоулков, прежде чем вырваться из удушливого плена ожиревшего чудовища. Кроме того, в своем побеге они претерпевали столь тяжкие муки, протискиваясь сквозь завалы липом, словно каждую фонему пропускали через резцы пыточного станка, который оставлял на них множественные отметины астматических придыханий, удушливого свиста, асфиксивного бульканья и хрипа.
Разобраться в изуродованной речи с трудом передвигающейся фабрики по производству сала оказывалось не легче, чем понять диалект материковых выродков.
– Похож? – с недоверием переспросил господин Ферц и посмотрел на экран мозгогляда, где еще проступала омерзительная морда трюмной крысы. Материковые выродки выглядели, конечно, не лучше, но они хоть отдаленно походили на людей. Не случайно на таких тварей в доках даже пуль не тратят, а разбивают им головы молотками. – И что это означает? Пароль? Явка?
Пелопей тяжко вздохнул, отчего складки на месте губ втянулись в ротовое отверстие. Жирдяй задумчиво принялся их жевать, пуская обильную слюну и похлюпывая кнопкой носа.
– С-с-с… дурак… с-с-с… сопляк…. с-с-с… – соизволил он в конце концов пробулькать.
Крюс кафер взбеленился:
– Кехертфлакш, и это все?! Все, кехертфлакш, ради чего потрачено столько, кехертфлакш, средств?! Угроблено столько, кехертфлакш, агентов и, тысячу раз кехертфлакш, осведомителей?! Только ради того, кехертфлакш, чтобы какая-то, кехертфлакш, крыса обозвала нас дерьмом, умгекерткехертфлакш?!
– С-с-с-сопляками… – просипел Пелопей.
Господин Ферц взрыкнул страдающим газами дервалем, спрыгнул с табурета и, волоча за собой провода мозгогляда, подбежал к жирдяю. Пелопей утомленно взглянул из-под нависших козырьками лобных жировых отложений на крюс кафера, но даже не вздрогнул от проникающего в брюхо лезвия.
Рука оказалась бессильной протолкнуть кортик глубже, чтобы достать острием до мышц, если они вообще имелись у толстяка. Упругая подушка сала поначалу подалась, втянулась внутрь, чтобы затем крепко прихватить крюс кафера по самый локоть влажной, жаркой, творожистой массой. Подобного отвращения господин Ферц не испытывал давно, пожалуй с того самого раза, когда участвовал в десанте на побережье, кишащее выродками.
Как наяву он увидел рожи уродов, которых расставили на коленях длинной цепью вдоль берега, и пришлось идти вдоль них и бить, колоть, стрелять, только бы избавиться от жуткого ощущения невозможности находиться с ними в одном объеме мира.
И сначала он только стрелял, наслаждаясь крохотной капелькой облегчения, когда очередной череп – подлое надругательство над теорией расовой чистоты – взрывался фонтаном крови и мозгов, и, кехертфлакш, окатывал с ног до головы, но тебе на это наплевать, и делаешь еще шаг, поднимаешь руку, приставляя дуло к очередной пародии на человека, нажимаешь на спусковой крючок, оттираешь очки от наслоения бурой мерзости, что гниет в жилах уродов, и переходишь к новому отвратному порождению, и так шаг за шагом продвигаешься вдоль невообразимо длинной очереди на ликвидацию, делая передышку лишь затем, чтобы сменить обойму, а когда кончаются обоймы, то достаешь кортик, а когда надоедает и он – уж чересчур аккуратно клинок приносит смерть, вонзаясь в темя преклоненного уродца, – и тогда начинаешь действовать голыми руками…
Пелопей булькнул, и господину Ферцу стало непереносимо находиться вблизи преющей, податливой, разбухшей, перебродившей массы, принявшей сходство с человеком, как будто человек и есть всего лишь нечто с четырьмя конечностями и парой комочков грязи – глаз.
Крюс кафер выдернул руку из геологических напластований жира, а кортик выскользнул из покрытых липким и склизким потом пальцев и остался где-то там, внутри складок. Рукав мундира подмок почти до локтя и невыносимо смердел. Хотелось содрать с себя форму и залезть в бочку с воммербют, чтобы та своим шершавым телом оттерла, очистила от малейших следов метаболизма этой колоссальной кучи сала.
Господин Ферц воспользовался, за неимением лучшего, полой халата Пелопея. Жирдяй засипел, выдавливая из ожиревших легких очередную порцию протухшего воздуха, шевельнулся, и кортик брякнулся на пол. Никаких следов крови на лезвии не оказалось – за наслоениями плоти толстяк неуязвим.
– С-с-с-продолжим-с-с-с? – выплюнул изо рта окончательно обмусоленные губы Пелопей.
Отпнув испачканный слизью кортик в угол, крюс кафер вернулся на свое место и в раздражении перелистнул пару страниц дела.
Заккурапия содержала свыше трехсот сброшюрованных и прошитых страниц, исписанных убористым почерком полковых писарей, обильно пересыпанных ссылками на законы, указы, декреты почти до полной его (дела) нечитабельности. Процесс работы над бумагами вызывал не только длительные приступы зевоты, но и, как теперь догадывался господин Ферц, неконтролируемые припадки острейшего желания кого-нибудь убить. – Что еще есть? – пробурчал крюс кафер, не поднимая головы.
– С-с-с-смерзкие… с-с-с-сцены… с-с-с-с… – просипел с громким клекотанием Пелопей. – С-с-с-смерзкие…
– Кехертфлакш, – процедил господин Ферц, уже и не пытаясь себе представить, что же такого мерзопакостного даже по мнению этого ублюдочного выкидыша самой паскудной помойной дыры, рядом с которой трюм выглядит командной палубой, он может увидеть в оставшихся ментососкобах.
– С-с-с-сне-с-с-с-советую-с-с-с… – комочки грязи под лобовыми складками, что прикидывались глазами, зашевелились от кишащих там червей.
– …Сопляк! Дурак! – кровью выплевывает крыса, а плотный кокон все туже пеленает их, стягивая, прижимая другу к другу, и господин Ферц с невыносимым ужасом чувствует – тело его разжижается, теряет границы, растекается внутри оболочки, что еле сдерживает ураганный вихрь, который слой за слоем размазывает их по шершавой поверхности – слой крысы, слой господина Ферца, слой крысы, слой господина Ферца, слой господина крысы, слой крысы Ферца, слой ферца Крысы, крыс ферц Слоя…
Обратная сборка оказалась мучительней нуль-транспортровки, проведенной из таких неудобных условий, из которых ее не только не проводят, но и категорически запрещают к исполнению всеми существующими инструкциями. Единственное исключение – непосредственная угроза жизни специалиста по спрямлению чужих исторических путей.
Сколько же ему еще раз изображать из себя остатки подсохшего варенья на стенках банки неприкосновенного запаса, которое сначала пытаются отскрести ложкой, затем ножом, а когда не удается и это, то, ничто же сумняшеся, заливают емкость кипятком и терпеливо ждут, когда раскатанное по гиперповерхности тело все-таки соберется в слегка подпорченный трехмерный оригинал.
Малоаппетитная процедура. Столь же малоаппетитная, сколь и развитие человеческого эмбриона – девятимесячный спринт по миллиардолетней марафонской дистанции эволюции. Из рыб – в люди. Вот как сейчас – на глазах у операторов, что пристально наблюдают за потугами избавиться от жабр и начать дышать. Зачем? Ведь вокруг только вода – теплая, солоноватая, маслянистая. Она омывает жаберные щели, вопрошая – разве можно дышать иначе?
Асфиксия кажется бесконечной. Он уже готов вдохнуть в себя насыщенный бульон первичного океана, но оболочка искусственного лона сжимается и выталкивает его на холодный восприимный стол. Ослепительный свет впивается в глаза, ледяные щупальца упираются в грудь – мощный толчок, от которого остатки воды извергаются из носа, высвобождая легкие для долгожданного вздоха.
Когда-то ему понадобилось девять месяцев, чтобы избавиться от жабр. Сколько же ему понадобиться, чтобы вырвать из души совесть – вредный привой Высокой Теории Прививания?
Горячий воздух окатывает тело. Предплечья целуют инъекторы, вгоняя в кровь органику, которой предстоит достроить ту мелочь, что не успела воссоздать нуль-пространственная матка.
Почему же так больно?
– Не двигайтесь, – скрипит бездушный робот-хирург. – Процедура комплементации еще не завершена. Восстановлено восемьдесят семь процентов калибровочного объема. Восстановлено восемьдесят восемь процентов…
– Заткнись! – хочется крикнуть педантичной машине, но не удается издать ни единого звука.
– Восстановлено девяносто процентов калибровочного объема…
Он поднимает правую руку, с усилием преодолевая тянущиеся за ней волоски псевдоэпителия. Прозрачные трубочки истончаются и лопаются. Пальцы и ладонь покрыты шевелящейся бахромой, сквозь которую проглядывают перевитые сосудами обнаженные мышцы.
– Девяносто один процент…
Неимоверно хочется закричать, чтобы скрипучая жестянка все-таки заткнулась, – до спазма в глотке, до боли в легких, когда воздух уже набран до упора, когда голосовые связки уже изготовились отмодулировать могучий поток ярости и ненависти, но… Он касается кончиками пальцев лица, ощупывает…
Он не может кричать, потому что у него нет рта.
– Сто процентов калибровочного объема. Комплементация завершена успешно. Ошибки сборки – в пределах допустимых. Рекомендуется комплекс стандартных процедур.
Смачно чпокает пленка псевдоэпителия, выпуская тело из своих объятий. Он садится и встречается взглядом с собственным двойником – калибровочный болван моргает глазами и пускает слюни. Лицо абсолютного дебила. Кусок мяса. Ходячий образец.
– Парсифаль, зайди ко мне, – щелчок интеркома.
Вандерер ждать не любит. Любит… Есть ли во вселенной – от Стены до Великого Аттрактора – хоть что-то, что может полюбить эта глыба покрытого изморозью мрамора? Раз за разом все глубже окунаться в кровавую баню Флакша? Разглядывать раздавленное вдрызг тело – последствие инерционной нуль-транспортировки? А какая еще может быть нуль-транспортировка, когда вырываешься за пределы реализованной модели одномерной плоскости?
Он хихикает. Образ Вандерера, изучающего лягушку, попавшую под гусеницу танка, кажется ему забавным. Хочется отмочить чего-то этакого, учитывая, что он под постоянным наблюдением недремлющего ока.
Вот, например, так. Он шагает к пускающему слюнявые пузыри болвану, расстегивает ремни, освобождает руки и складывает их на чреслах, где те поначалу покоятся неподвижно – ужасно огромные, нелепые, более подходящие какому-нибудь землекопу, нежели молекулярному хирургу, но затем пальцы вздрагивают, оживают, теребят плоть и принимаются за столь привычное у болванов дело.
– Развлекаешься? – сухо вопрошает Вандерер, не поворачивая головы. Он сидит в излюбленной позе – перед экраном с огромной кровавой каплей Флакша, заложив ногу на ногу, одной рукой теребя башку молодого копхунда, а другой барабаня по подлокотнику бравурный маршик.
Копхунд поворачивает голову, приоткрывает круглый золотистый глаз. Оттягивает губу, обнажая клыки.
– Стало жалко себя. Должно и ему развлечься. Быть образцом для подражания – нелегкое занятие, – короткий смешок. Подленький и пугливенький. Каким и должен обладать молекулярный хирург, загубивший свою жизнь несанкционированными экспериментами на людях. – Может, Exzellenz, соорудить им бабенок побезмозглистей? Или мальчиков… – словно раздумывая пробормотал себе под нос.
Багровый отсвет колоссального сооружения заливает террасу. Чудовищная геометрия Флакша корежит и рвет пространство, словно тупой резец безжалостно полосует еще живое тело, и из рваных ран брызжут кровавые фонтаны.
– Отсюда он похож на сердце, вырванное из груди, – внезапно говорит Вандерер таким тоном, что мороз продирает от макушки до пяток. – Дансельрех питает его новыми порциями проклятых душ, а Блошланг раз за разом впрыскивает их туда, где должно находиться тело. Раз за разом, раз за разом… – Вандерер отрывает руку от подлокотника, сжимает и разжимает пальцы. – Не находишь?
Тварь продолжает коситься золотистым глазом, который постепенно наполняется коричневой мутью. Нитка слюны стекает из уголка пасти.
– А если это и есть сердце? Сердце вселенной? Переполненное созревающими душами, которые мы по неведению своему и гордыни принимаем за нечто несовершенное, стоящее гораздо ниже нас, а? – лысая голова тоже слегка поворачивается, обращая к собеседнику мутно-золотистый глаз и уголок рта.
– Спросите у теологов, Exzellenz, я всего лишь скромный молекулярный хирург, по совместительству – личный врач вашего специалиста по спрямлению исторических путей.
– Нет. Ты – не врач, а он – не специалист, – появляется совершенно жуткая уверенность, что сейчас в тишине оглушительно хрустнут, разъединяясь, позвонки, и Вандерер окончательно развернет голову на сто восемьдесят градусов, чтобы уставиться гипнотизирующим взглядом удава Каа на подопечного бандерлога.
– Шутить изволите, Exzellenz?
– Ты – не врач, а он – не специалист, – задумчиво повторяет Вандерер и возвращается к созерцанию Флакша.
Заявиться на ковер к начальству в костюме Адама уже не кажется столь блестяще эпатирующей идеей. На Вандерера не производят впечатления подобные шуточки молекулярного хирурга. Мерзлые глаза безжалостного убийцы всегда полны стылого равнодушия. Если теория космического льда верна, то Парсифаль точно знает на что пошли его вселенские запасы.
Зад и предплечья холодеют от бьющего из индевелых щелей воздуха. Космическая стужа и багровый диск Флакша, и впрямь смахивающий на сердце, вырванное из груди колосса, не прибавляют уюта. Унизительно стоять вот так под пристальным взглядом сверкающих Единых Нумеров и растерянно разглядывать бледные веснушки на лысине руководства.
– Он – бомба, – вдруг произносит Вандерер, и в его голосе чудиться оттенок страха, отчаяния, бессилия. – Он – бомба, отлично сделанная и прекрасно обученная. Собранная и отлаженная неведомыми чудовищами на заре Человечества, сорок тысяч лет ждавшая своего часа и, наконец, затикавшая по вине нашей идиотской беспечности.