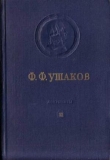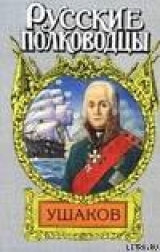
Текст книги "Адмирал Ушаков ("Боярин Российского флота")"
Автор книги: Михаил Петров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
10
В Аксел Ушаков поехал на тройке и в адмиральском мундире. Так настоял Федор, говоривший, что адмиральские позолоты и богатая тройка произведут на помещика гораздо больше воздействия, чем всякие там слова…
Село Аксел было раза в два больше Алексеевки, но выглядело куда беднее. Домишки сплошь убогие, подслеповатые, крытые Бог знает чем – то ли соломой, то ли навозом. Кривая улочка вся была в рытвинах и мусоре. Боясь угодить в какую-нибудь яму и, не дай Бог, перевернуть коляску с хозяином, кучер вынужден был сойти на землю и повести коренную лошадь под уздцы.
На пути встретилась старуха, тащившая на спине вязанку хвороста.
– Где ваш барин живет? – спросил ее кучер.
– А там, родимый, там, – показала старуха головой в сторону ветлы, возвышавшейся вдали посредине улицы, – за прудом, родимый. Как за ветлу проедете, направо будет плотина, а за плотиной сразу вам барский дом будет.
Барский дом скрывался за высоким частоколом. Подъезжая к воротам усадьбы, Ушаков мог видеть только черепичную крышу да свисавшие над крышей ветви огромного дуба. На темниковщине дворяне обычно ставили дома свои на открытых местах, чтобы всем были видны их достоинства. Если заборы и ставились, то не перед фасадом, а позади дома для ограждения сада. В Акселе же саженным забором оберегался не только сад, но и сам барский дом вместе с примыкавшими к нему скотными дворами, амбарами и прочими хозяйственными постройками.
Ворота, сработанные из прочных сосновых досок, оказались запертыми.
– Эй, есть кто-нибудь? – крикнул кучер, осадив лошадей.
На его голос тотчас залаяли собаки. Но вот ворота чуть приоткрылись, и наружу высунулась лохматая голова:
– Чего надо?
Увидев Ушакова в его адмиральском обличии, голова отпрянула назад, и ворота распахнулись. Кучер направил тройку в глубь двора, кнутом отбиваясь от собак, кидавшихся со всех сторон.
Перед барским домом с вытоптанной чахлой травой сидел в плетеном кресле уже немолодой человек, по всему, сам барин, – в сюртуке и со шпагой на боку. Перед ним стояли на коленях три крестьянина, что-то вымаливая. Кроме этих крестьян, здесь находился еще лохматый привратник, открывший Ушакову ворота. Склонившись над барином, он что-то говорил ему. Наверное, докладывал о приезде незнакомого военного.
Ушаков стал слезать с тележки, но собаки рассвирепели еще больше: не обращая внимания на кучерский кнут, они яростно нападали, норовя ухватить за ногу.
– Цыц! – прикрикнул на собак привратник. Те присмирели, и Ушаков смог наконец сойти на землю. Но отходить от тележки он все же не стал, решил подождать, когда помещик кончит разговор с мужиками.
– Ладно, так и быть, не будем пороть вас сегодня, – слышал Ушаков его хрипловатый голос. – Прощаем по случаю приезда гостя. Но ужо смотрите!.. Запорем, ежели потраву допустите. И скотину вашу велим загнать, коль следить за нею не можете.
– Благодарствуем, кормилец наш!.. – загалдели мужики, все еще оставаясь на коленях. – Сами следить будем и другим накажем. Дай Бог здоровья да счастья тебе, кормилец наш!
– То-то же!
Барин выдержал строгость до конца. И виду не показал, что адмиральских позолот испугался. А что ему бояться? Он у себя сам полный хозяин, никто ему не указ, и пусть крестьяне это знают.
– Ступайте, – сделал он нетерпеливый жест. Мужики, крестясь, встали с колен и тихонько поплелись к воротам, словно побитые. Барин тоже поднялся и, все еще рисуясь, направился навстречу Ушакову. На землисто-сером лице его сквозило выражение вызывающей непокорности. "Хоть я и простой дворянин, а ни перед какими адмиралами угодничать не намерен", – говорил его вид.
Титов остановился в трех шагах от Ушакова, сощурив маленькие глазки, словно ему больно было смотреть на его ордена, сверкавшие в лучах солнца. Сказал нараспев:
– А мы вас, сударь, кажется, знаем. Ушаков?
– Угадали. Отставной адмирал.
– Знаем, знаем… И Алексеевку вашу знаем. Проезжали как-то. Не угодно ли к нам в трапезную? Для разговора с приятным гостем нет лучшего места, чем трапезная. Егор, – позвал он привратника, – беги к барыне – она в сарае грибы от баб принимает, – скажи, чтобы угощение на две персоны приготовили.
Трапезная, самая большая комната в доме с тремя окнами на площадь, была полна мух.
– Ишь ты, опять напустили! – огорченно сказал хозяин и приоткрыл дверь в боковую комнату: – Эй, кто там есть, вели собрать баб да мух из трапезной выгнать.
Сделав это распоряжение, он отстегнул шпагу и повесил ее на вешалку с сюртуком.
– Откуда она у вас?
– Как откуда? – удивился вопросу Титов. – Да будет вам известно, ваше превосходительство, что мы тоже отставные. С чином капитана со службы ушли. Еще при покойном императоре Павле.
– А шпага?
– Что шпага? Висит себе… Нацепляем ее, когда с мужиками идем разговаривать или экзекуции чинить. Когда шпага при нас, мужики смирнее становятся.
Пока дворовые девки, распахнув окна и вооружившись всяким тряпьем, гоняли мух, хозяин и его гость в ожидании стояли на крыльце.
– Вроде бы и холода близко, время мух прошло, а их все равно пропасть, – недоумевал Титов. – Отчего бы это, а?
Ушаков не отвечал. Он думал о шпаге, висевшей рядом с сюртуком, о хозяине, нашедшем для нее новое назначение. Было время, когда шпага служила ему оружием против неприятелей России, а теперь он пользовался ею для устрашения собственных крестьян. Видимо, прав был отец Филарет, назвавший его ничтожеством. Плохой человек. Такого, пожалуй, не уговорить, вряд ли пойдет на облегчение участи своих крестьян.
Наконец мухи были прогнаны, окна наглухо закрыты, и хозяин пригласил гостя к столу, куда уже успели принести домашнее смородиновое вино и холодную закуску.
Титов начал с того, что налил в стаканы вина, переставил закуску так, чтобы свежие огурцы, которые он считал, видимо, лучшим лакомством, были поближе к гостю. Ушаков ждал, что сейчас он будет произносить тост, но вместо тоста Титов неожиданно полюбопытствовал вкрадчиво:
– Дошло до нас, будто крепостным своим волю жалуете?
Странная привычка: он все время говорил о себе во множественном числе.
– Есть государев указ о вольных хлебопашцах, – сказал Ушаков. – Сему указу я следую. Кто из крестьян моих воли желает, тем отказа от меня нету.
Ушакову показалось, что при этих его словах Титов даже заскрежетал зубами. Сказал с вызовом:
– Худое сие дело, ваше превосходительство. Правда, – не без ехидства продолжал он, взявшись за стакан с вином, – мужиков у вас меньше, чем у меня зубов, а все ж пример, другим помещикам укор, крестьянам зацепка. Узнают о сем в других деревнях, недовольство вздуется.
– Зачем же до недовольства доводить? Сей указ все могут в дело взять.
– Читали мы тот указ, только мы не нашли там того, чтобы крестьян освободить. Да сего худого дела сам Господь Бог не допустит. Мыслимо ли воля! И государь сего не допустит. Государству Российскому надежнее, чтобы крестьяне оставались в прежнем своем бытии.
Ушаков чувствовал, что спорить с этим человеком совершенно бесполезно, и промолчал. Его молчание, однако, только воодушевило Титова, и он продолжал с еще большей горячностью:
– Разорение полное – вот что стоит за вашим словом «воля». Сами рассудите. Положим, дадим волю крестьянам своим, а куда им без земли? К другому помещику, а от того к третьему?.. Вот и будут метаться от одного к другому, а помещики уже не свезут на рынок столько хлеба, сколько сейчас вывозят. На казну лягут сплошные убытки, потому как убавится сбор податей.
– Я крестьян своих отпускаю с землей, потому как знаю, что иначе нельзя, – сказал Ушаков. – В святом Евангелии говорится: не будьте рабы человекам… Человек должен быть свободным.
– Как это свободным? – даже испугался Титов. – Позвольте, сударь, Евангелие мы тоже читаем, там ничего такого не сказано… Им только дай свободу – сразу же пьянствовать начнут да злодействовать.
Стаканы с вином все еще оставались нетронутыми. Ударившись в рассуждения о пользе крепостного бытия крестьян, Титов забыл об угощении. Он продолжал говорить. Но Ушаков его больше уже не слушал, ждал момента, чтобы можно было сказать ему о жалобе мужиков, попросить за них, этих несчастных людей. Наконец речь хозяина подошла к концу, и Ушаков решил, что наступило его время.
– Возможно, в чем-то вы и правы… Но я приехал не за тем, чтобы спорить. Я приехал просить за ваших крестьян.
Губы Титова скривились в усмешке:
– Жаловаться, что ли, ходили?
– Сделайте им облегчение. Непосильны им стали поборы…
Титов не дал ему продолжать, перебил резко:
– Вы, сударь, наших мужиков не знаете, они побогаче ваших, алексеевских, живут. А то, что берем у них столько, сколько воле нашей угодно, на то права имеем, права дворянина, дарованные нам Богом и государями российскими.
В эту минуту в комнату вошла сама хозяйка, дородная, но легкая на ногах, а за нею появились две девки с подносами, на которых дымились горячие блюда. Титов представил супруге своего гостя. Та сделала радостное лицо, защебетала, расставляя тарелки:
– Не побрезгуйте, батюшка, кушайте на здоровье. Огурчиков попробуйте. Лучше наших огурчиков во всей округе не сыщете. В Москву возим, так там берут нарасхват. Коли попробуете, сами похвалите.
"Игумен был прав, – думал Ушаков, слушая ее певучий голос, – не надо было сюда ездить…"
Он не стал возобновлять прерванный разговор о притеснениях крестьян, понял: бесполезно, – с трудом дождался конца обеда, попрощался сдержанно и уехал.
* * *
Портрет Ушакова отец Филарет писал на холсте масляными красками. Место для работы было выбрано на берегу Мокши – тихое, защищенное с двух сторон высокими непролазными кустами. Игумен решил изобразить отставного адмирала сидящим на стуле таким образом, чтобы сбоку от него видны были зеркальная гладь Мокши и величественные строения Санаксарского монастыря. Ушаков позировал ему в адмиральском мундире, при всех своих орденах.
О своей поездке к помещику Титову Ушаков игумену рассказывать не стал, да тот его о том и не спрашивал. Казалось, что он вообще забыл историю с аксельскими крестьянами. Но однажды, работая за мольбертом, он сообщил как бы между прочим:
– А те, что к вам приходили, так и не убереглись от гнева барина своего. Титов каким-то образом выведал, кто на него жаловался, вызвал к себе и прямо против дома своего устроил им порку. Сам их кнутом порол, и, говорят, нещадно. Двоих потом на дрогах пришлось домой везти, сами уже не могли идти.
Ушаков почувствовал, как у него загорелось лицо. В сообщении игумена было нечто, унижавшее его достоинство. Состояние было такое, словно вместе с крестьянами Титов высек и его тоже.
– Я ездил к нему, – чувствуя необходимость объясниться, сказал Ушаков. – Для этого человека не существует понятия о чести.
– Да, в этом я с вами согласен, – промолвил игумен. Он посмотрел на небо и стал складывать в сундучок кисти и краски: – На сегодня довольно, как бы дождь не закапал.
Уложив свои вещи, Филарет позвал монаха, сидевшего поодаль с удочкой, велел ему отнести сундучок с мольбертом в монастырь, а сам сел на землю рядом с Ушаковым.
Порывы ветра морщили водную гладь, возбуждали шорохи в зелени кустов. А на небе уже появились темные тучки. Погода портилась на глазах.
– Вам лучше бы не впутываться в это дело, – после долгого молчания сказал Филарет, думая о своем.
Ушакова взяло зло.
– Вы не впутываетесь, я не буду впутываться… Кому же тогда на зло сие указывать?
– Бунтом правды не добьетесь. Покойный дядюшка ваш бунтовал, да в темницу угодил.
– А вы темницы боитесь… – с сарказмом заметил Ушаков.
Игумен мог обидеться, но не обиделся.
– Нет, темницы я не боюсь, за справедливость готов на любые муки… Только стоит ли понапрасну душу травить? Благоразумие наше в терпении. Наступит время, и все само собой образуется…
Что отец Филарет говорил после этих слов, Ушаков уже не слышал. Он полностью отключился от разговора, отдавшись своим мыслям. Он думал о том, что игумен ему не поддержка и что надо искать поддержки для обуздания распоясавшегося самодура в другом месте. Нельзя было прощать Титову его гнусный поступок. Расправившись с крестьянами, за которых просил Ушаков, Титов тем самым бросил вызов и ему, их ходатаю. Нет, пусть игумен говорит что хочет, а он завтра же поедет в Темников, поговорит с капитаном-исправником, если понадобится, и с другими чиновниками поговорит, но самоуправные действия Титова безнаказанными не останутся…
– Вы, кажется, меня не слушаете?..
Ушаков поднялся, сказал:
– Пойдемте, что-то холодно стало.
* * *
Несколько месяцев пришлось простоять русской эскадре у стен Лиссабона, и все это время Сенявин не давал себе покоя, одержимый желанием сохранить вверенные ему корабли. Сначала долго и мучительно боролся с притязаниями французов, после захвата Лиссабона захотевших вовлечь русских моряков в совместные боевые действия против англичан, потом, когда после отступления французов над городом взвился британский флаг, пришлось иметь дело уже с англичанами, находившимися с русскими в состоянии войны. В ту пору среди англичан было немало дальновидных деятелей, которые считали союз императоров Александра и Наполеона хрупким, кратковременным и надеялись на скорое возрождение прежней дружбы между Англией и Россией. К таким деятелям относился и адмирал Коттон, заблокировавший у Лиссабона русскую эскадру. Во всяком случае, Сенявин сумел найти дорогу в его каюту, завязать с ним переговоры и добиться того, чего хотел, а именно: англичане отказались от первоначальных требований капитуляции русской эскадры, ее разоружения, согласились признать за нею право сохранить на судах российский флаг, вместе с английской эскадрой отправиться в Портсмут и оставаться там до заключения мира между Англией и Россией. Отдельный пункт договора давал русским офицерам, солдатам и матросам право по прибытии в Портсмут немедленно возвратиться в Россию на выделенных Англией транспортах без каких-либо условий.
Договор между двумя сторонами был подписан 4 сентября, а несколько дней спустя обе эскадры покинули наконец воды Португалии, взяв курс к берегам Англии. Один из участников похода, офицер Панафидин, по сему случаю оставил следующую дошедшую до нас запись: "Итак, мы оставляем Лиссабон, идем вместе с английскими кораблями в Англию под своими флагами, точно как в мирное время. Не хвала ли Сенявину, сумевшему вывести нас с такою славою из бедственного нашего положения?"
В Портсмут прибыли 27 сентября, в тот самый день, когда исполнился год после отплытия из Средиземного моря. Кто думал тогда, что так затянется плавание? Корфу покидали с надеждой встретить осень на родной земле. А что вышло? Десять месяцев простояли в Лиссабоне, и еще неизвестно, сколько придется простоять здесь, в этом неприветливом, холодном английском порту!.. Крепко не повезло эскадре.
Осложнения в чужеземном порту начались довольно скоро. Однажды, когда Сенявин в своей каюте пил чай, к нему явился дежурный офицер с докладом о прибытии на флагман помощника начальника порта адмирала Монтегю.
– Чего от нас хочет этот человек? – спросил Сенявин.
– Именем начальника порта он требует, чтобы мы спустили российские флаги.
– А другого ничего не хочет?
– Начальник порта требует также, чтобы ваше превосходительство вместе со всеми офицерами сошли на берег.
Сенявин резко отодвинул от себя чайную чашку.
– Где этот адмирал, тащи его сюда!
Помощник начальника порта имел раздраженный вид. Предлагать ему чай было просто нелепо.
– Вы прибыли по поручению начальника порта? – уточнил Сенявин.
– Я представляю как начальника порта, так и британское адмиралтейство, – надменно ответил тот и повторил требования, которые до этого уже высказал дежурному офицеру.
Сенявин спросил:
– Известны ли вам условия Лиссабонской конвенции, подписанные адмиралом Коттоном?
– Я выполняю приказы адмирала Монтегю, а не Коттона.
– Ежели так, – спокойно сказал Сенявин, – тогда передайте адмиралу, которому служите, что мы не примем ни одного его требования. Русский флаг будет спущен, как обычно, после захода солнца с должными почестями. И сходить на берег мы тоже не будем, потому что на кораблях своих чувствуем себя уютнее.
Выражение властности на лице английского адмирала исчезло.
– Я прошу, – сказал он, – чтобы вы сообщили обо всем этом моему адмиралу сами в письменном виде.
– Я сделаю это с большим удовольствием.
Сенявин тут же при нем написал начальнику порта письмо. Он категорически отверг все его требования и угрозы. Он писал: "Если же, ваше превосходительство, имеете право мне угрожать, то, нарушая сим святость договора, вынуждаете меня сказать вам, что я здесь не пленник, никому не сдавался, не сдамся и теперь, флаг мой не спущу днем и не отдам оный, как только с жизнью моею".
Помощник начальника порта отбыл на берег уже без прежней спесивости, с какой поднялся на русский корабль. Он понял, что русский адмирал не из робкого десятка и голыми руками его не возьмешь.
Решительное поведение Сенявина отбило у англичан охоту действовать с открытым забралом. Ему более не угрожали и не предъявляли чрезмерных требований. В то же время Сенявин не мог не чувствовать, что англичане еще не отказались от мысли как-нибудь незаметно перевести русских на положение военнопленных.
Выполнение условий конвенции английской стороной осуществлялось под руководством лорда Мэкензи. Этот человек говорил о себе, что воспитан в джентльменских традициях, но толковал эти традиции по-своему. Во всяком случае, он палец о палец не ударил, чтобы дать ход выполнению условий соглашения.
Между тем наступила зима. Припасы на русских судах кончились, пришел голод, а с голодом участились болезни, на корабли стала наведываться смерть. Теперь уже ни одного дня не проходило без того, чтобы не хоронили покойника. В иные дни умирало сразу по нескольку человек.
Надеяться на скорое заключение мира между Англией и Россией пока не приходилось. Россия оставалась в союзе с наполеоновской Францией. В этих условиях самым разумным было добиваться выполнения англичанами пункта конвенции, которым предусматривалась отправка команд эскадры в Россию на английских транспортах.
Мэкензи вначале обещал принять необходимые меры, но потом ответил отказом, сославшись на то, что-де корабли Швеции, находящейся в состоянии войны с Россией, "будут останавливать в море суда и требовать выдачи русских".
Вопрос об отправке русских на родину был решен только 14 марта 1809 года. Арапов узнал об этом будучи в портовом госпитале, куда его положили с тяжелым заболеванием, узнал от самого Сенявина, зашедшего к нему попрощаться.
– Транспорт получен? – спросил он адмирала.
– Мы уже закончили погрузку. На судах эскадры не осталось ни одного человека.
После этого сообщения наступила тягостная пауза. Арапов ждал, что скажет командующий о его дальнейшей судьбе. Но командующий молчал, хмурился только… Арапов не выдержал и спросил о себе сам: возьмут его из госпиталя на транспорт или не возьмут? Продолжая хмуриться, Сенявин объявил:
– Тебе, брат, придется пока остаться. Доктор считает, что не выдержишь качки. Поправишься и прибудешь один. Одному проще, отдельного транспорта просить не придется. Начальник порта тебя отправит.
Арапов промолчал. Он не мог говорить. Глаза его наполнились слезами. Сенявин теперь уже рассердился совсем:
– Ну это ты брось!.. Говорю тебе: поправишься – сам доберешься. Меня найдешь в Петербурге или Ревеле. Прощай, брат!
– Прощай!.. – с трудом выдавил из себя Арапов.
Команды эскадры, переведенные на транспортные суда, отчалили от Портсмута 5 августа, а 9 сентября они были уже в Риге. Так закончилось их долгое трудное плавание.
11
Осень 1809 года выдалась в Темниковском округе сухой, тихой. Ни дождей, ни ветров. В октябре случались дни, когда солнце припекало так, что впору снимай рубаху и беги на Мокшу купаться. Но увы, лето было уже позади. Багряность и чернота лесов, жухлость лугов и жнивья, прозрачность воздуха и его настоянность терпкими запахами являли собой признаки приближающихся холодов. Да и сама Мокша была уже не такой, чтобы в ней купаться. Водоросли в затонах опустились на дно, вода выстоялась до полной прозрачности, сделалась даже какой-то сонливой – только и осталось ледком ее прикрыть.
Так продолжалось почти до самого Михайлова дня. А потом вдруг появились мохнатые тучи, пошел мокрый снег. Прощай, теплые денечки! Прячь, мужик, под навес телеги, готовь под упряжь сани.
В тот день, когда погода резко повернула на зиму, в Темникове, в Спасо-Преображенском соборе, служили благодарственный молебен по случаю заключения выгодного России мирного договора со Швецией. Война продолжалась полтора года, и шла она с переменным успехом – верх брали то русские, то шведы. Но после того как русские войска были удвоены числом, положение противника стало безнадежным. А тут как раз в Стокгольме произошел государственный переворот, король Густав IV был свергнут, власть перешла к герцогу Зюдерманландскому, которому ничего другого не оставалось, как просить у России мира. По заключенному договору к России отходили Финляндия и Аландские острова. Швеция обязалась также присоединиться к континентальной блокаде, имевшей целью лишить Англию возможности вести торговлю с другими странами и таким образом сокрушить ее сопротивление союзным державам.
На торжественную службу собрались многие помещики, в том числе и дворянский предводитель Никифоров. Ушаков тоже приехал.
О мире со Швецией Ушаков узнал еще до того, как в Темников дошли с сим известием газеты. Ему написал о том племянник, продолжавший служить в Петербурге в чине капитан-лейтенанта. Но Ушаков почти ничего не знал о ходе войны с Турцией, которая возобновилась минувшей весной. Племянник ничего не написал также о судьбе Сенявинской эскадры. Где она, дошла ли до своих берегов?.. Обо всем этом он надеялся узнать здесь, в Темникове.
Появление в соборе отставного адмирала вызвало среди прихожан заметное оживление. Еще до начала службы к нему подошел Никифоров, и между ними завязалась дружеская беседа. Никифоров сообщил: по случаю славной победы над Швецией дворянское собрание устраивает торжественный обед, и выразил надежду, что Ушаков тоже примет в нем участие.
– На обеде будет отставной генерал от инфантерии Николай Петрович Архаров, – сказал Никифоров таким тоном, словно это было самым важным событием. – Смею заметить, весьма богатый человек. Несколько тысяч душ за ним. У нас проездом из Петербурга. Массу новостей везет. Пойдемте, я ему вас представлю. Он там, у входа.
Об Архарове Ушаков много слышал еще до этого. С Темниковом отставного генерал-аншефа связывали давние события, имевшие прямое отношение к подавлению восстания пугачевцев в здешней округе. Архаров в то время возглавлял карательный отряд правительственных войск, который должен был подавить сопротивление плохо вооруженных крестьян, коими предводительствовал дворовый крепостной Петр Евстафьев. Ему удалось это не сразу, в некоторых стычках отряд его терпел даже поражения, но в конце концов покорил восставших. Над повстанцами учинили жестокую расправу. О том, как Архаров на базарной площади казнил провинившихся крестьян, Ушакову писал еще покойный родитель…
Представить друг другу отставных военачальников Никифоров не успел: началась служба. Надо было ждать, когда она кончится.
Службу справлял соборный иерей, степенно, с сознанием великой значимости сей церемонии. Певчие на хорах не жалели голосов, славили "установителя мира", Божьего помазанника императора Александра.
– Императору всероссийскому, государю Александру многие лета-а! – неслось под сводами собора.
Когда служба наконец кончилась, Никифоров взял Ушакова за локоть и повел к выходу. Архарова на предполагаемом месте не оказалось, и они вместе пошли к ресторации, где должны были собраться все приглашенные на обед.
Архаров был уже там. Высокий, узкоплечий, увешанный орденами и лентами, он стоял в центре толпы с видом столичного светилы, сознающего свое полное превосходство над провинциалами. Ушакову стало очень неловко, когда Никифоров, раздвигая толпу, потащил его к этому человеку, поставил лицом к лицу, сказав:
– Позвольте представить: знаменитый боярин Российского флота, отставной адмирал Федор Федорович Ушаков.
Архаров скользнул взглядом по наградам Ушакова, улыбнулся и протянул ему руку:
– Очень рад. Я слышал о вас. Впрочем, обо мне, наверное, тоже слышали. Мне довелось служить под рукою самого светлейшего князя Потемкина.
Ушаков отвечал, что он, конечно, слышал его имя, но должен с сожалением признать, что почти не посвящен в его военные заслуги, которых не может не иметь такой славный генерал, каким является его превосходительство. Архаров, не уловив его иронии, рассмеялся:
– Это потому, милостивый государь, что не имели должного интереса к инфантерии.
Сказав это, Архаров вернулся к прерванному рассказу, которым до прихода Ушакова и Никифорова были увлечены окружавшие его помещики:
– Так вот, господа, этот самый Сперанский, пользуясь тем, что у любимого нами государя доброе сердце и государь во имя счастья подданных готов лишиться личного благополучия, осмелился представить сенату и его императорскому величеству проект государственного преобразования. И как вы думаете, что изобразил в сем проекте сей господин? – Архаров интригующе посмотрел вокруг себя, как бы отыскивая охотника ответить на поставленный им вопрос. – Ни за что не догадаетесь, господа. Сперанский предложил государю республику!
Вокруг сразу задвигались, раздались возгласы удивления.
– Да, да, господа, республику, – повторил Архаров, довольный произведенным им впечатлением, – именно республику, хотя господин Сперанский и не употребляет сие вредное слово.
– А как же он эту самую… республику учинять желает? – спросил кто-то.
– Весьма хитро, – оживился Архаров. – Господин Сперанский имеет предложение разделить власти на законодательную, исполнительную и судебную, учредить Государственную думу и Государственный совет, приравнять к дворянам людей среднего состояния, иными словами, торговцев разных, промышленников. И что самое возмутительное – сей господин замышляет меры к лишению нас, дворян, права иметь крепостных крестьян, он желает дать крестьянам полную волю.
Теперь уже возмущались все:
– Не может быть! А как же тогда мы?
– Ну и времена!.. Страх!
– Не вижу ничего страшного, – достаточно громко промолвил Ушаков.
Архарову это замечание пришлось не по нраву.
– Вам, милостивый государь, хорошо так говорить, потому что у вас нет своих крестьян, разве что несколько человек дворовых…
При этих словах раздался хохот. Ушаков оглянулся и увидел Титова. Оказывается, аксельский помещик тоже был здесь, тоже пришел на званый обед. Это он хохотал с таким усердием, хохотал не потому, что было смешно, а потому, что имел случай причинить Ушакову боль за его заступничество за крестьян.
– Прошу, господа, в зал, – желая разрядить обстановку, прокричал Никифоров. – Столы накрыты. – Пойдемте, Федор Федорович, – дотронулся он до Ушакова. – Пора начинать.
Ушаков отвел его руку.
– Не могу. Дозвольте откланяться. Я должен ехать домой.
Он все еще чувствовал себя униженным, оскорбленным.
– Не обращайте на него внимания, – сказал Никифоров. – Архарова я знаю давно. Этот человек не терпит соперников, желает, чтобы в компаниях светился только он. Пойдемте, Федор Федорович!
– Покорнейше благодарю. Не могу. Дозвольте откланяться. – И, уже не слушая более уговоров, Ушаков направился к выходу.
Лошадь стояла у коновязи. Кучер камнем вправлял обод колеса. Увидев своего хозяина, бросил камень, выпрямился:
– Домой прикажешь, батюшка?
– Едем.
Ушаков взобрался на тележку, застланную мокрым сеном, и накинул на себя епанчу. Было холодно, ветер носил в воздухе мокрые снежинки.
– Подождали бы малость, батюшка, – сказал кучер, – я бы сено перевернул, а то мокро.
– Ничего, и так доедем.
Еще не успели отъехать от города, как епанча промокла насквозь, за ворот покатились холодные капли. Ушаков хотел было приказать кучеру остановиться, чтобы поправить на себе епанчу и что-нибудь накинуть на голову, но раздумал: ехать-то недалеко…
Не давала покоя мысль об Архарове, Титове. Сколько ненависти всколыхнулось в них, когда он попытался заступиться за Сперанского! Крепостники! Они не представляют для себя иного бытия, кроме как упиваться властью над рабами.
Слуга Федор, увидев, в каком состоянии приехал барин, набросился на кучера:
– Что ж ты батюшку от дождя не уберег? Разве не видишь, мокрый весь.
– Я говорил…
– Вот вырву из рук кнут да твоим же кнутом, чтоб знал!..
– Не ругайся, Федор, – попросил Ушаков, – я не озяб. Помоги лучше сойти с тележки.
Беспокойство Федора оказалось не напрасным. Хотя Ушаков, придя в свою комнату, сразу же сменил мокрое белье на сухое и напился после этого горячего чая с сухой малиной, простуда взяла свое. К вечеру появился жар, а к утру он ослаб до того, что уже не мог подняться. Федор, боясь как бы не стало еще хуже, вынужден был послать того же кучера в Темников за доктором.