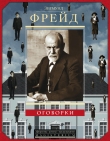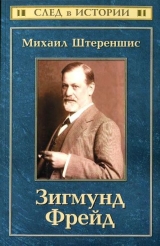
Текст книги "Зигмунд Фрейд"
Автор книги: Михаил Штереншис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
За это я тяжело заплатил. Люди отвратительным образом не верили в мои факты и в мои теории. Сопротивление было сильным и неумолимым. В конце концов я добился успеха у своих последователей и создал Международную психоаналитическую ассоциацию. Но борьба еще не закончилась…»
Особое внимание в дневнике привлекает ряд узловых тем, постоянно занимающих Фрейда, в первую очередь – наступление фашизма и антисемитизм в Европе и, в этой связи, вопрос об эмиграции, затем встречи, переписка со многими видными учеными, писателями, деятелями культуры и пополнение заветной коллекции антиквариата. Мучительная болезнь, как видно, над душой ученого не имеет доминирующей власти. На фоне чудовищной болезни общества она звучит только приглушенным эхом боли.
Одну из улиц Фрейбурга (ныне Пршибор) назвали Фрейдова, а на доме кузнеца повесили табличку. При этом событии присутствовала дочь Фрейда Анна и прочитала небольшой толпе его послание: «В глубине моей души все еще живет счастливый фрейбургский мальчишка». В 1996 году газета «Jerusalem Post» сообщала, что теперь в этом здании находится массажный салон. Заголовок звучал так: «Место рождения Фрейда предлагает другой вид терапии».
* * *
Нам осталось бросить обобщающий взгляд на человека и на его учение, которое перевернуло наше самосознание сто лет назад. В СССР в 1920-х годах работы Фрейда переводили и издавали. Затем, когда сталинизм набрал силу, Фрейд стал персоной нон грата. Хрущев реабилитировал многих, но не отца психоанализа. Вплоть до эпохи перестройки 1980-х годов Фрейд продолжал оставаться вне Советского Союза. Соответственно, этот запретный плод превратился в своего рода культ, и ротапринтные копии его работ 1920-х годов на серой бумаге переходили из рук в руки тайно наравне с книгами Солженицына. Каждая наука приходит в конце концов к мифу в самом высоком значении этого слова. К нему же приходит всякое искусство, любое порождение культуры. Можно сказать, что Фрейд – творец совершенно новой мифологии, и, как всякое биение жизни, это внушало немалые надежды. Недаром он был удостоен национальной литературной премии за свои труды. Недаром его неотступный поиск истины, его смелость, его открытия и его заблуждения, одним словом, его гений, хотим мы этого или нет, перевернул мир, проложил новую дорогу и сказал душе неизмеримо важные слова – о ней самой.
Как внимательно вчитывались в неясные копии фрейдовских книг советские врачи и психологи! О сексе пишет – почти уголовное дело. Главным во фрейдизме, вопреки распространенному стереотипу, является отнюдь не сексуальность, а то, что колоссальная часть нашей личности, нашего внутреннего мира скрыта от нас и управляет той частью, которая нам кажется «повседневной», и мы не знаем себя. Психоанализ, в отличие от поздних течений вроде гештальт-психологии, не дает возможности для личностной трансформации, для того, чтобы человек сам изменил себя, но может быть великолепным импульсом к самопознанию.
Психоанализ начался с открытия метода свободных ассоциаций. От пациента не требовалось ничего, кроме денег («Успех анализа зависит в первую очередь от того, насколько больной в него верит. А поверить проще, когда платишь врачу существенные деньги», – рассуждал Фрейд) и потока болтовни, в которой рано или поздно проявлялись мотивы забытых событий, когда-то травмировавших психику. Пациента полагалось уложить на кушетку и сесть у него в головах – эту диспозицию вместо прежней «глаза в глаза» Фрейд ввел после того, как одна дама в процессе лечения взялась выделывать всякие непристойности, желая соблазнить его.
Феноменально влияние, которое теории Фрейда оказали на психологию, литературу, философию. Недаром его неотступный поиск истины перевернул мир, так близко подобравшись к устройству человеческой души. Даже его ошибки дали начало новым научным направлениям, а его личная история – новым мифам. В великолепном цикле работ «Художник и фантазирование» Фрейд оговаривается, что механизм воздействия художника на читателя – «его сокровеннейшая тайна». Будучи высокообразованным человеком, любителем разного рода искусств, Фрейд с упоением анализирует воздействие творчества на душу и пытается разгадать его неисчислимые загадки. Все это похоже на захватывающий детектив, но все же везде чувствуется нежное уважение к тайне, страстное желание не препарировать труп, а побродить по таинственным коридорам сокровищницы духа. В исследователе, строгом ученом живет страстный, увлекающийся и одаренный поэт.
Казалось бы, Фрейд разобрал в человеке все. Но нет! В какой-то момент он ушел в общечеловеческие проблемы культуры, в результате в самой психологии остались неразработанные им места, чем и воспользовались его ученики. Например, все слышали об экстравертах и интровертах. Экстраверты отличаются непосредственностью, с доверием движутся навстречу людям и событиям, открыто выражают как дружеские, так и враждебные чувства. Они предпочитают не замыкаться в себе, решать дела – ссориться или мириться. Они обычно оптимисты, энтузиасты, готовы практически помогать или вредить. На них держится большая часть повседневной общественной работы. Недостаток экстравертов – поверхностность. Их настроение сильно зависит от впечатления, которое они производят на окружающих. Они любят успех, несамокритичны. Привержены к стандартам, стереотипам и не всегда надежны. Легко сходясь с людьми, они также легко от них отдаляются. Экстравертов выше ценят среди широкой общественности, чем в семье или в интимных отношениях. Интроверты сосредоточены на внутренних субъективных переживаниях. У них мало доверия к людям. Их главная черта – необщительность. Они с трудом преодолевают дистанцию между собой и другими. Предпочитают уходить в себя в непривычной и раздражающей обстановке. Интроверт напоминает улитку, которая при любой опасности прячется в свою раковину. Чувствительность интровертов к мнению окружающих проявляется в стыдливости, совестливости. В случае конфликта с окружением они берут вину на себя. Интроверты часто неловки, стеснительны. Они – не светские люди. Чувствуют себя одинокими в шумных компаниях, которым предпочитают книги, собственные мысли, одного-двух интимных друзей, которым всецело преданы. Интроверты в большей степени способны к самоконцентрации и упорной работе, чем экстраверты, и чаще развивают свои таланты выше среднего уровня, а в творчестве достигают больших успехов. И это все не Фрейд придумал – это Юнг.
Комплекс неполноценности – это тоже не Фрейд, это Адлер. Фрейд лишь кратко коснулся этой темы при сравнении женщин и мужчин. Он полагал, что женщина чувствует себя неполноценной по отношению к мужчине. Адлер пошел дальше. Половые отношения формируют у молодых людей чувство неполноценности. У девочки оно возникает потому, что к ней с самого детства относятся как к существу «второго сорта». Ее возможности изначально ограничены, поскольку огромная часть выигрышных, превосходящих социальных позиций занята мужчинами. Но и у молодых людей нередко возникают сомнения, являются ли они «настоящими мужчинами», достаточно ли у них отваги, ума, свирепости, силы и других качеств, которые связывают с мужским идеалом. Быть мужчиной означает для большинства быть у власти, быть «наверху», а быть женщиной – означает подчиняться, быть «внизу». Фрейд констатировал неполноценность женщины, связывая ее с женской анатомией и женской «завистью» к пенису. Адлер считал, что физиологически и психологически оба пола равноценны, и это должно стать незыблемым принципом воспитания. Неравенство полов он объяснял неравенством социальных ролей мужчины и женщины, различием культурных требований к мужскому и женскому поведению. Протест против униженного положения, связанного с полом, Адлер называл «мужским протестом» и подчеркивал, что его можно наблюдать как у девушки, так и у юноши, который боится, что его назовут «бабой», «тряпкой», «девчонкой». В любом случае, то, что мы сейчас понимаем под понятием «комплекс неполноценности» – это от Адлера, не от Фрейда.
Затем появился еще один еврей-психоаналитик – Эрих Фромм. Фромм родился в 1900 году во Франкфурте в еврейской семье. Предки его по отцовской линии были раввинами, а мать, Розе Краузе, была из русских эмигрантов. Он закончил университетское образование в Мюнхене, а затем в берлинском институте психоанализа получил диплом психоаналитика и в 1925 году стал врачом. Он расширил лечебную процедуру психоанализа, превращая ее в доверительное, чуть ли недружеское общение с пациентом. Гуманистический психоанализ, так сказать. И Фромм тоже довольно быстро отходит от фрейдизма. Фрейд показал, что в основании рациональных утверждений могут лежать бессознательные, иррациональные мотивы. Фромм идет в своем политическом мышлении гораздо дальше Фрейда. Он указывает на необходимость для общества гуманистической религии, на политическую сторону задач воспитания, образования, предлагает смелые проекты социальных институтов и групп общения, в которых бы свободно удовлетворялись интеллектуальные, творческие, дружеские потребности. Так от психиатрии и психопатологии психоанализ сдвигается в область социологии. Фрейд видел источник вытеснения в бессознательном страхе кастрации. Фромм считает таким источником угрозу изоляции, которая висит над всяким инакомыслящим. С точки зрения психоанализа, антисемитизм, ставящий перед собой цель физического уничтожения евреев, представляет собой одну из злокачественных форм некрофилии, болезненной страсти к разрушению и агрессии. Фромм убедительно показал, что Гитлер посылал на смерть и уничтожение миллионы евреев, реализуя некрофильский и садистский комплексы. Люди не просто подчиняются силе и авторитету, но и мыслят так, как того требует общество или его непререкаемый лидер. «Коллективное бессознательное» – это тоже не Фрейд.
Часто говорили, что Фрейд так погрузился в бессознательное, что забыл о сознании. Для него бессознательное – глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит перед собой задачу помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Трояким образом. Можно силой исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия пыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями откровенности. И можно, наконец, дождаться с величайшим терпением случая, когда, в состоянии ослабленной настороженности будет высказано то, что скрывалось. Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, подавляя волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было известно, что человек знает о себе больше, чем он сознательно признается перед самим собой и другими, но они не умели подойти к этому подсознательному. Только месмеризм показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в трансе, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собою, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался поначалу самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное, как от способа неэтичного и малопродуктивного. Подобно тому, как судопроизводство на более гуманной ступени добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно добытых признаний.
Единственный пациент, с чьим неврозом Фрейду никак не удавалось справиться, был он сам! «Этот анализ труднее любого другого», – вздыхал он. С некоторых пор у него случались периоды глубокой депрессии. Много лет Фрейд панически боялся ездить по железной дороге, а когда преодолел этот страх, заимел другой – опоздать на поезд, так что стал приезжать на вокзал за несколько часов до отправления. Еще он неведомо почему боялся оказаться в Риме. По всей Италии путешествовал не раз, а в Рим – ни-ни! Табу! А когда преодолел себя, стал болезненно рваться в Рим, так что уже и жить без этих поездок не мог. Сам он объяснял это отзвуком детского полуотторжения-полуочарованности католицизмом…
Даже знаменитая фрейдовская коллекция древностей (греческих, римских, египетских, всего 3000 предметов) была лишь болезненным проявлением его невроза. Все эти вазы, статуэтки, амулеты, кольца – по той же схеме, что и столица Италии, одновременно и завораживали Фрейда, и тревожили его: они служили материальным доказательством, что все проходит, что жизнь пронизана смертью. Смерти же Фрейд боялся до жути. В канун нового 1901 года, когда все кругом праздновали наступление нового столетия, он грустил: «XX век примечателен тем, что содержит день моего ухода из жизни»… Он все пытался предугадать дату – наиболее вероятным ему казался почему-то 1907 год. Это предчувствие оказалось ложным.
Но многое во фрейдизме осталось неизменным и общепринятым. Что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения – с этим сейчас никто не спорит. Только во сне человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить наконец в обладании божественной свободой свои затаеннейшие чувственные фантазии. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, по-видимому, гласит первичная формула.
Это первое в ряду других положение Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение – это как бы неизжитое желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть, как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавной салонной игрой, выражающейся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний.
Кто без особых оговорок поднял учение Фрейда на щит, так это не врачи, а художники и писатели, особенно сюрреалисты. «Католический фрейдизм» Сальвадора Дали; его общественная деятельность в форме обнародования скандальных интимных признаний; сознательное и абсурдное смешение авангардистских лозунгов с архитрадиционалистскими и все прочее, что исходило от него, было выражением одной всегда соблюдаемой жизненной установки: атаковать обезумевшую историю, обезумевший разум, обезумевшую реальность с позиций абсолютной, тотальной бредовости.
Фрейдистские взгляды были настолько усвоены многими лидерами сюрреализма, что превратились в их способ мышления. Они даже не вспоминали о том, из какого источника взято то или иное воззрение, тот или иной подход. Так, Макс Эрнст развивал свое зрительное воображение, созерцая предметы прихотливой, иррациональной конфигурации. Тем самым он, разумеется, использовал советы Леонардо да Винчи, но, без сомнения, они были восприняты через призму Зигмунда Фрейда, который по-своему интерпретировал эту склонность к завороженному созерцанию разводов на старой стене или причудливых скал, возбуждающих в воображении неожиданные образы и их комбинации. Что же касается чисто «фрейдистского» метода Сальвадора Дали – писать картины в еще не совсем проснувшемся состоянии, пребывая хотя бы частично во власти памяти о сновидениях, то об этом уже говорилось и дополнительные комментарии здесь не нужны.
Этот принцип подтвердил и сам Дали в своем «Завоевании иррационального» (1935): «Все мои притязания в области живописи состоят в том, чтобы материализовать с самой воинственной повелительностью и точностью деталей образы конкретной иррациональности».
Считается, и не без оснований, что именно Сальвадор Дали был чуть ли не главным проводником фрейдистских взглядов в искусстве XX века. Не случайно он был единственным из современных художников, кто сумел увидеться с престарелым, больным и замкнутым Фрейдом в его лондонском доме в 1938 году. В то же самое время Дали удостоился одобрительного упоминания Фрейдом в письме последнего к Стефану Цвейгу – тоже случай уникальный, поскольку Фрейд, по-видимому, не имел представления о развитии искусства в XX веке и не интересовался современными ему течениями живописи. Его собственные вкусы были старомодны, и в его венском кабинете лишь репродукция с одной из картин Беклина напоминала о существовании этого вида искусства.
По признанию Дали, для него мир идей Фрейда означал столько же, сколько мир Писания означал для средневековых художников или мир античной мифологии – для Ренессанса. Чисто внешним проявлением этой внутренней связи является то обстоятельство, что Дали часто цитирует, перефразирует, пересказывает мысли Фрейда. В «Дневнике одного гения» мы можем обнаружить немало таких апелляций к Учителю. Его имя не упоминается, но для западного читателя это имя не составляло тайны. Вот лишь один пример. «Ошибки всегда имеют в себе нечто священное, – говорит Дали. – Никогда не пытайтесь исправлять их. Наоборот: их следует рационализировать и обобщать. После того станет возможным сублимировать их». Ссылка на Учителя здесь и необязательна, потому что перед нами – одна из самых общеизвестных идей фрейдизма: мысль о том, что ошибки, обмолвки и остроты – это своего рода неконтролируемые выбросы кипящей, бродящей материи подсознания, которая таким образом прорывает застывшую корку «эго».
Неудивительно и то, что «Дневник» Дали открывается не чем иным, как цитатой из Фрейда: «Герой есть тот, кто восстает против отцовского авторитета и побеждает его». Этот тезис имел для Дали особый смысл: он означал и ключевые факты его личной биографии (разрыв с отцом), он указывал на общественную позицию художника и его роль в политической жизни (отношения с государством, с законом, с «вождями народов»). Может быть, можно говорить и о метафизическом смысле этого текста: ведь отношение Дали к «небесному отцу» постоянно склонялось к какой-то люциферовской дерзости, искусительности, независимости.
Примечательно, однако же, что Дали как будто не замечал одного противоречия в своей личности и в своем «Дневнике». Он относился к Фрейду, по сути дела, как к духовному отцу и никогда ни в чем не проявил непослушания, не усомнился ни в одном слове. А ведь Дали знал, что незаурядная личность просто не может не бросить вызов отцовскому авторитету, и не просто поставил соответствующую цитату на самое видное место, но и придерживался соответствующей линии и в своей жизни, и в своем творчестве. Только одно исключение, только одно нарушение можно констатировать: «отцовский» авторитет Фрейда стоял выше всякой критики. А ведь самые талантливые «потомки» Фрейда, Юнг и Адлер, как раз откололись от ортодоксального фрейдизма, как раз «восстали против отцовского авторитета», словно подтверждая тем самым тезис Фрейда.
Уже писалось выше, что многие ортодоксальные врачи, включая немецкого профессора Адольфа Штрюмпеля, по учебникам которого учились не только в Германии, но и в России, относились к фрейдизму отрицательно. Другое дело – свободные художники! Обновленная Фрейдом психология привлекала к себе широкое внимание и выглядела буквально как новый взгляд на человека, на его историю, его религию, его искусство. Опытные данные замечательного психолога, его проницательность и глубокое знание человеческой натуры подтверждали и освящали устремления сюрреалистов. Более сильного союзника трудно было найти.
Фрейдизм вызвал широкий и громкий резонанс у художников. Он не был просто вызывающим философским тезисом. Он был более или менее научным течением, он предлагал и предполагал эмпирическую и опытную проверяемость своих постулатов и выводов, он разрабатывал практические клинические методы воздействия на психику – методы, дававшие несомненный эффект. Он был укоренен не только на университетских кафедрах, не только в сознании интеллектуалов и в академической «истории идей». Он неудержимо завоевывал себе место в более широких сферах общественного бытия. И он исключал мораль и разум из самих основ жизнедеятельности человека, считая их поздними, вторичными и даже во многом обременительными образованиями цивилизации. Во всяком случае, примат разума и морали не признавался.
Семья, религия, государство, конституции, заповеди, обычаи, правила этики, логические понятия, эстетические нормы и критерии следовало понимать с позиций фрейдизма как нечто условное. Безусловна же и абсолютна бессознательная жизнь со своими особыми законами, сложившимися, быть может, за миллионы лет до того, как появились понятия о добре и зле, о Боге, о разуме. Доцивилизованные и даже, быть может, вообще дочеловеческие пласты психической жизни приоткрывались перед психоанализом при всех его передержках и перекосах (которых не избежал и сам Фрейд).
Здесь нет возможности более основательно рассмотреть эту тему с разных сторон. Фрейдизм вовсе не одинаково воспринимался разными художниками. Да и сам он не однороден. Уже в годы бурного развития дадаизма и сюрреализма Юнг и Адлер пытаются трансформировать учение Фрейда, «исправить» его и соединить с антропологией и этнологией, с историософией. Сам Учитель был недоволен и удручен таким поворотом событий.
Последняя книга Фрейда появилась уже в то время, когда сюрреализм вступил в свою зрелую стадию. Именно поздняя, «мифологическая» ипостась фрейдизма могла бы стать главной «собеседницей» зрелого искусства Макса Эрнста, Рене Магритта, Луиса Бунюэля, Эжена Ионеско, Сальвадора Дали. Однако же вопрос о том, насколько они были знакомы с новым фрейдизмом эпохи книги «Цивилизация и ее тяготы», остается открытым. Работы позднего Фрейда и туманны, и эзотеричны, и отвлеченны – во всяком случае, по сравнению с энергичной ясностью, строгостью доказательств и умелым, доходчивым изложением его довоенных работ. Возникает впечатление, что для художников существовал единственный Фрейд – тот, кто описывал «Эго»и кто разрабатывал методы психоаналитической помощи и оставил в обиходе европейцев такие ходовые понятия, как «эдипов комплекс» или «комплекс неполноценности». Они были квиты – художники и их кумир. Они делали очень сходное, можно сказать, общее дело, но оставались друг для друга непроницаемыми.
Дали в дневнике пишет: «В день, когда я посетил высланного в Англию Фрейда, незадолго до его смерти, он сказал мне:
– В классических картинах я ищу подсознание, в сюрреалистических ищу то, что сознательно!
Иначе говоря, это означало приговорить сюрреализм как доктрину и сектантство, чтобы классифицировать его в «состояниях духа» – так же у Леонардо драма стиля включала трагизм искусства. Фрейд особо занимался в то время «религиозным феноменом Моисея». Я вспоминаю, с каким трепетом он произносил слово «сублимация»: «Моисей – это сублимация во плоти». Отдельные науки нашего времени специализировались на изучении трех констант жизни: сексуальный инстинкт, чувство смерти и страх пространства-времени. Эти ценности, раз проанализировав, важно сублимировать: половой инстинкт в эстетике, чувство смерти в любви, страх пространства-времени в метафизике и религии. Довольно отрицать! Надо утверждать. Довольно стремиться к излечению. Надо сублимировать. Стиль заменит автоматизм, техника – нигилизм, вера – скептицизм, строгость – небрежность, сдержанность – непринужденность, индивидуализм и иерархия – коллективизм и единообразие, традиция – экспериментаторство».
Эта встреча произошла 19 июля 1938 года. Сальвадор Дали пришел поклониться Фрейду, высланному фашистами в Англию, как своему духовному наставнику. Их встречу в Лондоне организовал Стефан Цвейг. Дали пришел к Фрейду вместе со своей женой Галой и с английским писателем, миллионером, владельцем картины Дали «Метаморфоза Нарцисса» Эдуардом Джеймсом. Эту картину они принесли с собой и показали ее отцу психоанализа. Бесспорно, она его заинтересовала. «Было бы весьма интересным аналитически исследовать процесс создания этой картины», – писал он на следующий день после визита Дали Стефану Цвейгу.
Во время этой беседы Дали попросил Фрейда прочесть его статью о паранойе, если у мэтра психоанализа найдется на это время. Дали настаивал, что это не причуда сюрреалиста, а научное исследование, и горячился, а Фрейд продолжал молчаливо рассматривать его. Когда Дали взволновался до предела, Фрейд обернулся к Цвейгу:
– Сроду не видывал такого – настоящий испанец! Ну и фанатик!
Так что утверждение о том, что у Сальвадора не было кумиров, несколько опрометчиво. Его кумиром всегда был Фрейд. В своих откровениях он писал:
«Я утверждаю, что Фрейд не что иное, как «великий мистик наизнанку». Если бы его тяжелый и приправленный всевозможными густыми, вязкими материалистическими соусами мозг, вместо того чтобы бессильно повиснуть под действием притяжения самых потаенных, скрытых в глубинах планеты земных клоак, устремился бы, напротив, к другой головокружительной бездне, бездне заоблачных высот, так вот, повторяю, тогда этот мозг напоминал бы уже не отдающую аммиачным запахом смерти улитку, а был бы точь-в-точь как написанное рукой Эль Греко Вознесение. Не устаю благодарить Зигмунда Фрейда и громче прежнего славить его великие откровения.
Мозг Фрейда, один из самых смачных и значительных мозгов нашей эпохи, – это, прежде всего, улитка земной смерти. Впрочем, именно в этом-то и кроется суть извечной трагедии еврейского гения, который всегда лишен этого первостепенного элемента – Красоты, непременного условия полного познания Бога, который должен обладать наивысшей красотой».
Но не только художники пили из фрейдовского ручья. Несомненно, антропология также обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но, помимо этого, в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно: впервые истолковать биологический смысл сновидения как некоей душевной необходимости. Наука уже давно постигла, каково значение сна в хозяйственном обиходе мироздания: он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим казалось бы, что совершеннейшей, с гигиенической точки зрения, формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такой, с виду наиболее целесообразной, формой отдохновения? Почему при неизменной осмысленности всех ее явлений она оживила черную завесу сна колдовской игрой видений? Почему еженощно тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология до Фрейда ничего не могла ответить.
Вернемся теперь к теме «Фрейд и еврейство» и к его книге о Моисее. Фрейд хотел объяснить происхождение особого характера еврейского народа, характера, который сделал возможным его выживание до наших дней. Он полагал, что этот характер запечатлел в евреях Моисей, дав им религию, которая возвысила их чувство собственного достоинства настолько, что они стали считать себя лучше всех остальных людей. Очень трудно представить, что один человек может создать такую стройную религию на пустом месте, но Фрейда этот не смущает. Соответственно, полагает он, держась в стороне от других народов, евреи и выжили. Смешение крови особенно не мешало этому, так как вместе их держал фактор идей, общее владение определенным интеллектуальным и эмоциональным богатством. «Религия Моисея», как называл иудаизм Фрейд, привела к такому результату, потому что она утверждала, что евреи были избраны Великим Богом и им суждено было получить доказательства его особого благоволения. Она обусловила рост их интеллектуальности, который, сам по себе достаточный, кроме этого открыл путь к высокой оценке умственного труда и к дальнейшему ограничению инстинктов. Сложно сразу разглядеть умственный труд у кочующих пастухов и позже – у оседлых земледельцев, но пророки иногда поражали народ великими прозрениями.
Фрейд предположил, что «религия Моисея» была поначалу отвергнута и наполовину забыта, а позже переросла в предание. Он полагал, что этот процесс повторился тогда во второй раз. Когда Моисей дал людям идею единственного Бога, это не было нововведением, а возрождало то, что было пережито человеческим родом в первобытные времена и давно исчезло из сознательной памяти людей. Действительно, Авраам, Исаак и Яаков жили задолго до Моисея. Но оно было настолько значительным, создало и провело в жизнь такие глубокие изменения в жизни людей, что Фрейд не может не поверить в то, что оно оставило после себя некоторые неизменные следы в человеческой психике, которые можно сравнить с преданием.
Дальнейшее развитие темы неизбежно ведет Фрейда за рамки иудаизма. Остаток того, что вернулось из трагической драмы первоначального отца, уже больше никак нельзя было совместить с учением Моисея. Чувство вины в те времена уже далеко не ограничивалось одним еврейским народом; оно охватило все средиземноморские народы, как предчувствие беды, причину которого никто не мог найти. Разъяснение подобного депрессивного состояния, по Фрейду, пришло со стороны еврейства. Фрейд пишет, что в конце концов именно в душе еврейского человека, Савла из Тарсуса (апостол Павел), впервые появилось это осознание. Фрейд цитирует Павла: «Причиной того, что мы так несчастливы, является то, что мы убили Бога-отца». Интересная цитата. Ее нет в Новом Завете Библии. Максимум, что Павел написал, было: «…Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают…» (1 Фессалоникийцам 2:15). Больше ничего про убийства Павел не писал. Странно.