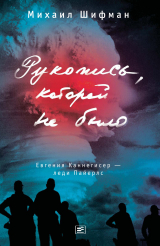
Текст книги "Рукопись, которой не было. Евгения Каннегисер – леди Пайерлс"
Автор книги: Михаил Шифман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Университет
Школу я закончила в 1926 году, и передо мной встал вопрос: чем заниматься дальше? Понятно, что идти в университет, но на какой факультет? Гуманитарные специальности отмела сразу, несмотря на любовь к литературе, которую мне привил Исай. В те годы история, литература, юриспруденция и т. п. были продолжением той же школьной политграмоты. Родители и родственники, связанные с медициной или биологией – а их было много, – в один голос советовали медицину. Практичная специальность, врачи много зарабатывают и т. д. В общем, понятно. Но туда меня совершенно не тянуло. И я сделала выбор, всех удививший, – физика. А причина была проста: студенты физмата показались мне умнее и образованнее, чем на других факультетах. Я была романтичной девушкой, и мне казалось, что вижу вокруг них сияние, которое меня притягивало. В те годы девушек на физмате практически не было.
Но тут вставала другая проблема. В университет не принимали детей из семей «бывших»: дворян, купцов, кулаков, священников, царских чиновников и офицеров, нэпманов и прочих «буржуазных элементов». Исай в то время уже не работал на Свирьстрое, мама никогда не работала; доход нашей семьи складывался из гонораров, полученных в основном от частных издательств за переводы. Поэтому надо мной мечом нависло «неправильное» социальное происхождение. К тому же фамилия Каннегисер… Когда я в первый раз принесла свои документы в приемную комиссию, их просто не приняли. «Ваш отчим – буржуазный элемент, – сказали мне, – вам не положено быть в университете».
Я спряталась в каком-то дворике и долго ревела. Так, зареванная, и пришла домой. Вечером у нас был семейный совет: мы решали, что делать. Исай очень логично объяснял, что никакой он не буржуазный элемент, а труженик. Мы с мамой были с ним полностью согласны, но как объяснить в приемной комиссии, что он труженик, если он не рабочий, не крестьянин и не работает ни в каком советском учреждении? Я опять расплакалась.
Неожиданно мама обернулась к Исаю: «А не спросить ли нам совета у Якова Ильича Френкеля?»
С Яковом Ильичом и его женой Сарой Исааковной мы иногда встречались в гостях у Александра Гавриловича Гурвича, двоюродного брата Исая. У Гурвичей было две дочери – младшая, Наташа, была мне почти ровесницей, и мы близко дружили. В 1926 году Якову Ильичу было чуть больше тридцати, но он был уже известным физиком-теоретиком, автором нескольких открытий и монографий. Он работал в Ленинградском физико-техническом институте, но читал лекции и в университете.
Вечером следующего дня Исай и я поехали к Френкелям. Застали Якова Ильича и Сару Исааковну играющими со своим трехлетним сыном. Отдав ребенка няне, они усадили нас за стол, где гостей уже ждал чай. Сначала я рассказала, что со мной произошло в приемной комиссии, стараясь изо всех сил не расплакаться. Яков Ильич задавал мне вопросы, какие – уже не помню. Потом говорил Исай. Яков Ильич помолчал, видно было, что он обдумывает ответ.
– Хорошо, обещать ничего не могу, но я разузнаю в деканате.
Прощаясь, он улыбнулся мне в дверях, похлопал по руке и сказал:
– Женя, в нашей стране любой труд уважаем. Думаю, что все будет хорошо.
Интересно, думал ли он то же самое, умирая в 1952 году?
В университет меня приняли 30 июля 1926 года. Декан отозвал меня в сторону и предупредил, что диплом об окончании Ленинградского университета я не получу: «Дать вам диплом мы не можем. Но выдадим справку, что вы прослушали такие-то курсы с такими-то результатами».
Мне было все равно. На четыре года вперед я не заглядывала.
Курс обучения на физфаке тогда был рассчитан на четыре года. Я пишу «рассчитан» чисто по привычке, на самом деле никто ничего не считал. Учились мы своеобразно, совсем не так, как сейчас учатся студенты. Экзамены сдавали почти круглый год – в любом порядке и в любой последовательности. Никто не интересовался, каков этот порядок, можно было сначала сдавать какие-то предметы за четвертый курс, а потом – за первый. Подходили сами к профессору и договаривались о сдаче. Слушали лекции, ходили на семинары, но больше читали учебники и обсуждали их друг с другом.
Никакой твердой программы не было, а курсов было немного. Вот я открываю зачетную книжку, которую зачем-то храню на память, и вижу, что на втором курсе я сдала электричество, семинар по математике, механику (первую часть) и теорию функций комплексных переменных, а на третьем – статистическую физику, оптику, военную санитарию, уход за больными и учение о лекарствах. Довольно хаотичный набор, да?
Было у нас три лабораторных практикума: на первом курсе – по механике и молекулярной физике, на втором – по электричеству и оптике. На этих двух практикумах мы должны были сделать около двадцати пяти заданий. Третий лабораторный практикум был на третьем курсе. Там надо было выполнить шесть работ, уходило примерно по неделе на каждую. Они были посложнее – фотографирование спектров и т. д. Дмитрий Иваненко (речь о нем впереди) отличался остроумием. Он написал руководство, как сдавать третий практикум. Надо было делать все наоборот: заранее придумать результат, потом определять статистический разброс и т. д.
Ландау никак не мог сдать этот третий. Все разводили руками и не знали, что делать. Потом все пошли к декану (Тверскому):
– Что делать? Есть такой гениальный юноша, Ландау, но сдать третий практикум никак не может.
– Ну, пусть он вместо этого сдаст два математических курса за математический факультет, – решил Тверской.
Дау сдал их за две недели.
Я немного забежала вперед, упомянув Ландау и Иваненко. Не знаю, как это произошло, но вокруг них сложился фантастический круг, и я в него попала! Fabelhaft[3]3
Невероятно (нем.).
[Закрыть]. Ландау любил, когда его называли Дау. Иваненко (в просторечье Димус) был в ЛГУ с 1923 года, а Ландау с 1924-го, оба были известны всем физматовцам. Ландау вообще был гением. В этом никто не сомневался. Когда я с ним познакомилась, он уже писал свою первую научную работу в Zeitschrift für Physik[4]4
Физический журнал, издавался в Германии с 1920 по 1975 год. До Второй мировой войны был главным в мире журналом по физике.
[Закрыть].
Кажется, это было в октябре. Туман. Особенный, петербургский туман. Я опаздываю на лекцию. И прямо в коридоре, в мокром плаще, сталкиваюсь с небрежно одетым молодым человеком. Все в нем мальчишеское. И копна волос, и худое бледное лицо, и искорки в глазах… Не знаю, как получилось, но я протянула ему руку и сказала:
– Женя Каннегисер.
– Ландау, можно просто Дау.
После паузы:
– Приходите сегодня вечером к Ире Сокольской.
Всё. Он пошел дальше не обернувшись.
Иру Сокольскую я уже знала. Она была умной и симпатичной девушкой и прекрасно рисовала. В ней текла польская кровь. Мне успели рассказать, что все мальчики физмата были поочередно влюблены в нее. Всем она предпочла Андрея Ансельма, за которого вышла замуж через несколько лет. Позже она стала профессором в ЛГУ[5]5
Ирина Леонидовна Сокольская в 1936 году была приглашена на кафедру электрофизики. Позднее – профессор ЛГУ, специалист по электронике твердого тела.
[Закрыть].
В тот вечер, дома у Иры Сокольской, Ландау познакомил меня с Георгием Гамовым, или Джонни (Джо), и Дмитрием Иваненко, или Димусом. Так я влилась в «джаз-банд». Ура! Не знаю, почему они так назвали свой кружок. Тогда джаз считался буржуазной отравой. Злопыхатели – а их было немало – умышленно добавляли одну букву в конце: «банда».
Ландау – или Дау, как к нему все обращались, – был моим ровесником, но по поведению казался мальчиком. Характер у него был очень неровный, с пиками и падениями, и у него были проблемы с женщинами. Наверное, я еще напишу об этом. Впрочем, ему прощалось все, ведь во всех шутках и студенческих розыгрышах он был заводилой. Начальство доводил до белого каления. Разыгрывать начальство составляло для него необъяснимое удовольствие. Ландау сначала жил у своей тети, Марии Львовны Брауде, которая заботилась о нем. Потом снял комнату. Подыскать жилье ему удалось не сразу. Вначале он попытался снять комнату у известной актрисы, но получил отказ. Когда я узнала об этом, села за стол, и мое перо само написало:
Стан согнутый, глаз прищуренный,
Худ и бледен, как мертвец,
А Самойловой-Мичуриной
Нужен пламенный жилец.
Непонятно, как у меня возникает строфа в голове. Что-то сдвигается, и сразу выплывают все слова в нужном порядке. Наверное, Исай Бенедиктович сумел мне это передать. К тому же были в нашей семье и другие поэты.
Иваненко был милый улыбчивый мальчик со странными, удлиненными глазами. Как две рыбки на лице. Он больше молчал, чем говорил. Шутки он любил почти так же страстно, как и Дау. В то время Мариэтта Шагинян в «Вечернем Ленинграде» печатала «Месс-Менд» – с продолжением. В романе – Джим Доллар. Иваненко начал писать пародию на Шагинян под названием «Пит Стерлинг». Иллюстрации рисовала Ирина Сокольская, на них заметно было портретное сходство персонажей с Абрамом Федоровичем Иоффе, Френкелем и другими. К сожалению, это издание так и не было доведено до конца.
Димус снимал комнату на Васильевском. Студентам комнаты сдавали охотно – это освобождало от оплаты за дополнительную площадь. Студенты платили около пятнадцати рублей в месяц – с уборкой, электричеством, водой, кипятком утром и вечером; потом плата немного повысилась. Прежде чем Иваненко удалось снять комнату по вкусу, он пересмотрел много других. Ничего не подходило.
Три окна и площадь средняя,
Ванная и телефон,
Есть отдельная передняя,
Академии район.
Хоть прекрасно предложение,
Отрицателен ответ:
«Далеко буду от Жени я,
И трамвая к Дау нет…»
Однажды поздней осенью он подошел ко мне в коридоре после лекции.
– Давай я провожу тебя домой, на Моховую.
– Димус, но тебе же это вовсе не по дороге.
– Меня это не смущает.
Он стал приглашать меня в Летний сад. Сначала я отказывалась, но Димус выглядел таким несчастным. Мне хотелось по-матерински погладить его по голове и подбодрить. В Летнем саду мы гуляли, взявшись за руки. Я влюбилась. То есть тогда мне казалось, что пришла серьезная безмерная любовь; дома по вечерам меня даже немного знобило от возбуждения. Только после того, как я встретила Руди, я поняла, что такое настоящая любовь. С Димусом – да, была первая любовь, о которой я начиталась в романах. Я создала его из своего воображения и в течение полутора лет считала себя его невестой. А потом все прошло само собой, будто пелена спала, у меня чуть раньше, у него чуть позже.
Небо было пламенно-лиловым,
Дмитрий Дмитрич оседлал конька,
Что ни слово – стих из Гумилева,
Фраза из Ахматовой, строка.
Длительны прогулки по аллеям
В Летнем фантастическом саду.
Димус проповедует Рэлея,
Женя засыпает на ходу.
Хотя мне тогда исполнилось восемнадцать, сердечный опыт был очень небольшим. Трое или четверо мальчиков ухаживали за мной в школе, но как-то вяло, и обычно эти увлечения заканчивались после первых же каникул. В те годы раннего большевизма общее отношение к любви было радикальным. В нашей боргмановской библиотеке лежала подшивка «Правды». Однажды, заглянув в нее, я наткнулась на статью известной большевички, в которой прочла:
«Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой…»
В ходу были лозунги: «Комсомолка, не будь мещанкой – помоги мужчине снять напряжение!»
Я была воспитана на другой культуре и другой любви и, разумеется, не причисляла себя к комсомолкам. Хотя подчеркивать это на людях не стоило. Так что меня эти лозунги не касались. Думаю, что все участники джаз-банда в той или иной мере разделяли мои взгляды. Может быть, кроме Дау. Сейчас, конечно, все это – древняя история.
Гамов-Джонни был старше всех нас. Когда меня с ним познакомил Ландау, Гамову было уже двадцать два года. Он был высокого роста, стройный, лицо с правильными чертами. Совершенно неэмоциональный и рассудочный. Говорил очень высоким голосом («Канарейка на десятом этаже», – сострил как-то Руди). В общем, полная противоположность мне. У меня было прозвище Женя Крикулькина. А сестру Нину звали Нина Крикулькина. И тем не менее мы с Гамовым стали близкими друзьями.
Гамов не меньший мастер на всякие розыгрыши, чем Дау: посылал Дау мифические телеграммы, содержавшие будто бы экспериментальные подтверждения тех или иных гипотез, а затем – в следующей телеграмме – сообщение об их опровержении…
Вы все – паладины зеленого храма,
По водам де Бройля державшие путь,
Барон Фредерик и Георгий de Gamow,
Эфирному ветру открывшие грудь.
Ситуация с деньгами у Джонни была самой тяжелой из всех нас. Его отца, потомственного дворянина, естественно, обобрали до нитки. Джонни приходилось зарабатывать самому, причем никак не меньше пятидесяти рублей в месяц. Приехав в Ленинград в 1922 году и поступив в ЛГУ, он сразу же устроился наблюдателем на метеорологическую станцию Лесного института. (На подобной станции через несколько лет буду работать и я.) Станция помещалась в железной башне, где зимой был дикий холод. Правда, там стояла печурка, но ее надо было топить, и надо было пилить дрова, а на это Гамов был никак не способен. Когда однажды на метеостанцию пришел главный начальник, в журнале Гамова не оказалось ничего, ни одной строчки записи.
– Я думал, что самописцы сами все делают, сами записывают, – оправдывался Гамов.
Его с треском выгнали.
Он раньше всех из джаз-банда закончил университет, в ноябре 1924 года, и, поступив в аспирантуру ЛГУ, одновременно начал работать в Оптическом институте и преподавать в мединституте. Конечно, я не могла удержаться, и вот росчерком пера появился куплет:
Он блондинкам типа лямбда
Объясняет цикл Карно…
Физика врачам обуза,
Но глядите результат:
Пять студенток из медвуза
Переходят на физмат.
20 октября 1927 года был день рождения Иры Сокольской. В праздновании участвовали Гамов, Дау, Иваненко. Меня в тот день почему-то не было, так что дальнейшее я слышала от Димуса, с которым мы тогда еще гуляли по Летнему саду. Ира и три мушкетера пошли в «Асторию» – тогда там была столовая, где можно было пообедать за двадцать пять копеек. За два часа Гамов, Дау и Иваненко в подарок Ире написали научную статью и тут же послали ее в «Журнал Русского физико-химического общества», даже не перепечатав на машинке. Статья называлась «Мировые постоянные и предельный переход». Она вышла через несколько месяцев и сначала не вызвала никакого интереса. Кажется, даже сами авторы забыли о ней. Спустя двадцать с лишним лет, в 50-е годы, Руди сказал мне, что эта работа стала знаменитой.
В отличие от многих, Гамов мало интересовался политическими новостями. Газет не читал – спрашивал у друзей, о чем, собственно, идет речь, что такое оппозиция или какая платформа у той или иной группы. Когда ему начинали объяснять, он очень быстро терял всякий интерес, утверждая, что суть ему понятна, а детали не нужны.
Ну, и запоздалый член джаз-банда, Матвей Петрович Бронштейн. Аббат. Это я привела его в круг Ландау. Познакомились мы с ним ранней весной, по-моему, 1927 года. Стояли лужи, чирикали воробьи, дул теплый ветер, и я, выходя из лаборатории где-то на Васильевском острове, повернулась к невысокому юноше в больших очках, с очень темными, очень аккуратно постриженными волосами, в теплой куртке, распахнутой, так как неожиданно был очень теплый день, и сказала: «Свежим ветром снова сердце пьяно». После чего он немедленно продекламировал все вступление к этой поэме Гумилева. Я радостно взвизгнула, и мы тут же по дороге в университет стали читать друг другу наши любимые стихи. И, к моему восхищению, Матвей Петрович прочитал почти всю «Синюю звезду» Гумилева, о которой я только слышала, но никогда ее не читала.
Придя в университет, я бросилась к Димусу и Джонни – в восторге оттого, что только что нашла такого замечательного человека. Все стихи знает и даже «Синюю звезду»! Разумеется, он был приглашен и появился на первом же собрании джаз-банда.
Аббат учился не на физфаке, а на математическом отделении, в группе астрономии. В те давние времена астрономия считалась частью механики. Попав в наш кружок, он быстро стал его полноправным членом. Так же быстро Бронштейн догнал Дау и Джонни в физике. У него была серьезная математическая база, и это, в сочетании с природной любознательностью, привело его к квантовой гравитации.
Я помню его взгляд сквозь очки, которые у него почти всегда сползали на кончик носа. Он был исключительно «цивилизован», он не только все читал, почти обо всем думал, но для очень молодого еще человека он был необыкновенно деликатен по отношению к чувствам и ощущениям других людей, очень благожелателен, но вместе с тем непоколебим, когда дело шло о «безобразном поведении» его друзей.
Джаз-банд
Собирались мы часто – либо у Иры Сокольской, либо у нас на Моховой, 26. Пожалуй, наша квартира на Моховой была более популярной. Здесь к нам присоединялись Исай Бенедиктович с его неисчерпаемым запасом литературных историй и конечно же Нина. Она училась на биофаке на кафедре Александра Гавриловича Гурвича. Позднее он взял ее к себе в Институт экспериментальной медицины.
Однажды, посреди горячей дискуссии, Нина сказала:
– Хватит уже этих прозвищ: Дау, Джонни, Димус, Аббат… Давайте говорить, как все нормальные люди: Ландау, Гамов, Бронштейн…
Дау немедленно назвал это предложение «нинизмом», обвинив сочувствующих в предосудительном стремлении к солидности. «Это ли нам нужно?» – спросил он.
Одной из его забав была классификация женщин. Ландау делил всех женщин на красивых, хорошеньких и интересных. Еще два «бросовых» класса – «выговор родителям» и «за повторение расстрел» – он добавил чуть позже. Никогда не спрашивала Дау, в какой класс он поместил меня. Надеюсь, что в третий, и не дай бог в четвертый. Брр… Теория женской красоты Ландау разошлась по всему миру. В первом номере журнала «Шуточная физика», посвященном 50-летию Бора (1935), Отто Фриш и Георг Плачек опубликовали – не знаю, как и назвать, – статью, заметку или юмореску «Об измерении коэффициентов красоты по Ландау». И они действительно проводили измерения! Ха-ха-ха…
Помимо трех мушкетеров и Иры Сокольской, Андрея Ансельма, Матвея Бронштейна, меня и Нины частыми участниками наших сумасшедших вечеринок были сестры Наташа и Аня Гурвич (дочери Александра Гавриловича Гурвича), Валентина Иоффе (дочь Абрама Федоровича Иоффе), Виктор Амбарцумян, Маша Левина (мамина племянница) и братья Элевтер и Ираклий Андрониковы. Вероятно, именно в нашей квартире Ираклий впервые выступил со своими устными рассказами. Сближала нас не только физика, но и дебаты до изнеможения об истории, литературе, поэзии.
Как-то Исай Бенедиктович рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при переводе книги Анатоля Франса «Воззрения аббата Жерома Куаньяра». Мы все дружно бросились ее читать. Матвей Бронштейн получил свое прозвище Аббат не только благодаря своей образованности, но и по герою этой книги.
Для вечеринок специально писали тексты для представлений на злобу дня или придумывали шарады-мистерии. По эскизам Иры Сокольской делали костюмы; а когда начиналось представление – дым стоял коромыслом: буквально переворачивали все вверх дном! Пожалуй, не буду скромничать, мои куплеты всегда принимались на ура. Жене Крик, то есть мне, дружно аплодировали. Обратите внимание на аллюзию с Лилей Брик!
Мама и Настя пригревали и кормили всю ораву.
Джаз-банд издавал свой рукописный журнал, он назывался «Physikalische Dummheiten» («Физическая абракадабра»). Основными авторами были Ландау, Гамов, Ансельм, Бронштейн и я. Иваненко был главным редактором. В этом журнале публиковали шуточные стихи о профессорах физфака, иногда весьма критические и, как я сейчас понимаю, обидные. Впрочем, холодный сатирический водопад низвергался и на нас самих. Отклики на новости науки тоже представлялись в шуточной форме, например «Книга пророка Паули» – о только что сформулированном принципе Паули. Там же из номера в номер шел роман Димуса о Пите Стерлинге. В 1928 году вышел последний номер «Абракадабры». Из его эпиграфа:
И смело за пси-пси с чертой
Мы все пойдем на смертный бой.
Этот год оказался последним и для джаз-банда. Во-первых, Дау поссорился с Димусом (позднее эта ссора перешла в ненависть). Во-вторых, летом 1928 года Гамов отправился на стажировку в Европу. В октябре 1929 года туда же и за тем же отправился и Ландау. Он вернулся только весной 1931-го. Ну и самое главное, с концом НЭПа политическая ситуация в стране стала меняться к худшему, хотя тогда я это и не вполне сознавала. Вольности и шутки прежнего счастливого времени теперь стали неуместными или даже опасными.
После одной из последних вечеринок на Моховой мамин брат Борис Давыдович Левин сказал: «Вот дом, который проглядело НКВД». Но, увы, не проглядело.
Мои встречи и прогулки с Аббатом и Витей Амбарцумяном (мой милый Амбарц) продолжались; иногда мы вместе ходили в театры или на концерты. Встречалась я и с Ландау после его возвращения из Копенгагена в марте 1931-го и до моего отъезда с Руди. Пожалуй, об этих встречах я напишу отдельно. Когда в 1931 году Руди приехал в Ленинград, он уже свободно говорил по-русски. Совместная работа с Ландау была только что закончена в Цюрихе. Они даже успели обсудить ее с Бором в Копенгагене. Дау очень обрадовался своему новому соавтору и тут же дал ему прозвище Паинька.








