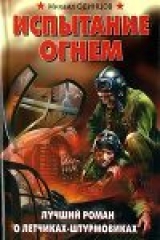
Текст книги "Испытание огнем. Лучший роман о летчиках-штурмовиках"
Автор книги: Михаил Одинцов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Группа штурмовиков, скручиваясь пружиной, снижалась к земле. Новая атака «мессеров». И один «ил», разорвав спираль и все больше увеличивая угол пикирования, понесся к земле. «Видимо, конец кому-то». Но смотреть за ним Осипову было некогда… «Если свежие не подойдут, то эти «шмитты» скоро нас бросят. У них, должно быть, горючее на исходе. Ведь они с задания шли». Эта мысль обрадовала Осипова: «Земля уже близко. Еще одна-две атаки, и снизу мы будем неуязвимы».
– Держаться друг за другом. Выходить из круга – солнце на правый борт. Еще один оборот.
Снова шестерка злых «ос» бросилась в атаку. «Кого будут атаковывать?… Так, задние пулеметы у всех работают».
Чей-то «ил» ударил по фашистскому истребителю, тянувшемуся к Осипову. Трассы летчика и Конакова встретились у мотора врага. «Мессершмитт» вспыхнул и, перечеркнув круг штурмовиков своей траекторией полета, врезался в задворки деревеньки.
– Выходим из круга на славянский курс[19]19
Славянский курс – курс полета около 90 градусов, то есть на восток. Противник, за редким исключением, был западнее аэродромов базирования советской авиации, поэтому в обиходе и появился этот термин, определяющий полет домой.
[Закрыть], солнце справа. – Матвей посмотрел назад: «илы», выйдя из правого виража, под острым углом слева шли на него. Три… А где же пятый? – Конаков, где еще «горбыль»?
– Сзади четыре.
– Я вижу трех.
– Борубай справа нас прикрывает, но у него что-то неладно, дымит…
Атака сверху, разворот вправо, под атакующих. Пулемет с короткими передышками опять начал выбивать огненную дробь.
– Бору, как там у тебя?
– Плохо, сейчас садиться буду. Ни воды, ни масла в моторе – все вытекло.
– До линии фронта километров пятнадцать.
– Не дойду. Сажусь.
Осипов посмотрел назад: «ил» с отворотом в сторону от полета пошел на посадку.
– После посадки, Бору, по воде, по оврагам уходи, но сначала не к линии фронта…
Еще три минуты полета, и Донец отделил зло боя от жизни.
Матвей глубоко, с сожалением вздохнул. Осмотрелся. Четыре «ила» рядом. «Яков» тоже не видно. «Видать, у «шмиттов» ни горючего, ни снарядов больше не было. А то бы еще истерзали. Эхма, да не дома. Дома же сейчас тоже будет несладко. Всыплют по первое число».
Незасеянное поле мягко ударило самолет по «животу», и «ил», нагребая на себя чернозем и одичавшее разнотравье, пополз к оврагу, занося правое крыло вперед. Отдав энергию полета земле, он в изнеможении затих, распластав по траве широкие, теперь уже беспомощные крылья. «Ил» перестал быть штурмовиком.
Последним мгновением движения Борубая отбросило назад, и это послужило для него сигналом к новой жизни. Он понял: «Жив. Полет закончился».
Выскочил из кабины на моторный капот, встал во весь свой невысокий рост.
– Сверчков, вблизи никого. Уходим без шума. – Выдернул карту из планшета, сунул ее за одно голенище, радиотаблицу позывных – за другое. – Ты нигде не поцарапан?… Ну, побежали. Теперь чем быстрей и дальше уйдем, тем лучше.
– Давай, командир, я за тобой…
Экипажу повезло. Войск противника вблизи не оказалось… Прошел уже час, а Борубай и Сверчков все еще двигались на запад.
«Сколько можно уходить в тыл? – думал летчик – Чем дальше уйдем, тем больше нужно будет пройти обратно. По следу спокойно. Наверное, никто не видел нашей посадки. Плюхнулись с бреющего под общий шум группы. Надо остановиться, одуматься и выработать план».
– Сверчков, стоп. Давай малый привал…
– Уходить, командир, надо.
– Нам домой надо, а мы от своих убегаем… План такой: сначала определимся, где мы находимся, а потом наметим, как будем выходить на линию фронта и где переплывать Донец. Ты плавать-то умеешь?
– Не очень, но переплыву. Смеялись на перекуре с ребятами, когда кто-то сказал, что «два сапога в одной связке тонут быстрее, чем один», а вот теперь придется форсировать, если доберемся.
– Доберемся, если не ошибемся… Нам надо вылезать из оврага наверх. Мой дед Балты говорил, что заяц никогда в низине не отсиживается, а только на бугорках, чтобы видно было. В лес не полезем, потому что там войска могут от нашей разведки прятаться. Идти будем полем и оврагами друг от друга метров на сто-двести. До войск на линии фронта пойдем днем, а через Донец – ночью.
– Понял. Можно я впереди пойду?
– Это зачем? Разведчиком?
– Тебе лучше будет видно, что делать дальше. Если влипнем, так я один.
– Ну, это ты брось. Первым пойду я. Мне, охотнику, виднее.
– Командир, я же городской. И в этой природе – поле, лес, болото, овраги, речки, кочки – ни черта не понимаю. Если от тебя потеряюсь, то пропаду.
– Не потеряешься. В тылу несложно. Но на линии фронта надо смотреть да смотреть. Там надо быть невидимкой – шаг без треска, патрон без осечки, а выстрел без промаха… Посиди здесь, я на разведку выберусь.
Сверчков остался один. От тишины звенело в ушах, хотелось пить, но овраг был сухой. Он был недоволен собой, так как не смог убедить командира в порядке передвижения. Он боялся не за себя, не за то, что «потеряется». Ему хотелось как-то обезопасить командирскую жизнь от случайного выстрела, может быть, и мины. Если идти по-волчьи, след в след, то второму уже легче. Если первый попал в засаду, то у заднего еще есть хоть и маленький, но шанс.
«Ну ладно, потом еще попробую».
…С детства полюбившаяся степь была хорошо знакома и понятна Борубаю и как пастбище, и как поле охоты. Ему были знакомы чувства и охотника, и пастуха, охраняющего стадо от сильного и осторожного зверя. И теперь эти два противоположных опыта объединились в единое стремление – обмануть, выжить и выйти к своим. Он все время шел так, чтобы ему было видно как можно дальше. Шел открыто и не боялся. Успевал увидеть и услышать врагов раньше, чем они его. Сверчкову поведение командира казалось странным, похожим на колдовство. Но на самом деле ничего загадочного не было. Степь была для Борубая родным домом. Он все время искал и ждал врага, и это позволяло ему видеть первым… И только когда солнце упало на край степи, а даль из розовой превратилась в темно-синюю, летчик разрешил себе и стрелку отдых.
– Хватит мышковать[20]20
Охота лисицы на мышей со стороны выглядит странно: зверь бежит, петляет по полю, потом внезапно остановится, вернется назад и т. д.
[Закрыть], пора и отдохнуть, а то в темноте напоремся на кого-нибудь. Спать будем по-заячьи, так спокойней.
– Разве тут уснешь. Что значит по-заячьи?
– Спина к спине и на бугорке: теплее, видно и слышно.
– Я буду дежурить.
– Не надо. Я все услышу с закрытыми глазами.
– А если сцапают?
– Ничего не будет. Раз до сих пор нас не гоняли, то ночью не будут. На следе никого нет.
…Недоспанная накануне ночь, волнения двух вылетов, не менее чем 20-километровый пеший и голодный рейд по немецким тылам сломили бодрствование летчика – Борубай уснул… Он смежил веки только на одно мгновение. Закрыл и открыл, но увидел уже утро. Разбудили самолеты. Под пронзительно-синим куполом утреннего неба неторопливо гудели три косые линейки пеленга[21]21
Пеленг – строй (боевой порядок), когда самолеты занимают место с одной стороны от командира группы и, как правило, проектируются на одной линии.
[Закрыть] «илов». А выше, как мальки в воде, ходили истребители. Толкнул стрелка и лег на спину, чтобы лучше было видно небо.
– Чей-то полк идет. Опять, наверное, на аэродром… Не наши. Мы таким кособоким строем не ходим. Видишь, все самолеты справа от ведущего. Командир может разворачиваться только влево, а вправо маневра нет. Передние самолеты не могут помочь огнем задним, левый – самому правому. Кто-то придумал же такую дребедень, а теперь люди мучаются… Ждать возвращения будем?
– А кто их знает, где они обратно пойдут. Это сытому можно ждать. У нас же «кишка кишке кукиш кажет».
– Чудак, натощак легче бежать. Сытый зверь лежит или спит, а голодный бегает. Так и мы.
– Ладно уж Мы все же человеки… Давай командуй.
– До речки километров пять, может, семь осталось. Теперь, наверное, больше ползти будем. Фрицы тут чувствуют себя в полной безопасности: впереди вода, оборона на высоком лесистом берегу. Их спокойствие нам на руку.
…Перебежки, переползания и переходы прошли удачно. Солнце было еще высоко в небе, когда Борубай уловил запах и свежесть воды. Теперь надо было посмотреть за врагом – разведать спуск к реке: «Не возят же на передний край воду из тыла. А если так, то где-то есть тропинка, по которой ночью ходят к речке. Где бы я ее себе оставил? С самого крутого бугра или из низинки, из овражка? Наверное, из овражка. И землянку бы в нем вырыл – работы-то наполовину меньше, а жить безопаснее».
Солнце жгло. Язык и губы стали сухими, шершавыми, руки и коленки саднили. Но Борубай все полз и полз вдоль предполагаемого переднего края, выискивая подходящее место. Наконец в низинной поляне он увидел две ручные тележки с бочками на них, а рядом дымившую походную кухню. От бочек тропинка дугой сбегала в лес, падающий под уклон. Вдоль лесного прогала тянуло ветерком… Выход к воде найден. Но река для летчика была и близкой, и бесконечно далекой. Где-то там, у конца тропки, обязательно будет охранение. За берегом всегда смотрят. И во всех сомнительных случаях его освещают и простреливают. А если еще есть собака?
– Сверчков, вот она, «дорога жизни». Только не всегда прямая дорога короче кривой. Может, еще поищем?… Только ползать тут тоже небезопасно.
– Лучше наверное, командир, тут отсидеться. Сколько можно высматривать и выжидать? Может, они за водой и не ездят.
– Может, может. Знать бы, что на том конце тропинки: колючая проволока, блиндаж, окоп, дзот? Какие-нибудь рогульки с развешанными банками выставляют на ночь? Тронешь, и зазвякает эта гадость… Хорошо бы туман перед утром.
– «Да ночку потемней».
– Не зубоскаль. Нас не так уж много через фронт к своим вышло.
– А чего плакать раньше времени. Люди на смерть с песней ходят, а мы к дому пробиваемся.
– Я не за слезы. Шутливое настроение может привести к потере осторожности… Значит, остаемся здесь? Я изучаю тропу, а ты наблюдаешь за тылом.
…Два лагеря, тайный и явный, жили каждый своей жизнью. Фашисты вели себя так, как будто в сотнях метров от них и не было линии фронта; в тайнике летчиков была тишина, постоянная настороженность, нервы натянутые, как струны. От неподвижности мышцы окоченели. Тела от волглой земли прозябли, и все чаще их била непроизвольная дрожь. Хотелось быстрее темноты и действия.
Наконец солнце закончило свой дневной круг по небу. И голубой цвет в седлообразном развале берега пропал. Небо на востоке загустело до черноты. Она стала разливаться по всему небосводу. Появились звезды. Но они не освещали землю, а давали лишь возможность людям увидеть окружающий их огромный мир бескрайности и сличать с ним свои устремления.
Темная тишина, разрываемая взлетами осветительных ракет и дежурными пулеметными очередями, волнами накатывалась на длинные и томительные минуты ожидания. Темнота, пропахнув лесом и дымом кухни, все больше наполнялась нетерпением пилота и стрелка, с которым пока еще справлялась их осторожность.
Борубай ждал: «Если не завтра, то сейчас фрицы поедут за водой. Тянуть им время нет никакого расчета, ночь-то короткая. Нам же переходить надо или как можно раньше, или перед самым утром. Сейчас еще ночной настороженности мало, а на рассвете появится сонливость».
– Сверчков, разуваемся: идти будем тише и плыть – легче. Подождем еще полчаса… Пойдем – ты по правой, а я по левой стороне тропы.
– Понял, командир.
…Послышалось движение. Потом в отсвете далекой ракеты появился качающийся призрак на колесах. Послышался тихий гортанный разговор, и мимо прокатилась тележка. Оси были хорошо смазаны, и колеса вращались неслышно. Прозвучало несколько непонятных слов, и в воздухе остался только звук шагов.
Борубай успокоился: «Без фонарей идут, не рискуют ими пользоваться. Это уже удача».
– Пошли следом, только не оступись.
Двигающихся впереди было не видно. Выручал доносившийся ритм движения. «Спасибо кованым сапогам да широким голенищам, а то хоть пропади… Ага, пост. Разговаривают… Поехали дальше. Часовой стоит справа, значит, надо идти за левыми деревьями. Только бы не мины».
По-прежнему у реки, где-то сбоку от тропы, в небо изредка взлетали осветительные ракеты. «Что же лучше? Ложиться на землю, когда она светит, или стоять, где застала? Осматривать местность или зажмуривать глаза, чтобы потом, когда она потухнет, можно было сразу идти вперед». Но сколько Борубай ни пытался уловить момент свечения, ничего из этого не получалось. Ракета всегда оказывалась в небе неожиданно и притягивала взгляд своей яркостью, а потом он ничего не видел внизу. Сначала было страшно, но они заставили себя не падать на землю, пока дрожащий свет освещал землю. Неподвижность была менее заметна среди деревьев, нежели суматошное падение неизвестно на что. Чувство страха, что тебя видят отовсюду, постепенно прошло. Надо было рисковать: лучше стоять, прижавшись к дереву, и постараться что-то увидеть вокруг себя, нежели ползти подобно кроту.
…Летчик забрал стрелка на свою сторону. Отошел с тропы на шаг в лес. Дальше уходить было опасно: можно заблудиться и подорваться. Шли, держась за руки, след в след. Борубай поднимал ногу и, прежде чем поставить ее, голой ступней долго ощупывал, что лежит на земле. Иногда наклонялся и рукой готовил место для ноги.
Впереди вновь послышался приглушенный разговор, потом булькающие звуки переливаемой жидкости. Борубай слушал разговор и звук воды, наливаемой в бочку, а в ушах больше всех звуков звучали свои слова: «Близко!… Спасение совсем рядом!…» И от этих немых, сильно бьющих в сердце мыслей росло нетерпение и хотелось идти еще быстрее. Но он сдерживал себя, тормозил каждый шаг. «Если все правильно, то до поста еще шагов пятьдесят-сто… Придется выжидать… Пока не разберусь, рисковать не буду. Дальше идти нельзя».
Он «слушал бочку». Чем больше наливали в нее воды, тем глуше становился звук падающей струи. Не видя берега, он уже был уверен, что тележка от берега стоит недалеко, потому что каждое новое ведро немцы приносили через тридцать-сорок секунд. «Или лес вплотную к воде, или чем-то замаскирован выход тропы к реке… Выползать только тропой и по ней к воде… Только тут нет мин. И пост где-то совсем рядом с берегом…»
Воду наливать перестали. Поехали… Темноту лесного прогала заполнила движущаяся чернота.
Борубай и Сверчков затаились лежа, стараясь как можно тише и реже дышать. Сейчас решалось почти все. Эти уйдут, и перед ними останется дозор и река.
– Wir kommen noch einmal.
– Gut[22]22
– Мы придем еще раз.
– Хорошо (нем.).
[Закрыть].
Разговаривали совсем рядом.
«Значит, до остающихся на дежурстве метров двадцать и там столько же…» Двое прокатили бочонок в трех метрах. Сердце Борубая от волнения стучало так громко, что его тревожное напряжение сильными толчками отдавалось в виски. Лицо горело. Вспотевшие руки мелко дрожали, а разутым ногам стало холодно. Борубай нащупал рукой стрелка, нашел его ухо и, сдерживая дыхание, зашептал:
– Пока эти уходят, шумок надо использовать. Нас тут не ждут. Мы их раньше увидим. Придется стрелять в упор. Стреляю я – и сразу в воду. Немцев двое. С тропы никуда. Я первый выхожу…
Вышел на тропу. Постоял, успокаивая дрожь волнения и напряжения в ногах. Не оглядываясь, услышал совсем рядом прерывистое дыхание стрелка и левой рукой отодвинул его назад. Сделал по-кошачьи десять шагов и замер в неподвижности; не нашел, где находилось охранение. Нужно было вновь лежать. Ждать ракету или услышать разговор.
По напоенному приречной сыростью воздуху издали приплыли звуки шагов, опять шли хлябающие широкие голенища и кованый каблук. Катили вторую бочку. «Или их опередить, или вновь прятаться и ждать?… Если ждать, то наверняка увидим, где передние немцы… Чертовы фрицы, давайте ракету, а то поздно будет. Уползать уже надо».
За левую пятку ухватилась рука стрелка и стала дергать ногу в сторону.
Впереди что-то звякнуло, послышались шаги и тихий голос:
– Das seint Sie wieder[23]23
– Это опять они (нем.).
[Закрыть].
Взлетевшая ракета ударила бичом по нервам. В ее пульсирующем полумраке Борубай увидел два человеческих силуэта в касках, метрах в пяти от себя, и лежа выстрелил в одного и сразу в другого. Вскочил уже в темноту.
– Вперед…
Два прыжка. Еще два выстрела в лежавших – и прямо в мелкий ивняк. Река… Шагнул на тускло блестевшее зеркало. Окунулся сразу с головой. Вода кинулась ножами в прорехи обмундирования, обожгла холодом, обхватила грудь обручем, не давая вдохнуть.
Широко открытый рот торопливо хватал воздух, как при удушье, но самое страшное уже было позади. Первый, самый маленький вдох был сделан. Дыхательные мышцы не свело судорогой, они начали работать… Увидел: стрелок выскочил из кустов.
– Прыгай. Сейчас начнется. – Повернулся к другому берегу и услышал сзади громкий всплеск испуганное «ох». И в это время ночное небо вспороли несколько ракет, за ними сразу еще и еще. Вода в этом мертвом свете показалась тяжелой ртутью. Борубай заставил себя нырнуть и, чтобы освободить руки, сунул пистолет в карман.
Сделал руками гребок, который вытолкнул его из воды. Оглянулся на чужой берег: на тускло блестевшей воде в трех метрах от него черным шаром виднелась голова стрелка.
– Под водой плыви. Давай, ждать больше нельзя.
Вновь нырнул… Из-под обмундирования с хлопаньем вышел последний воздух, и теперь его уже не выталкивало вверх. Мышцы живота судорожно заставляли сделать вдох. Вынырнул. Вверху висели «фонарики» тревоги. Два жадных вдоха, и снова водяная темнота…
Вода под обмундированием от тела согрелась, а кожа пообвыклась и уже не слышала холода. Плыть стало легче.
«…Поспокойнее и экономнее движения. Выныривать надо лицом вверх… Нет, лучше больше не нырять. Сейчас, пока есть воздух, повернись на спину и всплывай наверх… Так… Теперь тихо, очень аккуратно надо высунуть наружу нос и рот…»
Борубай, едва шевеля руками, поднял грудь выше ног, чуть запрокинул голову назад… Живительный воздух полился в грудь, наполняя исстрадавшееся тело эликсиром жизни.
«Теперь незаметно вперед…»
Ноги и руки не торопясь проталкивали тело к другому берегу. А над головой все продолжали взлетать ракеты. Через тонкую водяную пленку до ушей доносился разнобой автоматной стрельбы.
«Около меня пуль нет, значит, не заметили. А стреляют, наверное, по темным местам, где плохо видят… Похоже, что стреляют теперь с двух сторон… Однако холодно стало… Обидно, если судорога утопит…»
Время проявлялось только через треск разрывавшейся вверху осветительной ракеты да глухой стук пуль о воду. И всякий раз сердце подавало тревожный сигнал новой опасности, ждало огонь по себе, отчего Борубаю хотелось спрятаться под воду и сжаться в маленький комочек. И только после того как настороженная мысль отмечала: «Не по мне. Не видят… Не поддавайся страху», – руки и ноги вновь брались за дело… Пловец теперь уверился в том, что его не видят с берега, оставшегося сзади, и изменить что-либо может только чистая случайность. Но ощущение опасности не пропало. Вначале он все время ждал пули в торчащий из воды подбородок, а теперь от этого ощущения зачесалось темя… Настывшее тело, близкая возможность спасения и нарастающая возможность чьей-то ошибки со своего берега по-новому обострили чувства. Почему-то предстоящее виделось ему на фоне красной дали, из которой вырывались картины гибели и радости спасения…
Наконец ноги зацепили грунт, и он, подтолкнув себя еще дальше, спиной почувствовал ровную покатость прибрежного дна. Еще усилие, и затылок лег на сухую землю. Тело расслабилось. Еще лежа на спине, поднял голову, посмотрел на речную даль. Вода спокойно катилась влево, на ровной глади ничего. На другом краю струящегося темного серебра черная стена вражеской обороны.
«Где же стрелок?… Мог раньше выплыть и теперь, как и я, отдыхает на берегу… Может, течением снесло… Теперь только ждать…»
Замерзшее тело начало дрожать. Дрожь добралась до зубов. Чтобы они не стучали, Борубай крепко сжал челюсти, перевернулся на живот.
– Эй, на берегу! – позвал осторожно.
– Мы тебя давно видим. Выползай прямо, тут неопасно. Мин нет.
…В землянке Борубая отогрели. Растирка и внутренний водочный «сугрев» свалили его с ног. Очнулся от сонного беспамятства утром… Оделся в сухое. Живой и целый, но без радости. Стрелка не было. Не переплыл. Никто его не видел. Сгинул человек
День клонился к вечеру. У командного пункта полка стоял Митрохин с командирами и еще раз уточнял порядок на завтра. Убедившись, что все его поняли, решил попрощаться с подчиненными, но в это время перед глазами выросли две фигуры: Осипов и Борубай. Младший лейтенант и командир полка шагнули друг другу навстречу и обнялись, как сын с отцом.
– Рад, очень рад видеть тебя. Поздравляю с возвращением. Пошиванов, принимай отважного казака. За одного битого двух небитых дают. Молодец, что выбрался. Здоровайся со всеми… Не ранен, не побит?… Где стрелок?
– Нет стрелка, товарищ командир. Или утонул в Донце, или убит, когда переплывали. Вот документы о моем переходе линии фронта…
Митрохин читал в молчаливой тишине. Закончив, передал справку Сергееву и Мельнику.
– Жаль, хороший был паренек. Тебя, Борубай, никто ни в чем винить не собирается… Случай. Могло получиться и так, что никто бы не переплыл. За настойчивость хвалю. Надо, начальник штаба, собрать летчиков, пусть пилот расскажет о своем опыте. Может, и пригодится кому.
– Командир, – вступил в разговор Мельник, – справка написана так, что не очень поймешь судьбу Сверчкова. Ночь есть ночь. Кто там в темноте все разглядит. Ясно одно: документ подтверждает, что два человека под огнем переплывали реку. Один выплыл, второго нет. Но семье не все равно: «пропал без вести» или «погиб в бою смертью храбрых».
– Конечно, надежда – и нет надежды.
– Не только это. Но и нет пенсии или есть пенсия.
– Это тоже верно…
– Не будем предрешать. Пусть Борубай передохнет денек Напишем рапорт об обстоятельствах перехода линии фронта, а потом решим, как быть…
– Скажи нам, – обратился он к летчику, – у тебя есть какие-либо замечания и претензии к Осипову по вашему вылету?… Может быть, ошибки командира группы привели и к потерям, и к неисполнению задачи?…
– Какие могут быть претензии? – возмущенным, резким тоном переспросил Борубай. – Не надо нас обижать, товарищ подполковник. Мой командир – настоящий командир! Хороший друг – джаныбар[24]24
Джаныбар (двойное значение) – конь или «имеющий душу» (кирг.).
[Закрыть].
В глубокой задумчивости, походкой уставшего человека ушел Маслов с КП. Он радовался возвращению Борубая и грустил о судьбе Сверчкова. В сознании у него не оставалось сомнения в справедливости выражения «погиб смертью храбрых»: возврата на западный берег у воздушного стрелка не было. Там остались два вражеских трупа. «Возвратившегося» простить немцы не могли.
Закончив рабочий день, Маслов отправил эскадрилью на ужин, а сам медленно пошел к ручью. Хотелось уединения… Березовая куртина встретила его тишиной.
Здесь был свой, особый мир: зеленокосые, белоствольные сестры-красавицы, опушенные по бокам дружным кустарником, прикрывали легкой тенью чудо степного края – прозрачный холодный родник Пробиваясь из земли тонкой говорливой струйкой, ключ поил, одарял силой, прохладой и успокоением каждого пришедшего к нему, а потом бежал по овражку в никуда, растворяясь в жизни трав и свете солнца. Любили это место соловьи, полюбил и полк Пили люди ледяную воду ключа. Берегли от небрежности.
Маслов нагнулся к ручью, зачерпнув в ладони искрящейся прохлады, напился из живого блюдца и не торопясь растер влажной рукой лицо. С тех пор как погибла семья, сумерки всегда пробуждали в нем желание одиночества. И когда уединение удавалось, то мысли унос или его от войны в прошлое, в котором почти всегда отыскивались милые сердцу подробности, возвращающие ему силу и уверенность в будущем. Он присел и, облокотившись на колени, стал смотреть на рождение воды: она, переполняя дощатый сруб, серебристым бугорком переливалась на волю и устремлялась по низинке в недалекий свой путь.
Вспомнилась ему река Пана, на которую он не раз ходил с дедовской артелью искать жемчуг. Речная гладь реки спала среди зеленых берегов. На плесах – лебеди, а в заводях – утки. Иногда вода замирала удивленным зеркалом, отражая небо, сосны, березы и редкие огненные осины. Белые березочники, чистые и высокие сосновые боры, горящие медью стволов, перемежались темными ельниками и черными скалами. Неожиданно гладь реки переграждалась порогами, и тогда вода бросалась на бурые валуны, поднимающиеся со дна, и зло шумела.
«Как на войне, – подумалось Илье, – оплошать нельзя. Река не только искупать, а и убить может. Так и бой, вырастая из тишины, порогом жизни становится».
А в тишине все журчала непрерывающаяся издревле вода ключа… Соловей давно перестал обращать внимание на присутствие человека и неторопливо занимался распевом своего голоса, он все больше усложнял свои упражнения и, наконец, от простых пощелкиваний повел свои песни на самых высоких регистрах.
Пение постепенно завладело Масловым без остатка. Он сидел, закрыв глаза, и ощущал состояние легкого опьянения и сладкого ожидания все новых и новых звуков. Подвижность и полная свобода голоса птицы напомнили ему великую Нежданову, и он удовлетворенно подумал, что человеческий голос ушел несравненно дальше соловьиного по тембру, по плотности и силе, по своему невероятному проникновенному звучанию.
Вдруг соловей замолчал, и Маслов услышал шаги. Оторвав взгляд от воды, он увидел Горохову.
Неожиданная встреча испугала ее.
– Ой!… Я вам помешала?
– Ну, что вы… Ключик общий… Проходите.
– Я быстро. Наберу фляжку и уйду.
– Зачем же быстро? Посидите, коли пришли. Сейчас, наверное, опять соловей запоет, вместе и послушаем.
– Случилось что-нибудь, товарищ капитан?
– Да как сказать. Борубай через фронт перешел, а стрелок не вернулся. Я давно уже здесь сижу, все на воду смотрел и думал о своей жизни, о молодости, о жемчуге вспомнил.
– При чем тут жемчуг?
– А при том, свет-Васильевна, что только в чистой воде он водится. Где живет семга, там может быть и жемчужница. У нас, поморов, поверье есть: жемчужины зарождаются в жабрах семги. Раковины же открываются только в солнечный день, и рыба опускает в какую-то из них искру жемчуга.
– Как интересно! А вы, Илья Иванович, жемчуг находили?
– Находил. Но недорогой. Бывает он серебристым, желтоватым, розовым, но самый редкий – черный, с мерцающими невидимыми звездочками… И у каждого человека свой любимый цвет. Вот вы для меня, например, черная жемчужина.
Лицо Гороховой вспыхнуло, она вскочила со скамейки.
– Не надо так, товарищ капитан.
Маслов тоже встал.
– Елена Васильевна, я вас не хотел обидеть. Жемчужиной всегда называли самое красивое, самое лучшее. Так на Руси издавна повелось… Давайте ваши фляжки. Я наберу воды и пойдем. Не подумайте плохо. Мне уже тридцать два года, и никакой семьи нет. Иметь же новое счастье не собираюсь. Не до этого. Убиваю врага – успокаиваюсь. Сердце щемит, душа не болит.
– Я, Илья Иванович, не обиделась. Испугалась ваших слов.
Еще в августе прошлого года приехала в полк вдова Горохова. Появилась неожиданно, без предупреждения, и этим вызвала некоторую растерянность у Митрохина и Мельника.
Через несколько дней, после обычных в таких обстоятельствах разговоров, Мельник решил отправить Елену Васильевну «домой», но не тут-то было.
– Фрол Сергеевич, а зачем вы торопитесь меня выпроваживать?
– Мы вас не выпроваживаем, а хотим помочь с отъездом.
– Товарищ комиссар, это ваш и мой полк Здесь погиб мой муж, и я хотела бы посильно его заменить.
– Как же это можно? Летчик и учительница – профессии и возможности разные.
– А что, девочки-оружейницы особые учебные заведения кончали? Неужели я их дело не освою? Приняли они меня хорошо, мы уже и подружились.
– Они призваны в армию, а вы гражданский человек – молодая, образованная и красивая женщина. Елена Васильевна, вам надо учить детей. И на этом поприще вы принесете больше пользы.
Разговаривая с ней, он пытался найти неопровержимые мотивы, которые бы укрепили его позицию.
– Спасибо за характеристику. Но тридцать лет – это уже не такая и молодость. Детей у меня нет, поэтому и меня призвать могут. Только в этом вы мне должны помочь.
– Легко сказать «помочь». Это все не так просто делается… Я вижу, вы с моим мнением не согласны. Пройдемте к командиру.
У Мельника пониже ушей от плотно сжатых зубов катались желваки. Он то хмурился, то собирал морщины на лоб. Ему давно стало ясно, что у Гороховой все приготовлено для отказа. Но таких аргументов сразу не нашлось. Надо было выиграть какое-то время для обдумывания ситуации и только потом продолжать разговор.
– Если нет возражений, то пригласим и начальника штаба. Вместе обсудим…
– Мне возражать сейчас, как будущему красноармейцу, уже не положено, – и улыбнулась с хитрецой.
Пока шли, Мельник перебрал в голове возможные варианты отказа, но вразумительного ничего не нашел. «Призвать ее могут, тем более что по личному желанию. Если не к нам, то в другое место. Но если в другое любое место могут, то почему не к нам? От нас ходатайство райвоенкомату, и вопрос будет решен положительно… Что же «за» и что «против»?… За – она полковая вдова. Наш, свой человек. Ей и нам дорога память о Горохове. Человек она грамотный, все может… Против – молодая, красивая, бездетная, у ней вся жизнь еще впереди. Рано или поздно ей нужно будет устраивать свою личную жизнь. А если она это начнет рано, если не замужество в полку, а просто так: «Бери от жизни все, что можешь». Возьмем позор на свою голову, надсмеемся над памятью погибших, опозорим в ее лице не только память Горохова, но и остальных наших жен».
– Елена Васильевна! И хорошо, и трудно будет вам служить в полку мужа. Все дела и поведение ваше однополчане будут рассматривать втройне с пристрастием и через призму памяти о погибшем. Сложно это очень быть все время на виду, все время под перекрестным огнем…
– Фрол Сергеевич, я этого не боюсь и поняла, о чем вы не сказали, но подумали. Я не обижаюсь… Вы правы… Однако меня нужно тоже правильно понять: я должна продолжать борьбу мужа, пока у меня хватит сил…
«Сражение» выиграла женщина. В полку появился новый солдат – Горохова. Попытки определить ее в штаб писарем потерпели провал. Можно было приказать, но Митрохин от этого метода отказался: Горохова была определена оружейницей в экипаж Шубова. Сделано это не случайно было. Вдова пришла туда, где раньше служил се муж
Зима для Гороховой прошла быстро. Опыт учителя помог ей войти в новую жизнь, а знания – освоить новую профессию.
Чем больше Елена Васильевна видела войну, поведение людей в минуты смертельной опасности, тем больше она проникалась уважением к повседневному их мужеству. Из личного горя вырастала новая большая гордость за погибшего мужа. Его образ, не теряя теплоты, очищался от повседневности.
Ее потрясли слова Шубова: «А что ее бояться, смерти-то? С ней мы при жизни не встретимся. Она всегда чужая, потому что видим мы ее со стороны. Страшна не смерть. Страшно потерять напрасно, по-глупому свою жизнь, отдать ее врагу задаром. Погиб товарищ, а осколки от его смерти в моем сердце, ему больно. Оно плачет, а я не имею права сейчас… Может быть, ночью, втихомолку, чтобы другим не было слышно. Мои слезы для других новые страдания».








