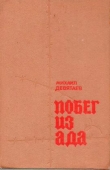Текст книги "Полет к солнцу"
Автор книги: Михаил Девятаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Под чужой фамилией
Мне достались широкие рваные брюки, жилет с хлястиком и тоненькая рубаха в клеточку, которая завязывалась на груди. Напялив все это на себя, я должен был подойти к «маляру». Тот обмакнул в ведре с краской широкую щетку, разделенную на несколько частей, и провел ею по моей одежде от затылка до пят, потом – от подбородка до ступней и таким образом сделал из меня полосатую зебру. Ткань впитала краску, одежда прилипла к телу.
Запомнилось, что в бане среди прислуги было несколько женщин и ребят-подростков. Какие функции они выполняли, не приметил, но их присутствие поразило меня. Женщины, дети...
Нас построили перед бараком. Высокий немец в полосатом, как и наш, наряде обратился к нам через переводчика:
– У кого есть деньги, золотые и ценные вещи, положить перед собой!
Оказывается, были кое у кого и деньги, и перстни, и часы. У меня – ничего, кроме жетона и котелка.
В лагере на каждого заводилось личное дело. В него заносились фамилия, номер и особые приметы человека: цвет волос, родинки, наколки и прочее. Потом выдавались разные «знаки». Мне, как и всем советским военнопленным, выдали букву «Р», что означало – «русский». Затем дали винкель – матерчатый треугольник, который нужно было, как и свой номер, нашить на одежду.
Появился еще один высокий, упитанный эсэсовец в полной форме и долго, грозно объяснял, куда мы попали и по каким правилам будем здесь жить. Говорил обо всем напрямик, без всякой дипломатии. Каждого здесь могут убить, повесить, уничтожить любыми средствами, ибо все, кто прибывает сюда, считаются осужденными к смертной казни или самому суровому штрафу за «преступление перед немецким народом». Заключенному надо всегда помнить свой номер, место в строю, кто стоит справа и слева, распорядок дня. Все приказы выполнять бегом, только бегом!
Сейчас я видел почти всех выстроившихся, обводил всех взглядом, перебирал ряды, но Пацулы и Цоуна не находил. Значит, я попал в команду штрафников, а они – в команду смертников. Сердце забилось в страшной тревоге. Поймут ли мои дорогие товарищи, что произошло со мной на самом деле. Узнают ли они правду обо мне.
Но вот принесли в белых бидонах кофе и несколько буханок хлеба. Начали разливать по котелкам жидкость, резать и делить хлеб. Мне уже приходилось самому делить хлеб между голодными и не раз я стоял в толпе и ждал, пока подадут мой паек. Это зрелище ужасное. Люди изголодались до крайности, крошка хлеба для каждого равнялась жизни, и никакие соображения и нормы поведения не в состоянии были сдержать крик голодного желудка. Тряслись губы от одного запаха хлеба, дрожали руки, в которые попадал тот жалкий темный кусочек. Люди плакали от умиления, глядя на пищу, они отщипывали ее маленькими крошками, нетерпеливые проталкивались вперед и хватали порцию, опасаясь, что им не достанется.
Голодные держатся по-разному. Одни не против съесть свою порцию и норму соседа, от которой тот на миг отвел глаза. Поэтому у нас не хватило одной порции. Поднялись шум, ссора, плач.
Появились эсэсовцы-распорядители. Выспрашивают, бьют, но, конечно, тот, кто перехватил хлеб, не признается, хоть ты забей его до смерти. Злодеями почему-то были названы мы, русские, и всех нас выгнали из помещения во двор.
– Буду бить, буду убивать! За порцию хлеба будете все повешены! Сознайтесь, кто взял? – твердил распорядитель. Но никто не проронил ни слова. Пошла гулять плетка, каждый уверял, что он не виноват. Тогда принесли «козла» – приспособление, изготовленное в местной мастерской. Эсэсовцы приказали ложиться по очереди на станок. Наказывать плетью должны сами себя заключенные. Один лежит, другой бьет его. Кто слабо ударит, эсэсовец бьет по лицу жалостливого. Экзекуция не помогла выявить виновного, съевшего хлеб своего товарища.
Поздней ночью завели нас в барак, каждому показали место. До сих пор я видел лагерные жилые блоки, в которых размещалось человек сто-двести. В этом блоке длинные трехъярусные нары стояли в три ряда – у стен и посредине. Здесь размещалось человек девятьсот, не менее. Верхние места находились под самой крышей, потолка не было.
За несколько дней впервые прилег я в какую ни на есть, но постель. Обрадовался этому ящику, теплу, свету, людям. Но уснуть не мог долго: на какой бок не повернусь, чувствую страшную боль во всем теле. За двести граммов хлеба жестоко избиты двести заключенных. Вокруг витает страх смерти и голода. Засыпаю, наверное, перед самым подъемом. Еще совсем темно, а окна барака уже открыты настежь, по помещению гуляют сквозняки, неумолчно раздается приказ блочного надзирателя: «Живей! Живей!»
Все вскакивают, надо успеть одеться, а почему-то даже деревяшки быстро не натянешь на ноги, в рукава куртки не вденешь рук; успеть умыться – обрызгать тело до пояса ледяной водой, и бежать, бежать сколько есть силы во двор. Придешь последним – будешь битый, окажешься с краю – не протолкнешься в середину толпы, где теплее стоять.
Гремят, грохочут деревяшки, напирают люди, давят костями, дышат в затылок. Вот и апельплац – место сборов, построений и поверок. Я вижу это впервые, ибо в предыдущих лагерях все происходило по-иному. Пытаюсь не отставать от потока. Почти тысячная толпа запуганных людей воочию передает свой опыт. Каждый стремится прорваться в середину скопища – там и теплее, и один поддерживает другого, поэтому легче стоять. У кого больше сил, тот отталкивает слабого и прячется глубже. Упал кто-то? Ну что же, поднимется, здесь никто никого не жалеет. Ветер пронизывает до костей, а надо стоять долго.
Из окон барака дежурные выбрасывают во двор постели – все должно проветриться, потому что во время проверки в помещении не должно быть и намека на удушливый запах людских испарений.
Вспыхнул свет – шум утих, толпа замолкла, словно притаилась, ждет. Прозвучала команда строиться, и все задвигались. Один толкает другого, все спешат, словно-обезумевшие, и это происходит на небольшом квадрате. Каждый ищет указанное ему место, между двумя, которых он знает. Оно определяется по одному из ориентиров – окну, столбу, дереву.
Построились по четыре.
– Ахтунг! (Внимание!)
Появился рапортфюрер. Ему будут докладывать блоковые о количестве живых, больных, мертвых, а тот, в свою очередь, доложит начальнику лагеря. Пока будут подсчитывать, можно оглядеться по сторонам. Неподалеку от меня в первом ряду стоят белокурые юноши с круглыми, как мишень, нашивками на груди. Алеют треугольники на груди провинившихся в других лагерях за подкопы, за попытки к бегству. У меня такой же треугольник. Среди сотен людей нет ни одного знакомого. В шеренге, наверное, каждый десятый – с зеленым винкелем-треугольником. Это бандиты, заключенные за разбой, за убийства...
Проверка закончилась. Через несколько минут выкрикивают, кто и где должен приступить к работе. Повалили за ворота, повезли телеги, апельплац разгрузился, стало немного свободнее. Но вот приказывают строиться новичкам, которые прибыли вчера. Лагерник с зеленым винкелем, квадратным лицом и огромными ручищами, свисающими почти до колен, на непонятной смешанной речи из русских, польских, чешских, немецких и английских слов разъясняет значение строевых команд. «Направо», «налево», «фуражки снять», «фуражки надеть», «стройся» и тому подобное.
«Зеленые винкели», оказывается, имели задачу обеспечить надлежащую строевую подготовку новичков. Нечетко повернулся – удар по голове, снял свой «митцен», но не зафиксировал это движение соответствующим звуком – удар под ребро.
* * *
Нас усадили за длинный стол и высыпали целую гору коротких, тоненьких разноцветных проволочек. Они были перемешаны. Нам следовало разобрать и разложить красные к красным, оранжевые к оранжевым и так далее. Цветов было много, различать их было делом нелегким, и когда кто-нибудь клал проволочку не в свою кучку, его били за невнимательность. Кто заканчивал работу, проволочки снова ссыпали в одну кучку, перемешивали их и он должен был начинать работу сначала.
Я сортировал эти разноцветные проволочки, у меня рябило в глазах, и, слушая грубый окрик, думал: «Для чего это делается? Наверно, с целью приучить безропотному повиновению. Приказано делать – делай, не задумывайся над тем, что и для чего. Твоим хозяевам так нужно».
День кончился, остальная часть времени до отбоя принадлежала заключенным, и они разбрелись по всему двору, разделились на небольшие группы и заговорили, зашумели каждый о своем. В этих беседах возрождались обыкновенные человеческие отношения, завязывалось товарищество между незнакомыми.
* * *
Я стою один, отдельно от всех и гляжу, как разговаривают другие, сойдясь в группы, как многие смакуют одну сигарету. Искал, с кем бы познакомиться, присматривался к людям. Вдруг ко мне подошел мальчик, худой до невероятности, остроносый. Его шапка сместилась на затылок, открыв большой крутой лоб.
Он смотрел на меня, наивно улыбаясь, вдруг спросил на чисто русском языке:
– Не узнаете?
– Нет, – ответил я.
– Сосед по нарам. Я тоже на третьем этаже.
– Еще не успели познакомиться, – сказал я.
– Я вас видел еще раньше.
– Что-то не припоминаю такой встречи.
– Берите, закуривайте, – юноша протянул мне сигарету.
Вижу парень владеет собой, серьезный, рассудительный, как взрослый.
Я закурил.
– Где достаешь сигареты?
– О, здесь все можно купить, лишь бы деньги были.
– Откуда у тебя деньги?
– Марки. За них покупают шапки, ботинки, сигареты, – сказал он, сразу не ответив на вопрос. – Я вычищал туалетную яму, мне дали три марки. Вон там, за апельплацем, каждую неделю собирается базар. Французы продают свое, югославы – свое. С собой в могилу или на виселицу не хотят нести. – Парень почему-то засмеялся. – Видели высоких, похожих на спортсменов? То югославы, все с одного села. Прятали оружие, а фрицы нашли. Мишени на сердце им пришили. Завтра или послезавтра уже их не будет. Они все променяли на еду, на табак, хоть перед смертью накурятся.
– Ты, я вижу, многое знаешь, – похвалил я, чтобы вызвать на откровенность парня. Он продолжал говорить тихо, осторожно.
– Вы штрафник? И я тоже. Я уже здесь давно – целый месяц, еще месяц пробуду, а может, и два. Штрафников держат, сколько им вздумается, а нужно два месяца. Не врежешь дуба или не прибьют за это время, отвезут куда-то на работы.
– А как ты сюда попал? – спросил я.
– В лагерь?
– Нет, в Германию.
– А-а, привезли к бауэру. Хозяин попался скупой, злой, вот мы с ребятами и убежали от него. Шли домой, в Россию. Меня послали раздобыть еду. Я по трубе залез на балкон особняка, пробрался в комнату, а там генерал храпит. Услышал меня, как заорет: «Караул!» Если бы он, дурной, дал мне хлеба, я ушел бы и все. А то черт его знает из-за чего шум поднял. Так ничего и не принес ребятам. Мы голодные удирали лесами три дня. За нами гнались, по нас стреляли. Схватили меня первого... А как вас зовут? – вдруг сразу сменил он тему разговора.
– Михаил, – буркнул я, забыв о чужом имени и фамилии.
– Дядя Миша, – сказал он по-своему. – У меня там, дома, тоже есть дядька Миша.
– А тебя как? – спросил я.
– Дима. Дима Сердюков.
– Дмитрий, значит. Хорошее имя. А я учитель Микитенко, – назвал я не свою фамилию.
– Вы – летчик! Я знаю, – паренек посмотрел мне пристально в глаза, как это умеют делать только дети. Меня пронзил страх перед этим смелым и всезнающим взглядом. – Я видел вас в летной гимнастерке, на ней остались следы от двух орденов. Я вашу гимнастерку в руках держал, потому что я все убирал после вас, когда вы разделись. Не бойтесь. Я никому о вас не расскажу. Когда у меня будут сигареты, я вам буду давать. Я могу табаку принести из бани. Я карманы вытряхиваю и все отдаю вахманам. Не буду им давать, они меня убьют и поставят на мое место другого. Я уже второй раз в этом лагере, мне все известно. Я был и в партизанском отряде нашего генерала! Вы не слышали о таком? У-у, сила! По фамилии его никто не знал, только так, товарищ генерал и все. Мы тогда пробирались на восток, и меня первый раз поймали гитлеровцы.
Я понял, что для парня генерал – это что-то самое высокое. Слушая его, я с тревогой думал о том, что он может вот также необдуманно подойти к кому-то другому и рассказать ему все, что знает обо мне. Что делать? А если он раскроет мою тайну? Я стоял как вкопанный. Дима запустил руки в карманы и заходил около меня, чтобы согреться.
Прозвучал «отбой», все направились в барак. Мой сосед юркнул в толпу и исчез.
Взобравшись на третий этаж нар, я посмотрел вправо и влево, но Диму не увидел. Неужели этот юнец-провокатор? Возможно ведь и такое. Я уже глубоко осуждал себя за некоторую откровенность в разговоре с Димой. Но я мог ответить ему на его вопрос решительным возражением. Мог сказать, что он меня с кем-то перепутал, что я никогда не был летчиком. Как мне дальше вести себя?
Слышу кто-то быстро взбирается ко мне. «Дима?» Парень не отозвался, потому что, наверное, в это время не разрешалось разговаривать. Я видел, как он взобрался в свой ящик, повозился в постели, закутался в одеяльце и притих. Уснул. «А я-то плохо подумал о парне».
Засыпая, я вспомнил, как в 1943 году летал из Кривого Рога в Белоруссию, чтобы оттуда привезти дочь командира эскадрильи. У него там оставалась семья. Когда наши освободили этот край, оттуда ответили на письмо комэска его родственники, что фашисты уничтожили село, расстреляли всех его жителей, из детей осталась только меньшая девочка. Она убежала из горящей избы и сумела пробраться к родственникам. Те и написали на фронт отцу. Летчик, потерявший жену и детей, сам не отважился лететь в край руин и родных могил, попросил товарищей, чтобы привезли ему его дочурку. Командир полка поручил мне это сложное дело. Я полетел, отыскал село, приземлился, добрался до лесных изб. В указанную избу вошел обыкновенно, как был, в боевой форме, вооруженный. Девочка, увидев меня еще на пороге, вскрикнула и, словно звереныш, забилась под стол.
– Не обращайте внимания, – сказали мне взрослые. – Такой она стала. Как увидит военного, так и прячется. Гнались за ней фашисты по лесу, еще не отошло сердечко ребенка.
Я представился, рассказал девочке об отце и его поручении. Моему прилету обрадовались, начали уговаривать девочку, чтобы она подошла ко мне. Не идет и все! Как я ее ни уговаривал, что я ей ни доказывал – ничем не мог ее убедить. Пришлось заночевать в другом месте, надеясь на то, что родственники сумеют внушить девочке необходимость полететь к отцу. Но убеждения и внушения взрослых не оказали своего действия. Пришлось лететь назад одному. Обо всем я рассказал командиру, летчикам. «Искалечили психику ребенка гитлеровские головорезы. Как же быть с девочкой? Неужели такой и останется на всю жизнь?» Командир заговорил со мной на эту тему. Раз, говорит, дочь моя видела тебя, она только к тебе и пойдет. Слетай еще раз!.. Командир полка, известно, для такого дела разрешил использовать самолет. И снова я иду по знакомой уже трассе. Везу с собой фотографию ее отца.
Она долго рассматривала ее и вдруг бросилась ко мне на грудь.
– Хочу к папе, – услышал я ее голос и заплакал.
Благополучно прилетел с ней на самолете на свой аэродром. Сколько было радости! Весь полк только и говорил об этом исключительном событии. Девочка стала любимицей. Удивительное дело – ребенок будто принес с собой каждому летчику новые силы. В те дни мы успешно громили врагов. Каждый сбитый самолет фашистов считался подарком нашей любимице.
И сейчас девочка из партизанского края стояла у меня перед глазами. Много зла натворили гитлеровцы в мире! Одно, самое большое, самое постыдное – это глумление над несовершеннолетними детьми. Худое, сплющенное между досками нар тельце советского паренька Димы рядом со мной... За что такая мука ребенку? За все это гитлеровцам неизбежно придется ответить по самому большому счету человечества. Так думал я в ту бессонную ночь.
Утром в невероятной сутолоке тысяч людей я увидел знакомое лицо Пацулы.
– Иван! – крикнул я, но его тут же оттолкнули от меня, и он лишь успел поднять руку над собой, давая понять, что услышал мой голос. Через несколько минут Пацула снова приблизился ко мне. Я схватил его за руку. Мы обнялись, прижались друг к другу и остались вдвоем. Иван был слабее меня, его отталкивали на край, и он не имел сил сопротивляться. Но я притянул его к себе, в середину толпы, здесь было теплее.
– Где ты? – спросил я.
– В этом бараке, – указал он на мое пристанище.
– Так и я же здесь, а тебя не видел.
– Вчера вечером перебрался сюда.
– Как тебе удалось? – недоуменно спросил я, понимая, что из «тюрьмы в тюрьме» не переводят в этот барак.
– За пиджак. Мне достался в бане хороший, подбитый ватой пиджачок. Вахман увидел и стал стаскивать его с меня. Я не отдавал. Тут подвернулся кто-то из старших над вахманом, и он присмирел. Когда все разошлись, он снова подошел ко мне: «Что хочешь за этот пиджачок?» Говорю, ничего не нужно, только переведи меня в тот барак, где моих земляков много. Вахман погрозил пальцем, хитро сощурил глаза и говорит: «Давай пиджак! Попытаюсь перегнать, только не очень кричи, если буду бить». Сделка состоялась. Сопровождаемый пинками, я выкатился из барака смертников, а вахман говорит: «Драпай! Беги вон в те двери». Я быстро перебежал. Знакомый вахмана указал, где лечь спать.
– Ты, брат, умеешь устраиваться, – пошутил я. – Надо бы Аркадия перетащить сюда.
Через несколько дней с помощью Димы Сердюкова Пацула перешел в наш сектор и стал моим соседом по нарам. Аркадия мы пока не встречали.
Теперь нас стало трое: взрослых двое и Дима.
Как-то ночью мне понадобилось выйти в туалет. Я спустился с третьего этажа и стал пробираться между нарами так, чтобы никого не задеть, не стукнуть. Дело это непростое. Еще накануне Дима мне объяснил, что, если надо будет пойти в туалет – прыгайте вниз и тихо идите, только не босиком, иначе, если заметят охранники, обязательно за это будут бить. Без обуви в туалет ходить не разрешается.
– А деревяшки стучать будут, как же быть? – спросил я у Димы.
– На крыльях надо, – прошептал Дима. Я понял, что он имел в виду. Иду в туалет босиком. Открываю дверь, ведущую в коридор, и на меня наваливаются несколько человек. Кто-то впивается ногтями в шею и душит меня. Пробую вырваться. Тщетно. Напряг все силы и высвобождаю свою руку, хватаю за руку, перехватившую мне горло. Вот она разжалась. Вдыхаю воздух и кричу: «Сволочи! Пустите! За что?»
К моему удивлению, напавшие на меня куда-то исчезают. Я поднимаюсь с пола, постепенно прихожу в себя, оглядываюсь – никого нет. Возвращаюсь в барак. Взобравшись наверх, шепотом рассказываю Диме Сердюкову о приключении.
– Это ребята делали засаду на какого-то гада, – пояснил Дима. – Если бы не отозвались по-русски, сюда бы вы не возвратились. Не одному паразиту таким способом голову скрутили и труп в туалетную яму выбросили. Поджидали кого-то, а вы случайно подвернулись им. Вдвоем нужно ходить, дядя Миша.
На другой день, когда мы сидели за столами и перебирали разноцветные проволочки, ко мне подошел кто-то из наших, высокий, плечистый и, нагнувшись к моему уху, сказал:
– Бушманов передал, чтобы ты меньше трепался.
– Я? Я, кажется, мало говорю. И я же по-русски.
– Есть такие, которые переведут. В два счета на виселице окажешься. – Он ушел прочь, а я растерялся, чувствуя какую-то вину за собой. Кто же это следит за мной? Может быть, и в самом деле я очень уж громко проявляю иногда свои эмоции?..
Во время вечернего перерыва меня остановил еще один человек, которого я не знал, и плечом оттолкнул в сторону. Его большие черные глаза смотрели строго, он крепко стиснул мою руку выше локтя.
– Ты за что в лагерь попал? – резко спросил он.
– Я учитель...
– Знаю, какой ты учитель. В парикмахерской тебя сделали учителем.
Внутри похолодело, я потерял дар речи.
– Держись ближе к нам, меня и того, что сегодня подходил. Здесь, лейтенант, не детская площадка, а несколько лагерей в одном лагере. Одни сдались на милость врагам, другие никогда не сдадутся им. Ты с кем?
– С вами, – твердо ответил я.
Высокий отошел прочь так же неожиданно, как и подошел. Я понял, что здесь действует организация. Это, видимо, она «изменяет» военнопленным приговоры, перечеркивает их, как верховный суд. Я припомнил, как мне кто-то рассказывал, что лагерь Заксенхаузен – самый старый в довоенной Германии, что здесь сидели еще те коммунисты, которых бросили сюда в первые годы после прихода Гитлера к власти. Значит, подпольная коммунистическая организация имеет здесь глубокие корни и надежные ответвления. «Знает ли об этом Дима?» – невольно спросил я сам себя. Наверное, нет. Подобным юношам такую тайну не доверят. Надо искать более серьезных связей.
В вечерние часы я замечал, как к тем, кого я уже знал после этих бесед, время от времени будто случайно подходили люди и, сказав почти на ходу несколько слов, немедленно удалялись. Я тоже.постарался подойти к ним, но они не обращали на меня никакого внимания. Однажды, в эти первые дни, ко мне подошел незнакомец и сказал:
– Я Рыбальченко, от Бушманова. Принес теплую куртку и ботинки. Наши все ходят не в деревяшках, а в ботинках со шнурками. Завтра же чтобы надели новую обувь.
Присмотрелся – у Димы тоже были такие же ботинки, но лишь на деревянной подошве.
«Вот как здесь поставлено дело!» – подумал я. Меня это обрадовало.
Над Заксенхаузеном кружили самолеты, небо гудело звуками свободного простора.
* * *
Ежедневно утром, после «кофе», заключенных распределяли на работы. Из этого лагеря часть людей выходила или выезжала на грузовиках в карьеры, на какие-то предприятия и даже на авиационные заводы, где собирались самолеты. Нам, новичкам, каждому выдали новую, только что с фабрики поступившую разнообразную обувь, каждому – старый, потертый рюкзак. Перед строем появился эсэсовец и сказал:
– Отныне вы все зачисляетесь в команду топтунов. Будете ходить в выданной вам обуви ежедневно по пятьдесят километров. Каждый должен дать ей требуемую нагрузку и таким образом проверить ее на прочность, установить дефекты. Сорок второй номер ботинок, например, должен принять вес в шестьдесят пять килограммов. У кого вес легче, тому в рюкзак добавят песку. Владельцы фирм хотят иметь точные данные о качестве своей продукции. Они доверили вам испытания. Так, кто вы отныне?
Заключенные молчали.
– Не запомнили, свиньи? – Вы – топтуны! Топтуны! Кто из вас в день пройдет пятьдесят километров, тот получит дополнительно пятьдесят граммов хлеба. Кто не пройдет, тот – саботажник и получит, – эсэсовец выразительно указал на столбы с перекладиной, возвышающиеся в отдалении, – тот получит виселицу! Ясно?
Люди молчали.
Началась процедура взвешивания и заполнения рюкзаков песком. Проделано было все быстро, и нас снова построили.
– Марш! – раздалась команда. Из репродукторов грянула бодрящая музыка.
Мы отправились в первый далекий поход, длиной в два месяца. Многие из нашей команды «топтунов» в эти минуты не могли предвидеть, что для них этот путь по кругу – то каменный, то асфальтовый, то песчаный, то грунтовой на определенных участках – станет последним в их жизни.
Соблюдение режима испытаний, музыкальное сопровождение, раздача жалких кусочков хлеба за невыносимую работу – все это охотно взяло на себя ведомство Гиммлера. Видимо, промышленники обуви хорошо платили ему за эту «проверку теоретических расчетов на практике».
Наклонившись вперед, с ношами за плечами, по четыре в колонне понуро тащились фигуры по кругу. Шли вдоль бараков, мимо проволочного заграждения и железных ворот. Там, где замыкался круг, сидел охранник, и когда проходила колонна, он откладывал в сторону палочку для учета. С каждым кругом фигуры склонялись под тяжестью все ниже и ниже.
Мы все идем и идем. На нас падает густая черная копоть из квадратной трубы. Мы вдыхаем этот дым и ощущаем угарный слащавый запах горелого человеческого тела. Мы знаем, что это дымят печи крематория, находящегося за высокой кирпичной стеной. Мы уже видели, как туда вывозили из наших бараков убитых и умерших. Мы знаем, что там сжигают и казненных в газовых камерах. Назначение каждого помещения, все, что происходит под каждой крышей этого лагеря, нам уже известно. Об этом мы много говорим в бараках. Даже сейчас, когда остаемся без охранников, перебрасываемся об этом несколькими словами, вкладывая в них частицу своих последних сил. Ум и сердца наши наполнены гневом и бессильным протестом.
Громко играет музыка. Мы знаем, так заглушаются выстрелы, когда расстреливают заключенных. А что в том бараке, обнесенном проволокой? Фальшивомонетчики. Они подделывают деньги, документы, печати. Тех людей никто никогда не видел.
«Топ-топ! Топ-топ» – слышатся шаги и нет конца кругу и нашей дороге, нашим мукам.
Осеннее тусклое солнце опускается все ниже и ниже. Вот оно уже на уровне трубы, черный дым окутывает его, заслоняет свет.
– Девяностый круг! – грустно произносит кто-то.
Теперь можно подумать о завтрашнем дне, о друзьях, можно помечтать, как и где раздобыть табаку на закрутку или хотя бы одну сигарету. Поесть сухой картошки, пожевать кусочек эрзац-хлеба. А завтра все повторится сначала. Но пока что – ни с чем не сравнимое счастье упасть на жесткую постель, смотреть в крышу и ничего, никого не видеть, только думать, думать и отыскивать ниточку надежды, видеть лучик света, затаившийся в самом тебе.
Проходят дни. Живу ради ботинок, где-то изготовленных машинами и рабочими руками на радость человеку. Мне они приносят мучение. Их осматривают с несравненно большим вниманием, чем нас. Из-за них ежедневно гибнут заключенные. Ботинки снятся, они отражаются ночью в отдыхающем мозгу чудовищами, попирающими нас.
Я уже полностью разобрался в обстановке лагеря и в ситуации, сложившейся теперь здесь. Понимаю, почему по нескольку месяцев держат людей, присланных сюда для того, чтобы их сжечь, а пепел их костей отослать гроссбауэрам в качестве удобрения, а топленое сало – есть, оказывается, жир и у истощенных голодом людей – отправить на фабрики. Все заключенные знают, куда и что вывозится из лагеря, потому что многие работы выполняют они сами и друг другу обо всем рассказывают. Нам ясно, что от нас останется, мы знаем, на каком месте можно продержаться дольше...
Меня тянет к организованным, сплоченным людям. Я еще здесь ни с кем не разговаривал как летчик, не говорил, что смог бы поднять вражеский самолет и повести его на Восток. Мне хочется поделиться этими мыслями с товарищами, которые бы по достоинству оценили их и по-настоящему взялись за подготовку побега.
Побег... Как его осуществить из такого лагеря?
Однажды вечером меня свели с Бушмановым. Он популярен среди заключенных, наверное, главный деятель подполья и за ним, конечно, следят «стукачи». Поэтому с ним нельзя долго стоять, ходить рядом, разговаривать. Надо уметь сказать кратко, но полно, так, между прочим, на ходу, не задерживаясь около него.
Внешне он такой же, как все, – худой, изнуренный, беспомощный, но его взгляд, его голос, мысли его сразу воодушевляют меня.
Мы прохаживаемся и время от времени встречаемся на две-три минуты. В этот период надо успеть послушать его и сказать свое. Бушманов не смотрит на меня, руки за спиной, высокая фигура ссутулилась, шаги решительные, мысли цепкие.
– Никакой паники! Я ношу над сердцем мишень, десять моих товарищей в таком же «ранге», нас могут расстрелять в любую минуту, но мы живем здесь по нескольку месяцев. Гиммлер и, все его предприятия смерти теперь загружены обработкой противников Гитлера среди самих немцев. Эсэсовцы расстреливают, сжигают, допрашивают своих, им сейчас не до нас.
– Заключенных берут на завод «Юнкерс». Там имеется свой аэродром. Если бы... – намекаю я.
– Такой один план нашей группы уже стоил трех десятков жизней. Летчик поднял самолет с людьми и тут же упал на землю. Нужно знать машину! Найти пути к ее изучению. Остальное тебе другие расскажут, поговори со «стариками»...
«Надо немедленно найти информацию о неудавшемся побеге-перелете, – думаю я. – Может, Пацула что-либо слышал? Надо знать факты, подробности, без точных данных бессмысленно готовиться к такому побегу».
* * *
Наверху, под самой крышей, на кроватях третьего яруса можно поиграть в самодельные карты, в шашки и шахматы, полистать иллюстрированный журнал, засаленный сотнями рук, а самое главное – поговорить, узнать новости, своими мыслями поделиться. На верхние нары к нам довольно часто поднимаются товарищи снизу. Вполголоса обсуждаем, разумеется, самое важное, самое необходимое.
– Когда слушаем Диму, он воодушевляется, рассказывает много новостей, о которых мы узнаем впервые. В одну из таких бесед с ним я направил разговор на тему трагического провала побега «какого-то нашего летчика на немецком самолете». Дима тут же включился в разговор.
– Так ведь это же «Иванушка-дурачок» похитил «юнкерс». Тот, что косноязычным прикидывался. Мне ребята рассказывали, что он долго возил воду, всегда ходил оборванцем, не брился и так умел смешить немцев, что они подыхали со смеху. Комендант, бывало, вызовет его к себе, а он только порог переступит и – бах на пол! Покатится немного – и прыг-скок, как обезьяна. За это и прозвали его «Иванушка-дурачок». Нет ума – считай, калека, чудак, придурок. Как только не называли его. А он возил на лошаденке водицу и ко всему приглядывался. Присмотрел, где стоят самолеты, и как их и кто охраняет.
– Так он, что же, летчиком был? – спросил кто-то. Дима бросил на меня быстрый взгляд, немного замялся, потом ответил:
– Наверное, летчик! Понимал же, на какую кнопку нажимать.
– Так понимал, что угробил столько людей? – Этот вопрос усилил желание Димы рассказать все известные ему подробности.
– Летчик тоже ошибается? И моторы отказывают. Правда же? – обратился ко мне Дима.
– А мне откуда знать, что там бывает в небе? – ответил я, крепко сжав его руку.
Он даже рот раскрыл от удивления, хотел что-то возразить, но тут же умолк. Я не отважился посмотреть в глаза товарищам – еще догадаются, что между нами существует какая-то тайна. А она, эта самая тайна, висела надо мной, как Дамоклов меч. Один неосторожный поступок, одно слово Сердюкова, и моя голова покатится с плеч. Дело не в том, что я летчик, а, скорее, в том, что теперь у меня другая фамилия. В лагере каждый держал личное прошлое за десятью замками своей души.
Ночью я несколько раз просыпался от тяжелого сна. Летел куда-то над тучами. Загорался мотор моего самолета, отламывались крылья, а у меня не было парашюта, но я выбрасывался из кабины, падал, цепляясь за чьи-то руки, и спасался. Мне уже было известно, почему разбился самолет и погиб летчик вместе с теми, кого он стремился вывезти на Родину. Огромный двухмоторный бомбардировщик на развороте свалился в штопор. Значит, пилот не знал особенностей этой машины и сделал слишком крутой вираж. Возможно, что люди, находившиеся на борту, почувствовали, как наклоняется машина, неожиданно испугались, шарахнулись в одну сторону и нарушили центровку? На том самолете можно было поднять в воздух не тридцать, а сто человек. Пять тонн бомб брал этот бомбардировщик! Но неподготовленные для перелета пассажиры как раз и могли причинить непоправимое несчастье!