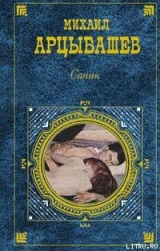
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Михаил Арцыбашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Да. Я его давно знаю… Сложная, богатая натура… Коренев – это борец по природе… по темпераменту… Он потому только и взялся за дело, что в настоящее время нет выше и отчаяннее борьбы, как революционная… Только в борьбе за свободу, когда все силы человеческие напрягаются для того, чтобы или разорвать цепь, или самому погибнуть, возможно такое высокое напряжение… Коренев, в сущности, жестокий человек…
Да… А Незнамов только ожесточенный… Он ведь удивительно добрый и нежный… Все настоящие анархисты, должно быть, такие же добрые, чуткие люди: та огромная масса зла, грубости и несправедливости, которая наполняет мир и которая для нас только печальный факт, – для него настоящий ужас!..
Андреев остановился и стал задумчиво жевать кончик левого уса. Глаза у него стали мягкими и задумчивыми.
– Есть такие натуры, – опять заговорил он, – которые поднимают на себя все зло мира и переживают его в глубине своей уединенной души от начала до конца… и душа у них окровавленная… да. Им становится непереносимо и невозможно только сострадать и возмущаться, потому что общее страдание уже становится их собственным страданием. Наступает тот момент, когда у них душевная боль достигает такого невыносимого напряжения, что… надо уже или самому умереть, или вступить в активный бой. И тогда эти мягкие, нежные, музыкальные души становятся неподвижно напряженными, ожесточаются… да. А душа у Незнамова чистая, святая… Жаль, если он пропадет!..
Андреев махнул рукой и зашагал по комнате. Опять слышно стало, как скучно и монотонно тикают часы. Дора сидела, понурившись, и неясная, тайная для нее самой мысль, что у нее душа тоже какая-то особенная, – приятно и стыдливо пронеслась у нее в голове.
– Да… Так-то, Дора Моисеевна! – проговорил Андреев. – Помните же, вы будете стоять на углу так, чтобы нам было видно и с вокзала, и от переулка. Когда поезд придет и князь выйдет из вагона, акушерка выйдет на крыльцо и махнет рукой извозчику. В это время вы должны обмахнуться платком, точно вам жарко, и этот сигнал передадут до кофейни; а когда князь сядет в карету, вы повторите сигнал. По второму сигналу Незнамов и Коренев выйдут навстречу… Вот…
– Помню… Неужели вы думаете, что это можно забыть? – возразила Дора.
– Я этого не думаю… – спокойно ответил Андреев. – Но на мне лежит обязанность проверить… Вы, главное, не волнуйтесь.
Дора отрицательно покачала головой. Стало тихо, и долго было тихо, пока не прозвучал в темной передней новый звонок, точно повторяя заученный звук.
– Ну, вот и они… – сказал Андреев спокойно и пошел отворять.
Слышно было, как загремел дверной крюк и вошли люди. Дора подняла голову и заблестевшими глазами уставилась навстречу.
Коренев был так же высок, красив и размашисто подвижен, как и прежде. Незнамов был так же высок, как и он, но тоньше и изящнее его. Был он белокур, с большими глазами и мягкими волосами, и болезненно неожиданно напомнил Доре покойного Пашу Афанасьева. Оба они пожали ей руку.
– Вы бы нам чаю дали, товарищ Баршавская… – шутливо сказал Коренев, сразу наполняя всю тихую квартиру своим голосом, фигурой и силой движений. Доре показалось, что от него пахнет свежестью и воздухом, как будто он пришел с мороза.
– Хорошо… – стараясь попасть ему в тон, притворно спокойно ответила Дора и ушла в кухню, где долго ставила самовар, неумелыми руками роняя крышку и просыпая уголь.
Из столовой ей были слышны голоса и смех Коренева, беззаботно и оживленно рассказывающего, на какие уловки пришлось им пуститься, чтобы сбить с толку преследовавшего их сыщика. А когда она вернулась, Коренев говорил, сидя верхом на стуле:
– Кто мне нравится, так это наша акушерка!.. Вот особа!.. Она и во время светопреставления будет так же спокойна, как на родах!.. А знаете, я эти два дня чувствую, что живу… Жаль только, что все скоро кончится!
– Подожди еще! – угрюмо возразил Андреев.
– Нет, брат, – засмеялся Коренев, весело скаля белые зубы, – нам с ним один день, а там – фью!..
Белокурый Незнамов молча постучал тонкими, худыми пальцами о край стола, точно выстукивая ему одному слышный мотив.
От веселого голоса Коренева и его короткого, выразительного свиста смутный холод вдруг поднялся и подступил к самому затылку Доры. Ноги у нее задрожали, и, охваченная внезапной слабостью, Дора присела на край кушетки. Как сквозь туман слышала она, что говорил Коренев, и его громкий, бодрый голос странно глухо доходил до нее.
– Скверно то, что людей мало… Берутся все, а как до дела дойдет – и пиши пропало.
Дора опомнилась. Ей постоянно мучительно казалось, что высокий и красивый студент в глубине души презирает ее, и в его присутствии она всегда подтягивалась.
Она торопливо улыбнулась, бросила робкий и быстрый взгляд на Незнамова и встала.
– Чай будете пить с лимоном? – спросила она.
– Я?.. Да… – машинально ответил Незнамов.
За чаем, которого никто не пил, кроме Коренева, больше молчали, и в этом молчании как будто слышнее было, как идет время и приближается страшный роковой день.
– Ну, мы уходим… – сказал Коренев, поднимаясь. – До завтра!
Все встали.
– Вот Дора Моисеевна укажет вам, где все лежит… – серьезно и деловито сказал Андреев Незнамову.
– Хорошо. Прощайте! – ответил тот.
Одну минуту все напряженно молчали, как будто не знали, что дальше делать.
– Да, – тихо сказал Андреев, – может быть, больше и не увидимся…
Он подошел к Незнамову и обнял его нежно и искренно.
– Прощайте, голубчик!.. – ласково ответил Незнамов.
И от этого ласково-печального голоса и затуманившихся глаз Андреева Доре вдруг стало невыносимо остро жаль и себя, и их всех. Слезы выступили у нее из глаз и покатились мимо носа, на вздрагивающие губы.
Коренев крепко пожал руку Незнамову и молча улыбнулся. Незнамов ответил ему такой же тонкой, печальной улыбкой.
Потом Коренев и Андреев ушли, а Дора пошла запереть за ними дверь и долго прислушивалась к удаляющимся шагам. Хлопнула внизу дверь, и все стихло.
Когда она вернулась, Незнамов стоял у окна и, чуть-чуть отодвинув штору, смотрел на улицу. Была еще ночь, и улицы были странно пусты, но небо уже сияло прозрачным утренним светом, и последняя звезда нежно голубела высоко над землей.
– Уже светает… Короткие у вас ночи… – ласково улыбаясь, сказал Незнамов, услышав шаги Доры.
– Да… – застенчиво ответила Дора и машинально стала прибирать на столе.
У нее было странное, смешанное чувство: и впервые вошедшего ей в голову сознания бесповоротности решения, и смутной девической неловкости, и наивной, гордой радости, что она остается одна в последний вечер с человеком, имя которого завтра пронесется по всей России и заставит задрожать ужасом самые каменные сердца недоступных и властных людей.
На дворе медленно, но неуклонно разгоралась заря нового дня, и его розовые, еще бледные отблески ложились на светлые волосы и лицо Незнамова.
Он тяжело вздохнул, отошел от окна и, мягко улыбаясь, сказал Доре:
– Быть может, это последнее утро, которое я встречаю… Одного мне только и жаль!.. В сущности говоря, я большой мечтатель: люблю солнце, небо, осень, весну… люблю траву… все светлое, тихое, жизнерадостное… и мне вовсе не хочется никого убивать, не хочется умирать…
– Почему же вы идете на это? – робко спросила Дора, и в ней опять шевельнулось гордое сознание, что вопрос ее – вопрос исторический.
– Как вам сказать?.. – слабо улыбаясь, ответил Незнамов. – Вернее всего, что именно потому, что чересчур люблю жизнь и мне слишком больно смотреть, как ее уродуют!..
Он стоял перед Дорой высокий, тонкий и весь какой-то светлый и все улыбался, а горло Доры опять сжалось острой тоской и, чувствуя, что сейчас расплачется, она торопливо протянула ему руку и сказала, не глядя:
– Дай Бог, чтобы все это благополучно окончилось…
– Нет, что ж… – махнул рукой Незнамов. – Все равно… Не в этот раз, так в другой… все равно… всех тех, которые довели народ до такого ужасного состояния, я считаю своими врагами, и если мне удастся спастись теперь, я пойду и убью другого. Все равно…
Дора подняла голову и посмотрела ему в глаза: они были светлы и печальны. Что-то большое, светлое и невыразимо дорогое вошло от этих глаз в душу Доры, и она показалась себе самой неизмеримо маленькой и ничтожной. Но на этот раз это сознание почему-то было не мучительно, а даже трогательно. Слезы опять выступили у ней на глазах.
Шторы побелели, и за ними послышались первые слабые и одинокие звуки жизни.
– Нет ли у вас бумаги и чернил? – спросил Незнамов. – Я хочу написать матери… потом вряд ли удастся.
Дора не могла говорить и только кивнула головой. Она принесла ему бумагу, постояла, хотела что-то сказать, но ничего не могла и ушла в спальню.
Долго потом она лежала неподвижно, закутавшись в свой большой, мягкий платок, прислушиваясь к шороху бумаги и его движениям, и ее маленькое, одинокое сердце разрывалось от жалости, от грусти и светлого влюбленного чувства к этому человеку. Хотелось встать, пойти к нему, приласкать, заплакать над ним, и своим телом, своими объятиями оградить и защитить его от грядущего ужаса. Но она лежала неподвижно и только тихо плакала, боясь, чтобы он не услышал.
XIV
Над городом висело пыльное и дымное небо, в которое было больно смотреть.
По проспекту и по смежной улице быстро катились экипажи и были так похожи друг на друга, что казалось, будто они нарочно ездят взад и вперед по одному месту. По обоим тротуарам шли люди, торопливо развертываясь в бесконечный, пестрый свиток. От домов лежали короткие, синеватые тени, и было так жарко, что трудно дышалось.
Доре было тяжело и нудно стоять. От бессонной ночи, недавней болезни и тяжелой тревоги слабость проходила по всему телу и тихо кружила голову с горячими, потными висками. Она стояла на углу улицы, в короткой и душной тени, и поверх голов проходящих людей напряженно смотрела в сторону вокзала.
На его широком подъезде, раскаленном солнцем, стояли носильщики в белых фартуках и поднимались и спускались люди. Быстро подъезжали извозчики и медленно отъезжали. Над фронтоном высоко круглились часы и как будто наблюдали строго и точно за всем, что происходило на площади.
Доре казалось, что она всегда стоит тут и всегда смотрит на эти часы, на сверкающие на солнце белые фартуки носильщиков, на широкие каменные ступени. Старое, давно знакомое здание вокзала как будто отделилось от всего мира и стояло тяжелое и зловещее. И если бы Дора даже захотела, она не могла бы уже оторвать от него своих воспаленных и напряженных до боли глаз. Оно давило ее.
Тупая тревога все росла и росла в груди. Было жарко, но под сердцем стоял холод и колени дрожали мелкой, мучительной дрожью. Это было незаметно, но Доре казалось, что эта дрожь должна кидаться всем в глаза, как уродливая судорога. Вокруг нее дробились, путались и звенели тысячи разнообразных, ярких звуков, то поднимаясь, то падая, как волны; но они незаметно, бледно входили в сознание Доры, а каждый тихий, непонятный звук предостерегающе ярко врезался в мозг, вызывая острые толчки в сердце и липкий, холодный пот на раскаленных висках. Люди шли и шли, и тысячи незаметных пестрых лиц мелькали в глазах.
Иногда это было так мучительно, что ей хотелось опрометью убежать отсюда на край света, броситься на кровать лицом к стене в тихой, как норка, комнате и долгие часы, всю жизнь видеть перед собою только простенькие, пестренькие обои.
«Если это так мучительно, так кто же меня заставляет?..» – мелькало у нее в мозгу удивленно и просто, так просто, что временами хотелось пожать плечами, повернуться и тихо, с улыбкой уйти. Но Дора делала над собой мучительное усилие, крепко сжимала в себе что-то дрожащее и больное, и в неестественно обостренном сознании у нее билась мысль: «Неужели же я так боюсь?..»
И эта мысль о маленькой, жалкой трусости вызывала в ней бледный, далекий образ Незнамова и становилась так невыносимо ужасна, что на мгновение ей даже становилось легче: робость исчезала, ноги стояли тверже и в глазах смягчалось болезненно-жгучее напряжение.
Мимо нее, легко и ровно ступая, прошел высокий человек с тонким лицом и подстриженными в скобку черными, курчавыми волосами, в поддевке и высоких сапогах. Дора мельком взглянула на него, и, как сотни люден, проходивших мимо, он уже почти ушел из ее глаз, но вдруг что-то знакомое кольнуло ее, и Дора узнала Коренева. У него было спокойное и даже будто веселое лицо, но оно было как-то странно неподвижно, как каменное.
Коренев прошел быстро, не останавливаясь, но на ходу, под грохот экипажей и шум шагов, глядя не на Дору, а прямо перед собой, проговорил:
– Смотрите… теперь скоро…
Последнее слово Дора не услыхала, а почувствовала. Он прошел и скрылся в толпе, а в ушах Доры остались эти быстрые, мгновенные слова.
По пятам за ним прошел какой-то толстый господин в цилиндре, с бритым чиновничьим лицом. Дора быстро взглянула и ему в глаза; но это было совершенно чужое, плоское и геморроидальное лицо.
Время шло… А Доре казалось, что оно остановилось. Она еле держалась на ногах; каждый нерв казался обнаженным и дергал все тело мучительной судорогой, и иногда ей хотелось сесть под стеной, прислониться к ней усталой головой и закрыть глаза.
«Господи, хоть бы уж скорей… хоть бы скорей…» – смутно мелькало у нее в голове, и по времени наступало тупое равнодушие, от которого она мгновенно пробуждалась с ужасом и болью и опять смотрела на тяжелый, зловещий вокзал.
На улице продолжалась своя пестрая и обыкновенная жизнь. По-прежнему шли и ехали из стороны в сторону люди и лошади, и казалось, что все это одни и те же. Небо дымилось и сверкало на солнце.
– Чего стал? – с озлоблением крикнул молодой рыжий дворник, недалеко от Доры отворачивавший водопроводный кран. – Проезжай, ты… леший черт!
Извозчик испуганно вздрогнул и, неловко задергав вожжами, проехал дальше. Но Дора уже узнала Ларионова, и его близорукие глаза и бесцветная бородка, такие странные над чужим синим армяком, мелькнули для Доры чем-то невыразимо близким и милым.
«Что он делает!.. Ему не там стоять!» – со страшным испугом подумала она, и ей припомнилось, как Коренев с озлоблением говорил:
– Все берутся, а как до дела дойдет, и перепутают все со страху.
Тогда Дора почувствовала обиду и ненависть к Кореневу, но в эту минуту в ней вдруг выросла прямая и ужасная уверенность, что она испугается, забудет что-нибудь и все перепутает, губя себя и всех. И эта уверенность уже не покидала ее, наполняя душу растерянностью и ужасом.
По всему телу Доры выступил холодный пот. Со страшными усилиями, путаясь от этих усилий и обмирая от страха, она стала припоминать все подробности, и все казалось ей, что-то, самое главное, она забыла.
«Когда на подъезд выйдет эта… акушерка Труд… Какое странное имя!.. Не в том дело… Да, когда она выйдет и позовет извозчика… тогда надо… тогда надо… тогда надо… ну, да… да…» – безобразно скомканно и разорванно вертелось в больном мозгу Доры, и, теряя нить, она вдруг поймала на себе чей-то странно пристальный взгляд.
Прошел мимо мещанин в чуйке и еще издали пристально и как будто украдкой посмотрел Доре в лицо, а когда она поймала его взгляд, быстро отвернулся и перешел на другую сторону, мелькая между движущимися экипажами и лошадьми.
«Сыщик… открыли!» – со зловещей и холодной ясностью прошло в мозгу Доры.
Все было по-прежнему, но за этой шумной и пестрой стремящейся толпой вдруг ясно почудилось что-то тайное, молчаливо и страшно подползающее, невидимое и неизбежное. Как будто чьи-то невидимые, нечеловеческие руки, тихо и лукаво раздвигая толпу, стали медленно и неуклонно приближаться к ней.
И сознавая, что находится во власти кошмара, Дора сцепила зубы и сделала невероятное усилие удержать прыгающую челюсть.
«Глупости… чего ради… давно бы уже схватили!» – скачками прыгала жалкая, оборванная мысль. Дора стала судорожно двигаться из стороны в сторону и оглядываться, как пойманный зверек.
И как раз в эту минуту на широкие каменные ступени вокзала тихо и спокойно в строгом черном платье вышла акушерка Труд и махнула рукой ближайшему извозчику.
Что-то ударило в голову Доры, в глазах у нее все перекосилось и помутнело.
«Вот…» – слабо подумала она.
И неестественно порывисто, сознавая, что делает не так, как нужно, Дора выхватила из кармана платок. Белый клочок мелькнул на солнце растерянно и ярко. Мельком она успела еще увидеть, что к вокзальному подъезду медленно и важно подкатывает большая черная карета.
Тот самый, такой обыкновенный, бритый толстяк в цилиндре откуда-то сбоку быстро подвинулся к Доре и неестественным и страшным голосом спросил:
– Что вы тут делаете?
Дора круто повернулась к нему, её мертвенно-бледное лицо осветилось огромными, выпученными от ужаса глазами, и, ничего не понимая, но в то же время сознавая, что делает что-то нелепое, гибельное, Дора выхватила из кармана револьвер и, почти ткнув его во что-то мягкое, выстрелила. Короткий, негромкий звук родился в грохоте экипажей. Бритый толстяк встряхнулся всем своим жирным и толстым телом, цилиндр сразу съехал ему на глаза, падающим шагом он попятился назад, на середину улицы и грузно осел прямо под ноги извозчичьей лошади, с треском и звоном дернувшейся в сторону.
Все смешалось на этом месте, и Дора увидела только черный цилиндр, выкатившийся из-под ног вихрем взметнувшейся толпы. Нестройный многоголосый крик повис в воздухе.
«Пропала!» – мелькнула короткая, бесцельная мысль, и Дора, расталкивая толпу, стремительно бросилась за угол, споткнулась на резиновый рукав трубы, лежавшей поперек тротуара, и, чувствуя, как ее хватают и бьют по голове страшной, тупой тяжестью, закрыла глаза и упала на руки, больно шлепнув ими о твердые, жесткие плиты.
– Кончено! – как будто сказал над нею какой-то глухой, тяжелый голос, наполнивший ужасом весь мир, и она потеряла сознание.
Когда что-то опять прояснилось в ее глазах, ее сажали на извозчика и двое городовых с желтыми шнурами и озлобленными, искаженными лицами толкали и дергали ее, с обеих сторон втискиваясь за Дорой в пролетку. Голова у ней шла кругом, неудержимо увлекая все вокруг в хаотическом кружении, что-то невыносимо резало висок, и по губам текла густая и теплая кровь.
На середине улицы ей врезалось в глаза дикое, совершенно безумное лицо Ларионова. Лошадь его держали под уздцы как будто целые десятки вытянутых, напряженных рук. Цепкие, искривленные пальцы впивались в его армяк, но Ларионов, с выпученными нечеловеческими глазами, очевидно уже ничего не понимая, неистово рвал вожжи и со свистом хлестал лошадь. А она подымалась на дыбы и билась на месте, высоко задрав голову с ощеренными мертвенно-белыми зубами.
– Держи! Стой!.. – нестройно со страшной злобой кричали со всех сторон, казалось, и люди, и стены домов, и грохот экипажей, и яркий свет.
Доре показалось, что это – страшный сон.
Когда извозчик тронулся и Дору, опять потерявшую сознание, провезли мимо вокзала, на широких ступенях его стояли какие-то важные и толстые люди, в форме и строгих пальто, а за ними, у колонны, спокойно прислонилась высокая, черная акушерка Труд с презрительным и злым лицом.
Роман маленькой женщины
I
Торопливо ходили чиновники с бумагами и озабоченным видом; сторож величественно разносил крепкий холодный чай; пишущие машинки трещали так, точно целые десятки маленьких молоточков наперебой, азартно ковали крохотные подковки, и каждый день Елена Николаевна со стремительной быстротой выстукивала ловкими гибкими пальцами:
«Согласно отношению господина управляющего Чирковской транспортной конторы, имеем честь препроводить копию с кассационной жалобы грузовладельца Исаака Абрамовича Киршнера…»
Длинный белый лист как живой все больше и больше выползал из цепких лапок машинки, и когда бумага, колыхнувшись, загнулась назад, Елена Николаевна выпрямила опустившиеся от усталости слабые плечи и, взглянув прямо перед собою в окно, задумалась.
За мутным стеклом тоненько тянулись вверх три березки, а за ними высилась, казалось, до самого неба серая стена рояльной фабрики. Словно черные коленчатые змеи, ползли по ней ржавые железные трубы.
День был солнечный, и в палисаднике было светло и красиво. Той особенно трогательной, болезненно-робкой и хрупкой красотой, которая почти грустно чувствуется только в больших городах, в жалких садиках и сквериках, этих клочках природы, затерянных среди каменных стен, мостовых и грохота уличного шума.
На тоненьких красных прутиках рябили наивные почки с белым детским пушком. Сухие прошлогодние листья, как траурная кайма лежавшие вдоль стен и дорожек, приподымались колкими иглами новой травы, зеленой, как изумруд. На сырых дорожках отчетливо печатались чванливо-фигурные следы вороньих и галочьих лапок. Стволы березок были свежи и чисты, точно кто-то только что умыл их студеной водой из талого хрупкого снега. У самой стены, в углу, как бы притаившись от всего света, еще стоял запыленный, насквозь ноздреватый сугроб. Солнце светило прямо на него, и снег исчезал на глазах, пуская чуть заметный дрожащий парок.
Неба не было видно из окна, но, должно быть, оно было чисто и голубело так, что все тени казались легкими и голубоватыми. Порой на палисадник налетали смеющиеся пятна и, быстро подымаясь по стене фабрики, исчезали где-то вверху, давая знать, что высоко над городом, в голубеющем просторе, точно паруса далеких счастливых кораблей, проплывают весенние облака.
В отворенную форточку вливался густой сочный воздух и до самого сердца проникал неопределенной, радостно-грустной истомой. Елена Николаевна сидела неподвижно, и на ее осунувшемся личике задумчиво светились большие, слегка оттушеванные бледностью глаза. Она забыла о срочной работе, о черновике присяжного поверенного Хлудекова, а между тем думала именно о нем, и перед ее остановившимися глазами стояло лицо высокого холеного блондина с подстриженной бородой и слегка капризными, чувственными губами. Она даже как будто слышала его уверенный, подавлявший неуловимым оттенком презрительной иронии голос, в котором так ярко и мягко вспыхивали особые нотки, когда он говорил с Еленой Николаевной. Передавая ей свои бумаги, он всегда переходил в тон фамильярно-дружеской шутки и тепло и загадочно смотрел в глаза, на мгновение задерживая ее маленькую руку в своей холеной ладони. И когда глаза его становились особенно проникновенно задушевны, Хлудеков всегда говорил, капризно растягивая слова:
– Ску-чно, Елена Николаевна!.. Как это вы можете удовлетворяться такой жизнью?.. Не понимаю я вас… Неужели вам не хочется иногда выскочить из колеи, поступить по-своему, хотя бы всем наперекор…
В его прищуренных зрачках мелькал темный огонек, напоминавший взгляд охотника, когда он уже близко видит преследуемую им дичь. И Елена Николаевна до конца понимала его мысли и желания, которых он не смел высказать. И было ей стыдно и приятно. Эти смутные намеки волновали ее и иногда бессознательно досадовали, как будто ей хотелось, чтобы он не хитрил, не говорил высоких слов, а сказал прямо, чего ему нужно. В ее гибком, стройном теле двадцатишестилетней девушки как будто жило два чувства: одно чего-то требовало, другое стихийно и гадливо возмущалось. Но иногда Хлудеков загадочно прибавлял:
– Впрочем, вы, вероятно, недолго засидитесь у нас!..
Девушке становилось просто грустно: Хлудеков говорил это без насмешки, но он прекрасно должен был знать, что Елена Николаевна сидит тут «у нас» уже семь лет. Тонкий страх покалывает в сердце девушки, когда она видит в зеркале, что кожа в уголках глаз потеряла прежний блеск и тихо вянет, напоминая последнюю нежность осенних лепестков. И вообще это медленно-осторожное увядание чувствовалось во всем: реже хотелось смеяться, чаще задумываться и даже плакать без причины. Иногда находило такое апатичное чувство, что не хотелось никого видеть, и, закутавшись в большой платок, девушка могла по целым часам сидеть у окна, большими остановившимися глазами глядя в сад или на вечернее небо, тихо догоравшее за темными крышами города.
Еще так недавно каждый человек интересовал ее, как игрушка, а теперь из всех знакомых только два-три могли хоть сколько-нибудь занять, а с остальными было скучно и досадно. На пикниках и прогулках она могла молчать и быть одинокой среди самого бурного веселья, шума и беготни.
И теперь, глядя в палисадник, Елена Николаевна думала о том же, и ей было больно-больно. Хотелось плакать крупными, тихими слезами. Страшно было жаль чего-то и неизвестно чего. Должно быть, того, что могло быть в жизни и не было. Она знала, что это – любовь, но какая любовь, не могла бы ответить. Воображение рисовало ей счастье только до тех пор, пока мечта была безразлична. Тогда любовь казалась радостной и красивой, как праздник, но как только из тумана выдвигалось определенное мужское лицо и начинало улыбаться ей с выражением откровенной и бесстыдной мысли, праздничные огни погасали и как чад, клубами подымалась одна пошлость, животный акт, грубый и безобразный, как грязное белье.
Елена Николаевна давно знала, что именно составляет главное в любви мужчины и женщины, и когда на мгновение, стыдливо, уголком мысли, представляла себе свое голое тело и возбужденное лицо мужчины, ей делалось так мучительно противно и стыдно, что хотелось спрятаться, убежать, закрыться с головой и никого не видеть, не слышать.
– А между тем так и есть!.. Все так живут!.. Именно это и есть любовь! – с болезненным недоумением говорила она себе. – Но в чем же тут красота… Зачем это?
И иногда ей казалось, что тут какая-то ошибка. И эта ошибка как-то сливалась в одно с теми мужчинами, в обществе которых ей приходилось жить.
Отчего так ясно представляется, как каждый из них подойдет, какими словами будет говорить о своих чувствах, как будет целовать и что будет дальше?.. Хоть бы какая-нибудь загадка… Какой-нибудь туман, чтобы хоть не так грубо выпячивалась… эта гадость!
Лицо Елены Николаевны мучительно сжималось, и она с тоской смотрела в палисадник, чувствуя острое желание чего-то и не видя ничего, похожего на то, что смутно просилось на свободу из ее светлых больших глаз, мягких волос, гибкого, с покатыми плечами и стройными бедрами, тела, точно выточенных рук с маленькими нежными пальцами.
– О чем вы все мечтаете? – спросил ее знакомый, слегка иронический, но вкрадчивый голос.
Елена Николаевна вздрогнула и обернулась, краснея до ушей, маленьких и чутких, прячущихся в пушистых волосах, как зайчики.
Перед нею стоял Хлудеков и смеялся, чуть-чуть маслянистым блеском отливая в прищуренных глазах.
– Ах, простите, ради Бога… Я еще не кончила! – виновато проговорила Елена Николаевна.
Хлудеков притворно нахмурился.
– А, вот как!.. Штраф!.. Ничего, ничего… мне не к спеху! – засмеялся он одними глазами и отошел.
Но по тому, как нерешительно он двигался и как затрудненно оглядывался вокруг, Елена Николаевна поняла, что бумага была спешная, и он теперь не знает, как быть. Минутку Хлудеков как будто колебался, потом заглянул в какую-то книгу, перевернул две-три страницы, положил и решительно скрылся в своем кабинете.
Несколько пар глаз наблюдали за ним, и Елена Николаевна чувствовала это. Она знала, что другим досталось бы за неаккуратность и что эти другие хорошо понимают, отчего такая странная мягкость и снисходительность у всегда холодного и взыскательного Хлудекова. Стало мучительно стыдно: Елене Николаевне на мгновение показалось, что она – совсем голая и что все эти завистливые взгляды критически осматривают ее обнаженное тело, соображая, достойно ли оно принадлежать Хлудекову и скоро ли будет принадлежать. И, потупив голову, под тяжестью беспомощного стыда, Елена Николаевна вся склонилась над бумагой, торопливо щелкая клавишами и ошибаясь. Щеки у нее горели, и в глазах против воли стояли слезы оскорбления и отвращения к Хлудекову, ко всем окружающим, грязно думающим людям, и даже к себе самой, как будто в чем-то виноватой.
Но к тому времени, когда бумага была готова, она успокоилась и другое появилось в ней.
– Вот. Извините, ради Бога, Виктор Владимирович, – заговорила она, входя в кабинет Хлудекова, и голос ее звучал легко и кокетливо. Даже каблучки постукивали как-то особенно, точно играя. Она чувствовала свое обаяние над этим капризным, избалованным человеком, и оно будило дерзкое чувство. Хотелось сесть к нему на стол, швырнуть перчатки на деловые бумаги и, играя носком ботинка, насмешливо смотреть и на обалдевшего Хлудекова, и на тех, кто через открытую дверь завистливо наблюдал за нею.
Только все-таки противное, унизительное ощущение обнаженности ползало под взглядом Хлудекова по всему телу маленькой женщины.
II
Играла музыка, и вереница людей, с говором, шорохом платьев и смехом, двигалась перед музыкальной эстрадой. Вечер был лунный, и где-то высоко над деревьями и фонарями стояла луна. Но ее не было заметно: фонари блестели ярче и возбужденнее.
Елена Николаевна тихонько двигалась по течению толпы, и рядом с нею молчаливо, одним плечом вперед, чтобы не задевать встречных дам, шагал длинный офицер, с унылым и безнадежно влюбленным лицом.
– Скучно! – капризно говорила девушка. – Хоть бы что-нибудь рассказали… Что вы все молчите?
Длинный офицер весь задвигался и беспомощно оглянулся по сторонам.
– Да что-то сегодня никого не видно… – проговорил он, радуясь своей редкой находчивости.
Елена Николаевна рассердилась с беспричинным и жестоким женским деспотизмом.
– А вы думаете, что мне непременно кого-нибудь надо? А вы-то сами?
– Я, Елена Николаевна, ей-богу… – смущенно пробормотал офицер.
– Ей-богу! – с досадой передразнила девушка. – Ну, расскажите что-нибудь… Ну… ну, были ли вы влюблены когда-нибудь?
В голосе Елены Николаевны прозвучала тоска: она заранее знала ответ.
– Я?.. Я и теперь влюблен, Елена Николаевна… Вы же сами знаете…
– Ну да, знаю, знаю и еще раз – знаю!.. Я не об этом хочу… А раньше?.. Ну, в первый раз?
Офицер мучительно покраснел и даже запутался в полах своей длинной кавалерийской шинели.
– Первый раз?
– Ну да…
– Первый раз, право, не помню… То есть, – заторопился он, перехватив капризное движение девушки, первый раз… конечно… Я первый раз, Елена Николаевна, был влюблен в горничную… – с мужеством отчаяния закончил он, и все его красное лицо сразу облилось потом.
Елена Николаевна с гадливым любопытством посмотрела на него.
– Разве? – закусив губы и шевельнув бровями, процедила она. – Не много же чести быть любимой вами!
Девушка нехорошо засмеялась, и глаза ее стали злыми.
Офицер обомлел. На его неумном, совсем беспомощном лице, на котором нелепо торчали светлые распущенные усы, отразилась кроткая, горькая обида.








