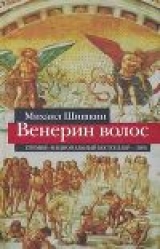
Текст книги "Венерин волос"
Автор книги: Михаил Шишкин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Летом, на каникулах, их родители уезжают с ними в Германию. От всей поездки, когда близнецов расспрашивают, что они видели в Европе, Назаровы вспоминают только крепость в Нюрнберге и в ней Folterkammer, камеру пыток, с Железной девой, в которой мучили несчастных, и поразившие их инструменты для разных видов казней и пыток – железные ножницы для отрезания языка, игла для выкалывания глаз, лучинки, которые загоняли под ногти и поджигали, и все в таком же роде. Особенное впечатление произвели на них – и тут они переходят на шепот и рассказывают только мальчикам на ухо, но все слышно – щипцы для раздавливания чувствительных частей мужского тела.
Но Назаровы становятся и нашими спасителями, когда мы с Мишкой, Тусей и другими подружками из гимназии идем на гуляние в Нахичевань. К нам пристают пьяные мастеровые из Темерника, и Назаровы, увязавшиеся за мной, храбро вступают с ними в драку. С тех пор мы ходим гулять в Новопоселенский сад, где не было спасенья от хулиганья, с близнецами, и они носят с собой ножи и кастеты.
Мир устроен странно: близнецы Петя и Сема готовы за меня зарезать человека, но я люблю не их, а фотографическую карточку, бумагу, причудливую смесь черного и белого, и все это так просто, что объяснить невозможно.
Стала перечитывать написанное и вдруг спохватилась, что ничего еще не рассказала о младшей маминой сестре, тете Оле, приезжавшей иногда из Петербурга.
Вот она, влетает, стуча каблучками, в наши комнаты, сделавшиеся с ее появлением маленькими, пыльными и скучными, вся стремительная, благоухающая, столичная. Мы облепляем ее на диване, душим поцелуями. Она всем привозит подарки – что-нибудь, как укоризненно качает головой мама, самое ненужное. Самое ненужное почему-то и оказывается самым замечательным: все эти перышки, заколки, карточки, веера. Тетя Оля говорит, что жить нужно zefiroso. И сама она так же дышит, и ходит, и ест, и смеется – zefiroso – легко, воздушно. Иногда любит огорошить вопросами вроде: “Что ты предпочтешь: вкусную еду из некрасивой посуды или невкусную из красивой?”.
Однажды вечером после ужина я представляю в лицах выученную для гимназии басню “Стрекоза и муравей”, не сомневаясь, что все будут мне сейчас аплодировать в восторге от моих актерских талантов, стоит мне только, нравоучительно подняв к потолку палец, произнести: “Так поди же попляши!”. Но тетя Оля, не дождавшись конца, вскакивает и, прервав меня, кричит: “Все не так! Не так, Бэллочка! – объясняет мне тетя Оля, как нужно правильно понимать смысл басни, – Стрекоза веселая и милая, жила так, как и нужно прожить эту жизнь – веселиться, петь, радоваться солнцу и небу, быть и самой доброй и надеяться на доброту других! Она служила красоте, понимаешь? А муравей – негодяй, жадный, как все богатые, мещанин и пошляк!”.
Тетя Оля привозит нам дневник Башкирцевой, на которую она чуть ли не молится, и вечерами читает вслух из него: “Люди потому стыдятся своей наготы, что не считают себя совершенными. Если бы они были уверены, что на теле нет ни одного пятна, ни одного дурно сложенного мускула, ни обезображенных ног, то стали бы гулять без одежды и не стыдились бы…Разве можно устоять и не показать что-нибудь действительно прекрасное и чем можно гордиться?”. Тетя Оля рассказывает, как была в Швейцарии на Луганском озере и жила там несколько недель в какой-то колонии, где все ходят голыми – и мужчины, и женщины. Еще она возмущается тем, что даже в искусстве не изображают мужские гениталии, якобы это неприлично, а ведь это – святая святых, тайна бытия и смысл мироздания! Христа, – продолжает она – распяли голым, как положено приговоренным рабам, а потом все настоящие распятия попы уничтожили и стали одевать Христа!
Наша старая няня слушает ее из открытых дверей и громко плюется: “Срамота!”. Она не любит тетю Олю и тем более такие разговоры, которые, по ее убеждению, нас только портят.
Маме тоже не нравятся эти разговоры, но и уйти или промолчать она не может, пытается спорить с сестрой: “Что ты такое говоришь, Оля! Ведь есть естственный стыд, есть в человеке нравственные границы, отделяющие низ от верха, есть в конце концов, моральные ограничения, освященные тысячелетним человеческим опытом, законами, религией в конце концов!”.
Тетя волнуется, вскакивает, начинает бегать по комнате и доказывать, что во всех религиях испокон веку все это было совершенно естественным и вообще стояло в центре почитания, древний мир поклонялся Приапу, и это было божество, и только христианство все извратило – потому что терпеть не может все живое и вообще есть религия смерти, и поэтому нежизнеспособно и скоро само по себе отомрет, уже почти умерло. “И стоит только заглянуть в Библию, – горячится тетя Оля, – там тоже клялись этим как самым святым, берясь за это самое место. Когда Авраам посылает своего слугу за женой для Исаака, он говорит ему: положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли. И потом раб кладет Аврааму руку туда и клянется во всем! Вот!”
Тетя Оля обращается к старшим сестрам, но я сижу, свернувшись в кресле, слушаю и запоминаю. Я восхищаюсь ею, но в то же время мне ее жалко, потому что, как говорят сестры, она одна, несмотря на множество романов. Тетя Оля когда-то была замужем, но у нее умер ребенок. Потом она ушла от мужа, и больше семьи у нее не было.
“И вообще, мы промахнулись с рождением, – продолжает тетя Оля, закуривая папироску и открывая форточку в морозную темноту, откуда в комнату лезут пьяные крики и лай собак. – Надо было появиться на свет не здесь, а где-нибудь у теплого моря и вообще в другом тысячелетии, в той же Древней Греции, где любили любовь и не боялись любить, где жизнь была груба и естественна, а не груба и неестественна, как нынче. И вряд ли жизнь в Элладе была грубее жизни в вашем Темернике!”
Я люблю тетю Олю, потому что она всегда говорит странные вещи. Я знаю, что Христос велел всех любить, а она возмущается христианством: “Как будто можно отделить в человеке одно от другого – тело от Бога, – говорит она. – Это все равно как утверждать, что корни и цветок – два разных существа!”
Папа слушает тетю Олю молча, только иногда вставляет какие-нибудь замечания. Один раз, когда разговор заходит о происхождении религии, он говорит, что вначале была вовсе не любовь, а охота, нужно было убить зверя, чтобы выжить. Вот охотники и взяли себе в помощники большого, сильного охотника, который поможет им убивать. “Нет, – возражает тетя Оля, – Бог начался с той женщины, у которой заболел ребенок, и никто ей больше не мог помочь. И ей ничего не оставалось, как поднять руки к небу и молиться”.
Слушаю тетю Олю и вспоминаю окраину Ростова в районе мастерских Владикавказской железной дороги: вонь из пивных, везде “живые трупы”, лежащие в собственной рвоте и крови. У дверей кабака женские визги, пьяная, угрюмая драка. От всего безысходность, убогость, бессмысленность – от брани, от грязи, от людей. А тетя Оля утверждает, что нужно жить с миром, как новобрачные, влюбляться в эту жизнь каждый день, потому что новобрачные полны любви и на все смотрят, как в первый раз. “Нужно провести всю жизнь в медовом месяце, – говорит нам тетя Оля, – и выходить замуж за все – за дерево, за небо, за книги и всех на свете людей, за красивый цветок, даже вот за этот морозный воздух из форточки!”
Любезный будущий бывший Навуходонозавр!
Ура! Получил вашу открытку! Приятно, будучи в тридевятом царстве, в столице столиц, взглянуть на ваш почерк и узнать, что у вас все хорошо. Разумеется, толмача весьма огорчило, что вам не хочется ходить в школу. Но, посудите сами, кому хочется? Зато потом, когда-нибудь, будет что вспомнить.
И не захочется вспоминать, да вспомнится. Уж поверьте. С прошлым всегда так.
К примеру, взять ту же Гальпетру, о которой я упоминал в одном из предыдущих посланий. Столько лет прошло, даже не знаю, жива или нет, а она опять тут как тут.
Не знаю, как у вас в школе с дисциплиной, а у нас на уроках Гальпетры всегда была идеальная тишина. При этом ее рисовали в туалетах: голой с усами и пудовыми сиськами. Невинная детская месть. На большее никто не решался. Ее никто не любил. Ни дети, ни учителя.
У Гальпетры любимый герой был Януш Корчак. Мы что-нибудь натворим, а она принималась на нас кричать и рано или поздно переходила на Корчака. Когда она про него рассказывала, становилась совсем другой. И голос менялся: “Но как, как оставить детей одних в запломбированном вагоне и в газовой камере?”. Она всегда рассказывала одно и то же, теми же фразами. Все уже знали, что она скажет, наизусть. И у нее на глаза каждый раз накатывались слезы, когда доходила до слов: “И вот пятого августа сорок второго года Януш Корчак вывел своих детдомовцев на улицу, они построились в колонну и, развернув зеленое знамя короля Матиуша, отправились в свой последний путь, а сам Корчак шел впереди, держа за руки двух детей.” А кончалось все так: “Вы понимаете, за кого он страдал? За кого он отдал свою жизнь? За вас! А вы…”. При этом, когда один начитанный умник сказал, что Корчак был вовсе не Корчак, а Гольдшмид, она обиделась, мол, не был он никаким евреем! Стала его защищать и возмущаться, что стоит только родиться в кои веки порядочному человеку, сразу начинается: а вот у него фамилия еврейская!
Умник совсем не это имел в виду, но оправдаться уже было невозможно.
Гальпетра преподавала ботанику и зоологию, в классе на подоконниках росли в горшках всевозможные растения. Она знала название каждого по-латыни и все время повторяла:
– Растения – живые, а называются на мертвом языке. Вот видите, в южном климате это сорняки, растут где попало, а у нас – это комнатные растения. Без человеческой любви и тепла они в нашей зиме не выживут.
От ее уроков осталось только, что есть растения цветковые, а есть тайнобрачные.
Вот, вспомнилось – а зачем толмачу все это помнить?
Один раз Гальпетра прошлась по коридору с приклеенной скотчем бумажкой на спине. Та самая пиктограмма. С огромными сиськами. Кто-то умудрился незаметно приклеить в толчее после урока. Будущему толмачу на какую-то секунду пришло в голову броситься и снять с нее ту бумажку или сказать ей, чтобы оглянулась. Но только на какую-то секунду.
Так и вам, любезный будущий бывший Навуходоназавр, надо ходить в школу, чтобы потом вспоминалась всякая ненужная ерунда, вроде тайнобрачных или бумажки с туалетным рисунком, потому что из такого все и состоит.
Пишу вам с крыши. Здесь, на крыше Istitutto Svizzero, терасса с видом на вечный город. Весь Рим как на ладони. Только ладонь очень большая.
Вот вам моя открытка. Справа, над Villa Borghese, снова поднялся синий воздушный шар, разрисованный под старинный монгольфьер. Слева, где-то над piazza Venezia, гудит вертолет, приклеился к небу, как муха к клейкой бумаге, жужжит и ни с места. До самых Альбанских гор купола и крыши. А прямо, над Святым Петром, кружится темное живое пятно. Огромная птичья стая. То сжимается, темнея, становясь гуще, то растягивается, распухает, перекручиваясь, переливаясь. Будто по небу летает огромный черный чулок, который все время выворачивают наизнанку. Откуда здесь столько птиц?
Вот на этой крыше толмач и сидит полдня. Потом спускается. В огромном здании тихо – статуи молча разглядывают картины. Все из белого мрамора: стены, лестницы, колонны, будто выточены из рафинада. Когда-то эту виллу построил швейцарский сахарный магнат, который хотел увидеть Рим на протянутой ему ладони. Теперь здесь Швейцарский институт. За каждой дверью сидят стипендиаты и целыми днями что-то делают. Один художник в первый же вечер пригласил толмача к себе в ателье и долго рассказывал о своем проекте: огромный желудок переваривает Берн, даже демонстрировал анимацию на компьютере. Другой художник тоже пригласил в свое ателье и показывал, как он делает “Lampenbrote”1: из больших батонов через дырочку он вынимает мякиш, внутрь вставляет лампочку и подвешивает к потолку. Художник выключил свет, и они сидели в темноте, а над головами светился батон. В третьем ателье, в башне со сквозным видом на весь Рим, художница выдернула себе волос из головы и стала его так приклеивать к куску мыла, чтобы получилась карта мира. Она даже подарила толмачу такое мировое мыло.
Толмач, забросив лэптоп в свою комнату, выходит на via Ludovisi. Запахи римской улицы: бензина, кофе из распахнутых дверей бара, ладана и свечей из церкви, духов из бутика, мочи и мокрой известки из подворотни. Кругом гомон: прохожие пытаются объяснить что-то своим telefonino. Бешеная собака укусила мотороллер, и теперь в городе эпидемия, болезнь перекинулась и на машины, и на автобусы, носятся как ошалелые. Спятили даже канализационные люки, возомнили себя бог знает кем: куда ни ступишь, везде “S.P.Q.R.” – “Senatus Populus Que Romanus”2. Из люка на мостовой бьет пар, плотный, тяжелый, замазывает улицу, заставленную мотороллерами. Пробел в уличном пейзаже. Прореха. Или это Рим уже засмотрели до дыр?
1 “Лампохлеб” (нем.).
2 “Сенат и народ Рима” (лат.).
Над головами – указка экскурсовода с привязанным розовым платком. Толмач идет за ней. Она приводит его на Barberini. Тритон на площади дует в раковину, напыжившись, за каждой щекой по апельсину. Струя с прямым пробором на темени. Здесь когда-то выставляли для опознания найденных покойников. Вода щелкает о брусчатку.
Запахи, шум – римские, а вот цвет домов совершенно московский, в Сивцевом Вражке такой цвет был у облезлой, полуобвалившейся штукатурки старых особняков – теплый, уютный.
По via Sistina к Гоголю. Номера домов тоже спятили. Выстроились в какой-то только в Риме возможной последовательности. Вот он, 125-й. У двери на табличке имена. Теперь там живет некий De Leone. Окна верхнего этажа. Из-за шторы кто-то смотрит. Внизу стойло для ослов. Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось!…
Позвонить? Откроет старичок – узнав, к кому пришел иностранец, объявит заученно, что Гоголя нет, что он уехал и никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, скорее всего, сляжет в постель и никого принимать не станет.
Экскурсовод с бамбуковой тросточкой над головой ведет улицу к Trinitа dei Monti. Белая тряпочка, повязанная бантом, порхает мотыльком над толчеей.
Испанская лестница соткана из тел, рук, ног – живой гобелен, сбежавший из ватиканских музеев. Негр пристает к парам с букетом роз. Под ногами ползают пластмассовые заводные солдаты, кричат что-то на своем пластмассовом языке, стреляют, прицелившись, по скомканным салфеткам, по раздавленным стаканчикам. Старуха с клюкой скрючилась на мраморной плите, протягивает руку, бормочет себе под нос, слышно только “прего” и “манджаре”. Грязные пальцы бьются в трясучке. Совершенно из подземного перехода на Электрозаводской, разве что научилась сказать два слова по-итальянски.
Толмач садится на ступеньки, смотрит на толпу внизу вокруг фонтана Баркаччо, на via Condotti, залитую по края головами, как кашей. Будто где-то горшочек варит себе эти головы и варит, и никто не скажет ему: “Горшочек, не вари!” – и вот залило уже все улицы.
Толмач смотрит на посеревшие зимой дома, на тусклые декабрьские облака.
Несколько лет назад толмач сидел на этих ступеньках, но не один.
Левкиппа и Клитофонт. Пирам и Фисба. Толмач и Изольда.
Толмач был здесь со своей Изольдой. Их ребенку исполнился год, и они, подбросив его бабушке, прилетели на несколько дней. Нужно было вырваться из пропахшей младенцем квартирки, увезти Изольду от всего этого заводного, домашнего, незаметно опускающего, сводящего потихоньку с ума, от всех этих кормлений по часам, памперсов, стирок, ванночек, бессонных ночей. Так важно было из невыспавшихся, замученных родителей снова хотя бы на несколько дней вернуться в тех, кем они были до этого: в мужчину и женщину, которые любят друг друга.
Они пришли на Испанскую лестницу поздно вечером и увидели тут свадьбу, тех самых жениха и невесту, которых видели до этого в Латеране. Ночная невеста была еще в дневном подвенечном платье, сидела на ступеньках, играла на гитаре и пела “Yesterday”. И жених пел, и гости. И вся Испанская лестница тоже пела вместе с ними: “I believe in yesterday…”.
Прошло всего несколько лет, и Рим – другой, хотя все на месте, и статуи не разбежались. Те же облупленные палаццо с щербинами отвалившейся штукатурки. А статуи на них издалека – как огромные насекомые, вставшие на дыбы, – все, как тогда. И те же кошки прячутся под машинами. И такая же уличная грязь, тот же обросший зеленым мхом мраморный герб над дверью и те же ржавые решетки в темных квадратах давно ослепших окон. И то же журчание воды в барочной раковине, мшистой, обвитой плющом. И все – другое.
От того, первого Рима осталось ощущение дождя и солнца. Мокрая насквозь блузка, приставшая к ее телу – Изольда отщипывала от себя прильнувшую ткань. Звук шин по еще дождливой, но уже сверкающей на солнце брусчатке – совсем особый, с чмоканьем, с влажным посвистом. На мокрых стенах, листьях, камнях – жидкое, слепящее солнце. От всего идет пар – и от плит тротуара, и от намокшего белья, вывешенного над головой, и от спин статуй. После дождя воздух становился резким, пахучим, свежим, но всего на несколько минут, потом опять припекало, и от выхлопных газов становилось нечем дышать.
С утра до ночи – музеи, галереи, церкви. Темные полотна, золоченые алтари, мраморные тела.
Рим тел. Тела повсюду – каменные, но телесные – мужские, женские, полуживотные. Мускулы, груди, соски, пупки, ягодицы – у диоскуров, императоров, мадонн, тритонов, богов, фавнов, святых. Бедра, коленки, икры, пятки, растопыренные пальцы ног.
Тот Рим рассыпался на осколки.
Вот ящерка стремглав уносится наискосок по стене, спряталась под лист, остался только хвост – как крошечный полумесяц. Где это было? В каких-то развалинах из кирпичей, тонких, в два пальца.
Вдруг снова дождь – в открытую дверь траттории летят брызги. Настоящий ливень – по тротуарам и мостовым клокочущие потоки. Из-под машины выглядывает рыжая кошка – прячется там от дождя. Толмач заказывает лазанью и due bicchiri. Изольда учит его чокаться по-итальянски. Нужно сказать:
– Cento giorni come questo!1
1 Сто таких дней, как этот! (итал.)
Они пьют, чтобы вот эти брызги, долетающие до их голых ног, шум ливня, рыжая кошка, итальянец за соседним столиком, зажавший свой телефонино между ухом и плечом, потому что так легче объясняться руками, – чтобы все это повторилось сто раз. Тот ресторан совсем рядом, на via della Croce. Cидели там долго, уставшие, с ноющими ногами. Меню было только по-итальянски, и они тыкали пальцем в замызганную картонку, а официант объяснял, показывая на себе: это печень. А это? Похлопал себя по ляжке, мол, филейный кусок. А это? Прижал к бокам локти и замахал кистями рук, как крылышками: пиччоне, пиччоне!
Тогда, в Риме, впервые после года, набитого до отвала заботами – как найти работу, квартиру, устроить жизнь с маленьким ребенком – толмач увидел, какая Изольда стала после родов красивая. Увидел это, когда они шли по гостиничному коридору – переоделись и хотели где-то поужинать в городе – она шагала впереди и говорила что-то, и он, будто впервые, видел ее волосы, вырез платья, как качаются бедра, ее поступь на каблуках. Она говорила что-то, оборачиваясь в полумраке узкого прохода, и лампы в потолке меняли ее лицо через каждые несколько шагов – то привычный, совершенно домашний, профиль, то чужой, незнакомый, который хотелось трогать пальцами, целовать.
Они ужинали тогда в “Ulpia” над самым форумом Траяна, сидели на открытой террасе. На столиках горели пузатые свечи в стеклянных стаканчиках – уже стемнело. Глубоко внизу, метров восемь или десять – там время измеряется метрами – лежал древний Рим, вернее, его обломки – каждая руина была освещена. Колонны валялись, будто обглоданные мозговые кости. В ожидании заказанного carrй di agnello они пили вино и читали друг другу путеводитель, пытаясь понять, где что было за две тысячи лет до них, но разобраться во всех этих форумах Веспасиана, Августа, Цезаря, Нервы, переходящих один в другой, было совершенно невозможно, да еще оказалось, что большую часть этих форумов закопали обратно при Муссолини. Толмач смотрел на Изольду и тогда, при свете свечи, впервые обратил внимание на то, что у нее шевелится кончик носа, когда она разговаривает или ест. Раньше почему-то не видел этого.
Они пытались найти в путеводителе что-нибудь про название ресторана, кем была эта Ульпия: богиней, женщиной, городом? Но в книжке ничего про нее не было. Откуда-то снизу доносились крики кошек, которые отмечали кошачью свадьбу-невидимку в огромном котловане, потихоньку зараставшем. И не верилось, что именно здесь когда-то выставили для всеобщего обозрения отрубленные кисти рук Цицерона, прибили к ораторской трибуне. Было какое-то несоответствие между теми прибитыми руками и вот этой огромной ямой перед нами, пустой, кошачьей, зарастающей травкой-муравкой.
Изольда сняла босоножки и положила под столом свои ноги толмачу на колени. Он гладил под скатертью ее пальцы и слушал, как она читала про колонну Траяна, на которой почему-то стоял Петр, освещенный прожектором. Казалось, что идет снег, потому что к ночи на улицы Рима высыпали, как из распоротой подушки, ворохи каких-то ночных бабочек, и они вспыхивали в свете фонарей, окон, фар, прожекторов. Мотыльки кружились вокруг, все норовили угодить в свечку, Изольда отгоняла их от огня книжкой.
Они возвращались в гостиницу немного пьяные после кьянти и граппы. Стояли и рассматривали барельефы на самой знаменитой в мире колонне: вот римские разведчики возвращаются с отрубленными головами даков, вот даки сдаются и женщины с детьми покидают свои дома, а римляне вселяются со своим скотом, здесь дак себя закалывает, чтобы не сдаваться римлянам, там солдат целует руку Траяну, еще выше дакские женщины факелами поджигают голых убитых римских солдат, над ними головы римлян на копьях на стенах дакских укреплений, еще выше римляне рубят деревья – и на колах снова чьи-то головы – и так без конца наверх по спирали – символ движения, прогресса, а на самом верху старый человек – замер, боится пошевельнуться, потерять равновесие, никак не может понять, как он здесь очутился, на такой высоте, – главное, не смотреть вниз, а то закружится голова.
Весь город был в ночных бабочках – кружились у фонарей, валялись на мостовой мертвые и еще трепыхались. Мальчишки поджигали их зажигалкой. Толмач в детстве так поджигал спичками залежи тополиного пуха. Всю Москву заваливало пухом, как снегом. А эти поджигали снег из мотыльков.
Было жарко даже ночью. Когда они поднялись к себе в гостиницу, в комнате было душно. Изольда пустила сильную струю холодной воды в умывальнике и подставляла ладони, кисти, локти. Толмач обнял ее, схватил и понес через всю комнату, опустил на кровать – мокрыми ледяными руками она притянула его к себе. Струя из забытого крана все шумела. Изольда шепнула:
– Пойди закрой!
А толмач ответил:
– Это дождь за окном.
В тот первый день в Риме толмач все время смотрел на эту женщину, такую привычную, каждодневную и незнакомую одновременно, и думал, что вот это и есть счастье: слышать, как стучат ее зубы о стакан, когда она пьет, видеть, как расползалось у нее по груди мокрое пятно, когда она пролила на себя воду. Нюхать ее запахи. Она пахла в тот день новыми босоножками – магазином, кожей, клеем, потом, духами. Лежать на гостиничной кровати и видеть в проем двери в зеркале, как она ходит то без юбки, то без блузки. Смотреть, как она поправляет узкий лифчик. Чувствовать щеками и ладонями мелкие острые уколы – она сбрила волосы на ногах несколько дней назад, и теперь они чуть-чуть отросли и кололись. А когда Изольда залезла в ванну и включила душ, показалось, что она оделась в воду.
Перед тем как заснуть в ту ночь, они массировали друг другу уставшие за день ноги. Легли валетом, опираясь на локоть. Толмач втирал пахучий лавандовый крем в ее пятки, в шрамы на ногах – следы от операций после ее аварии, и Изольда рассказывала, как в детстве, когда она с родителями ехала в жару по иранской пустыне на машине, то просила: “Мама, принеси мне холода!” – и та высовывала руку в окно, держала так минуту и потом горстью приносила воздух снаружи в раскаленную машину, вытирала ей шею.
Во сне Изольда сбросила одеяло, в свете луны блестела ее кожа, покрытая испариной. И толмач снова тогда подумал, как много нужно, чтобы почувствовать себя счастливым: быть немножко пьяным от граппы, от Рима, от любви, от яркого месяца за окном, который свисает, будто хвост спрятавшейся за облако, как за лист, ящерицы, засыпать с этой женщиной и знать, что завтра будет утро, и не просто утро, а утро в Риме, когда так остро чувствуешь, что очень мало времени и нельзя терять ни мгновения, а нужно быстрей идти окунуться в этот город.
Той ночью толмач проснулся, потому что его закусали комары. Не мог спать от их зудения и все расчесывал укусы. Включил свет, стал бить по стенам путеводителем, оставляя на обоях кровавые пятна. Потом никак не мог заснуть. Поднял с пола одеяло, закутался, прилег на подоконник, высунувшись на светлеющую римскую улицу, еще сонную, пустую, уже холодную. Под утро снова пошел дождь, и все засверкало, в мокрой брусчатой мостовой засветились отражения фонарей, реклам, вывеска бара, витрины. Все пахло, казалось, что даже подоконник и стена дома тоже издают какие-то особые римские запахи.
Толмач думал о Тристане.
До толмача у Изольды был Тристан. Они любили друг друга и тоже ездили на каникулы в Италию.
Однажды они отправились на каникулы и попали в аварию. Где-то между Орвието и Тоди. Ехали по извилистой дороге над Тибром. Из-за поворота им навстречу вылетел грузовик.
Тристан вел машину. Он погиб сразу. Его вдавило рулем.
А Изольда выжила. У нее было шестнадцать переломов.
Прошло несколько лет, и она вышла за толмача, и теперь они любили друг друга и ездили на каникулы в Италию.
И вот один раз толмач сел за компьютер, чтобы сделать какой-то перевод. В то время у них еще был общий компьютер. Вдруг толмач увидел, взглянув на последние открывавшиеся файлы, какое-то странное название. С этим файлом накануне работала Изольда. Толмач знал, что нельзя читать чужие письма и файлы. И открыл его. Это оказался дневник, который она вела.
Сперва толмач хотел закрыть файл, не читая.
Потом стал читать.
Это был странный дневник. Изольда делала записи не каждый день и не каждый месяц. Только тогда, когда ей было плохо.
Толмач стал читать эти записи, чтобы узнать, что пишет, скрывая от него, человек, с которым он делит жизнь.
Когда у них все было хорошо, она ничего не записывала, этих дней как будто и не было. А когда становилось невмоготу, когда испытывала приступы удушья от делимой с толмачом жизни – садилась к компьютеру, открывала тот файл и выговаривалась. Их ссоры, о которых толмач давным-давно забыл, продолжали жить, записанные по свежим следам, еще неотболевшие, непрощенные.
И еще было странно, что этот дневник она писала Тристану.
Умершему на тех страницах доставалась любовь, а толмачу – обиды, горечь, озлобление.
Она записывала слова, которые они бросали друг другу, чтобы сделать больно, но не записывала то, что шептали друг другу потом.
Толмач решил ничего не говорить Изольде и больше никогда не читать то, что предназначалось не ему.
Почему-то, когда они заказывали билеты в Рим и отель, Изольда хотела остановиться именно в этой гостинице, хотя ничего особенного в ней не было. И вот тогда, высунувшись в окно на ночную дождливую улицу, толмач вдруг подумал, что именно в этой гостинице она была с Тристаном. И тут же сам себе удивился: как ему могла прийти в голову такая глупость.
Толмач лег, но долго не мог заснуть, потому что все время думал о Тристане, ведь Изольда была с ним в Риме. Перебирал то, что было за день, и вдруг ему пришло в голову, что ведь это с Тристаном она вот так же чокалась и говорила: “Cento giorni come questo!”. И может быть, они вот так же сидели, может, даже, в той самой траттории – почему она привела его именно туда? – а на улице тоже шел дождь, и они тоже ждали лазанью и потягивали кьянти, принесенный, может, в этих же самых кувшинчиках.
В голову приходили мелочи, детали, смысл которых открывался только сейчас. Они прилетели в Фульмичано, и нужно было купить билет на поезд до Рима. Там были автоматы, в которых можно платить карточкой. Изольда сказала:
– Не надо, вдруг проглотит! У меня уже так было.
В кассу была длинная очередь, и толмач все-таки сунул в автомат кредитную карту – и все так именно и произошло: ни билета, ни карты. Benvenuto all’Italia!1 Толмач остался у автомата, а Изольда пошла искать, кто поможет. Она говорит немного по-итальянски. Те, кто сидел за окошками, не могли помочь. Кто мог помочь – тех не было. И вот они стояли у автомата и чего-то ждали. Изольда разнервничалась, и толмач ее успокаивал, что пустяки, все обойдется, а сам уже собирался звонить, чтобы заблокировать карточку. Изольда то и дело повторяла:
1 Добро пожаловать в Италию! (итал.)
– Gottverdдlli!1
Потом пришли какие-то итальянцы, открыли ключом автомат, и толмач получил свою карту. Они купили билет в кассе и сели в экспресс до Термини. Теперь же, ночью, в голову пришло, что ведь это, наверно, у Тристана автомат вот так сглотнул карту.
Раньше Рим встречал приезжих у парадного подъезда – Porta del Popolo, а нынче принимает через черный ход. Тащишься до вокзала какими-то грязными пригородами. Толмач все высматривал в окно, подъезжая к Термини, где же Рим, а показывали какие-то задворки, уродливые, неприветливые. Первое, что увидел, когда вышли из вокзала, – “Макдоналдс”. Ecco Roma?2 Изольда утешила: чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первый эспрессо. Они зашли в длинный узкий бар, в котором, как в пещере, жила фыркающая машина для варки кофе, выпили стоя свой первый эспрессо, будто это было какое-то магическое зелье, и действительно Рим начался. А теперь толмачу подумалось, что это, наверно, Тристан так сказал ей когда-то: “Чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первый эспрессо”.
1 Нем.-швейц. груб.
2 Вот Рим? (итал.).
Вдруг тогда, в Риме, после той ночи толмачу стали открываться простые вещи, о которых он раньше не задумывался. Например, Изольда любила, чтобы ей вдавливали ногти в разных местах в кожу головы – это помогало от боли или если не хотелось просыпаться, а нужно было рано вставать. Наверно, кровь приливала к голове и действительно наступала особая ясность, трезвость. И толмачу тоже понравилось с утра, когда Изольда вдавливала ногти в его голову, сначала еле-еле, потом все сильнее. И вот они долго ждали поезда в римском метро, душном, потном, у Изольды заболела голова. Она села на скамейку, а толмач стал ей вот так, ногтями, массировать голову. Она закрыла глаза, заурчала. И толмач спросил:








