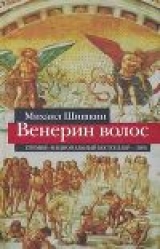
Текст книги "Венерин волос"
Автор книги: Михаил Шишкин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Ответ: Зачем вы мне это рассказали?
Вопрос: Чтобы вы знали то, что было.
Ответ: Она хотела сделать аборт?
Вопрос: Нет. Она сказала своей маме только то, что была на юге, и забеременела, и теперь хочет родить ребенка. Они стояли на кухне. Мама курила и молчала. Ей нельзя было курить, она уже была больна, но никому об этом не говорила. Потом потушила сигарету под струйкой воды из-под крана и сказала: “Вот и хорошо. Родишь нам малютку, и будем ее любить. Бог не по силам испытаний не дает”. Она еще успела понянчиться с внуком. Что с вами?
Ответ: Извините, просто глаза приклеились. Вот смотрел на телефон и вдруг подумал: если Таня сейчас позвонит сюда – ведь бывают же чудеса на свете – и спросит: “Есть новости?” – я знаю, что ей ответить. Я скажу: “Есть. Я люблю тебя еще больше”.
Вопрос: Вы с ней хотели ребенка?
Ответ: Конечно. И я, и она. Сначала ничего не получалось – она никак не могла забеременеть, и я боялся, что это из-за меня, что со мной что-то не в порядке, у нее ведь уже был ребенок. А потом она забеременела. Это произошло в тот самый день, когда она прижимала к себе пахучую кофемолку, а я открывал банку сардин. Мы купили в аптеке тест, и она зашла в туалет – мы как раз гуляли по Гоголевскому бульвару. А зима была, снег, и везде были раскатаны ледяные дорожки. Так она разбежалась и ко мне покатила, как девчонка. Хохочет, рахмахивает руками. Скользит прямо мне в объятия. Ничего не сказала, я и так все понял.
Вопрос: Вы знали, что у нее проблемы с почками?
Ответ: Откуда? Сначала все было хорошо. Помню, мы пошли в консультацию вместе, я обязательно хотел пойти с ней, не знаю почему. Вдруг стал за нее бояться. И мне там все сразу не понравилось. На Таню завели историю болезни, будто беременность – болезнь. И к врачу нужно приходить со своим полотенцем и со своими тапками или надевать на ноги полиэтиленовые пакеты. Один раз по телевизору была передача про роды в море. Показывали, как беременные уезжали к морю и там рожали. Приглашали, дали телефон, куда обращаться. Таня потом вдруг спросила: может, тоже поехать рожать на море? Но это было что-то вроде секты, и женщины потом должны поедать послед, как собаки. Я сказал: не волнуйся, заплачу, сколько надо, и все будет в порядке. Таня простудила почки и должна была лежать, проводила недели в постели, пила много жидкости, распухла, будто у нее двойня. Ей казалось, что она подурнела, и поэтому все прикладывала к глазам испитые пакетики с чаем, верила, что помогает против отечности. Или две дольки огурца. Но все это, когда меня не было: боялась, что я так ее увижу – с огуречными глазами.
Вопрос: А сын? Ревновал?
Ответ: Наоборот. Ромка радовался, что у него будет братик или сестренка. Помню, мы лежим вечером втроем и гладим ее живот – я с одной стороны, Ромка с другой. Я говорю: “Расти, сестренка!”. А Ромка: “Расти, братик!”. Я девочку хотел, а он мальчика. На УЗИ потом сказали, что будет мальчик. Ромка радовался: “Ура! Я выиграл!”. Отпечаток с экрана поставили за стекло на книжную полку. Просыпаешься утром за несколько минут до будильника и смотришь – как сквозь помехи из космоса: вот головка, вот ручка. Будто он передает нам привет с какого-то космического корабля, будто уже летит к нам откуда-то с другой планеты, где жил все эти тысячи и миллионы лет, поджидая нас. Потом ее положили на сохранение. Она без книг жить не могла и в больницу взяла с собой несколько штук. Пыталась там читать, но ей не давали бабскими разговорами. Я к ней заезжал каждый день, и мы ходили по больничному коридору, потом я бежал в садик за Ромкой. Она открывает книжку, какую читала, и спрашивает: “Смотри, здесь написано, что человеческое тело вытянуто во времени – и таким образом всюду заполняет собой пространство. Это как?”. Пожимаю плечами – откуда мне знать? Раз там так написано, то, может, так оно и есть. Им видней. Спрашиваю: “А ты понимаешь?”. Качает головой: “Еще нет. Но когда-нибудь пойму”. Я смеюсь: “Так и я когда-нибудь пойму”. Там нянька мыла пол и все время ворчала: “Вот так всю жизнь в постоянном страхе и живем – сначала боишься забеременеть, потом рожать, потом до гроба страх за дитя”.
Вопрос: Она вернулась домой уже без ребенка?
Ответ: Да. Она перестала чувствовать в себе его движения. Ребенок был уже мертв – в ней.
Вопрос: Вам объяснили, что случилось?
Ответ: Объясняли. Я не очень понял. Я боялся за Таню. Ей было очень тяжело. А главное, я не знал, что ей сказать. Хотел ее утешить, успокоить, но это ведь в таком положении невозможно. Я только говорил все время: “Мы вместе, и это главное. И у нас есть Роман. И у нас еще будет ребенок. Обязательно будет! Вот увидишь!”.
Вопрос: Что вы сказали мальчику?
Ответ: А что тут скажешь? Так и сказали, что его братик не родился. Что он умер. Таня водила Ромку по воскресеньям в школу при церкви. Он возвращался и выдавал сентенции, вроде: “Говорить, что нет Бога – это как убеждать детей, что у них нет и никогда не было родителей”. А тут пришел и сказал: “Ничего он не умер! Просто он нас ждет где-то”. Я боялся за Ромку, что ему трудно будет – что другие мальчишки забьют. Это с мамой он боевой до истерики, а с другими детьми ниже травы тише воды. Боялся плавать в пруду – что глотнет головастиков, что присосутся пиявки. И всех жалел. Один раз зимой в мороз принес домой птицу, подобрал на дороге. Замерзшая, твердая – думал, что отогреет, и та оживет. А фантазия у него! Играет сам с собой, будто два чайника с поднятыми носиками – это два слона разговаривают друг с другом, большой и маленький. В баню с ним пошли, там жара, шум. Он говорит: “Папа, сделай так!”. Стоит и закрывает уши ладонями, потом открывает и снова закрывает – получается, будто кто-то чмокает в ушах. Вот стоим с ним и чмокаем ушами. Перед сном укладываю его и читаю что-нибудь. Мы с ним все перечитали, и Робинзона Крузо, и Гулливера, Мюнхгаузена, и Жюль Верна. Он из мыла сам сделал подводную лодку капитана Немо. И у нас с ним такой ритуал был перед сном – загадывать, кто где хотел бы проснуться. На необитаемом острове или еще где. Один раз он загадал, чтобы проснуться на подводной лодке капитана Немо, а там его ждет братик. А чаще я сам быстрее засыпал, чем он. Таня приходит, я сплю, а Ромка сидит в “Лего” играет или книжку смотрит. Я боялся все это потерять. Я боюсь, что с ними может что-то случиться. С ними может произойти все что угодно. Мне страшно за них.
Вопрос: Все будет хорошо.
Ответ: Да?
Вопрос: Поверьте, все обойдется.
Ответ: Вы думаете?
Вопрос: Я знаю.
Ответ: Откуда вы знаете?
Вопрос: Все всегда заканчивается хорошо. Так ведь каждый раз бывает: сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. И уже не верится даже, что все это было. Как дурной сон. Прошло и нет.
Ответ: А я тут заснул, и мне приснилось, как мы лежим снова в нашей кровати, Ромка юркнул к нам под одеяло, и мы с ним гладим ее живот с двух сторон, и я спрашиваю ее: “Как, разве он там не умер?”. А Таня мне отвечает: “Да нет же, послушай!”. И я глажу ей живот и хочу приложить ухо, послушать, и вдруг мне становится так страшно, что все это сон, и там у нее внутри – смерть, и вот сейчас я проснусь – в застуженной камере, в наручниках, и меня, кое-как зашитого, отправят обратно в барак.
Вопрос: Ну что вы! Ничего страшного, все хорошо, все позади! Ничего больше не нужно бояться! Все, что было плохое, – все это просто кошмарный сон, и вы сейчас проснетесь там, где загадывали с сыном проснуться. Хотели же вы с ним проснуться в мыльной кают-компании! И там будет ваша Таня, и Ромка. И вас там уже заждался его братик. И ваша мама. И сестра. И все, кто вам близок и дорог. И все станет вдруг так просто и понятно про человеческое тело, которое вытянуто во времени и таким образом всюду заполняет пространство своей любовью. А для Ромки там какое раздолье – целая подводная лодка! Можно все трогать, крутить ручки, колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, рычажки. И сам капитан Немо наденет ему на голову свою пропотевшую, засаленную, еще горячую изнутри фуражку.
Утром войско двинулось на Вавилон. Уже наступил час, когда на базаре становится многолюдно, и стоянка, где Кир предполагал сделать привал, была недалеко, когда показался Патесий, знатный перс из приближенных Кира, несущийся во весь опор на взмыленном коне и кричащий всем встречным на варварском и греческом языках, что приближается царь с большим войском, готовый вступить в бой. Выслушав его, Кир сказал: “Воины, наше отцовское царство так велико, что оно простирается на юг до тех мест, где люди не могут жить из-за жары, а на север – до областей, в которых нельзя обитать из-за холода. В случае нашей победы я обязан дать моим друзьям власть над этими странами. И я боюсь не того, чтобы в случае успеха у меня не хватило даров для всех моих друзей, но того, что у меня не окажется достаточного количества друзей, которых я мог бы одарить”.
Кир, сойдя с колесницы, надел панцирь, сел на коня, взял в руки копье и приказал всем полностью вооружиться и занять свое место в строю. Сам Кир пошел в битву с непокрытой головой.
Уже наступил полдень, а неприятель еще не показывался. Только после полудня появился столб пыли, похожий на светлое облако, а несколько времени спустя на равнине, на далеком расстоянии, выросла как бы черная туча. Когда неприятель приблизился засверкали медные части и наконечники копий, и можно было разглядеть полки. Впереди расположены были серпоносные колесницы. Серпы у них насажены вкось на оси колес и повернуты под колесницами лезвием к земле для того, чтобы разрезать на части все встречающееся на пути. Варварское войско приближалось размеренным шагом, а эллинское еще стояло на месте и строилось, вбирая в себя подходившие части. Кир разъезжал перед строем своих солдат и смотрел в ту и другую сторону, наблюдая врагов и друзей. Клеарх подскакал к нему и убеждал оставаться позади бойцов и не подвергаться опасности. “Что ты говоришь, Клеарх! – воскликнул Кир. – Я ищу царства, а ты советуешь мне показать себя недостойным быть царем!” Войско врага приближалось спокойно и медленно, без крика, в полном безмолвии.
Любезный Навуходонозавр!
Нынче у нас почтовая ночь, и вот спешу набросать вам несколько слов.
Не знаю, как у вас, а у нас здесь слова образуются по ночам, сгущаясь из словесной туманности. Словесная пыль каким-то образом превращается – нам объясняли когда-то в школе, но я все перезабыл, то ли не без участия холодильника Либиха, то ли под воздействием климатических колебаний – в семечки на языке.
А может, просто закон бессонницы.
Кстати, получили ли вы мое предыдущее послание, в котором я рассказывал об охоте на вальдшнепов, свадьбе без жениха, разорванной записке на рояле, покрытом лунным лаком, войне, бале, дуэли и университетском швейцаре, артистически игравшем в шашки пробками от химической посуды? Право, устаешь пенять на почту! Отправляешь нарочным, просишь их поскорее, щекочешь кончиком пальца протянутую дылдой-почтмейстером великанскую ладонь, мол, голубчик, по старой дружбе, за нами не постоит, а он, вместо того чтобы запрячь в собачью упряжку своих откормленных лаек, посылает каких-то доходяг. А после тундры тайга. Там только по льду замерзшей Тунгуски. Да и то если будет оказия.
Что ж удивительного, что Вы получите это мое послание с новостями, может, лишь через много лет. У нас сейчас полпервого. И мое полпервого перенесется к вам. Впрочем, я уже, кажется, сообщал, что в нашем безграничье что-то не так со временем.
Мое же полпервого заставлено коробками из-под бананов. Остались неразобранными еще после переезда. Стоят у стены. Тогда оставил просто временно, на первые дни, чтобы потом распаковать, а вот первые дни растянулись, вобрали в себя времена года, круговорот снега в природе и зудение комара.
Очень удобная вещь для переезда. В Denner’е тогда взял несколько отличных коробок. А тут хотел что-то найти, и не помню, где это могло бы быть, так что пришлось все разбирать. Всякий хлам, старые записные книжки, газеты, журналы, черновики, вырезки, выписки, допесочный Египет, выпавшая пломба, дебют четырех коней на мосту, вмятинки на паркете от острых каблуков.
А еще нашел бумаги из того самого допесочного Египта, когда толмач был молодым учителем орочей и тунгусов, получал копейки и бегал после школы еще по домашним урокам. У молодого учителя тогда только что вышел в одном журнале первый рассказ, от чего должен был перевернуться мир, но, вопреки ожиданиям, не перевернулся. Его, к счастью, ничто не перевернет. Зато, в утешение, в один зимний дождливый день – уже ползимы прошло, а морозов и снега все не было, и выброшенные новогодние елки валялись во дворе на пожухлой траве – молодому учителю позвонили из одного издательства, которые тогда пооткрывались в каждом подвале, и предложили написать для биографической серии книгу об одной известной когда-то певице, исполнительнице романсов.
Когда он услышал ее имя, сразу вспомнил подвал в Староконюшенном, допотопный электрический проигрыватель с переломанной рукой, которую его отец, бывший подводник, перебинтовал синей изолентой. Будущий молодой учитель слушал на нем без конца свои пластинки про Чипполино и Дядю Степу, а его отец – свои старые, черные, тяжелые, и тогда нужно было переключать с 33 оборотов на 78. Проказник и неслух, разумеется, обожал слушать все наоборот, и тогда синьор Помидор чирикал что-то по-лилипутски, а на пластинках отца женские голоса становились похожими на голос дяди Вити, соседа по двору, у которого на войне разворотило челюсть, и он ходил – так говорили – с серебряной трубкой, вставленной в горло.
У бывшего подводника была одна пластинка этой самой певицы. Когда приходил пьяным, он всегда ставил именно ее. Мама шла к соседям или на кухню, а отец захлопывал за ней дверь, брал будущего молодого учителя в охапку, садился на диван, на котором они все втроем спали – женщина укладывала сына, хотя у того была своя кроватка, между собой и мужчиной, наверно, вот так, ребенком загораживалась, – и говорил про какую-то Зосю, которая подарила ему эту пластинку, когда их подводная лодка стояла после войны на базе в Либаве. Про Зосю было неинтересно, и будущий молодой учитель просил рассказать про арбузы. И тогда отец вспоминал, как с мальчишками воровал арбузы и дыни с железной дороги. Будущий учитель представлял себе все, как в кино: вот состав замедляет ход, отец-герой, разогнавшись, запрыгивает на подножку арбузного вагона, подбирается, распластавшись на трясучей стене, к заветным окошкам под самой крышей и выбрасывает на ходу из полного вагона арбузы или дыни. Иногда арбузы лопаются, взрываются, как бомбы. Потом он ловко прыгает ровно посередине между двумя столбами и кувыркается под откос. Будущий молодой учитель очень гордился своим отцом и теми арбузами.
И даже сейчас, когда я все это пишу, вдруг ужасно захотелось арбуза, будто это вовсе не отец, а я сам подкрадываюсь, распластавшись по стене грохочущего вагона, к открытому окошку, там темно, и я уже знаю, что в вагоне не арбузы, потому что на меня пахнуло из жаркой, душной темноты дынной коркой.
И вот о той певице с пластинки, певшей голосом дяди Вити с серебряной трубкой в горле, молодому учителю предложили написать. Оказалось, что она до сих пор жива, хотя все думали, что давно умерла. Издательству передали ее воспоминания и дневники. С ней нужно было встретиться и записать рассказы на пленку.
Бедный молодой учитель, разумеется, сразу согласился, тем более что ему пообещали аванс – баснословные 300 долларов. В школе он бы столько не заработал и за год. Зачем-то помню, что за окном, во дворе, когда говорил по телефону, две девочки играли в Новый год, воткнув полуосыпавшуюся елку с обрывками серебряной мишуры в кучу грязи рядом с помойкой, и дарили друг другу подарки, протягивая в пустых руках что-то, никому, кроме них, не видимое.
В назначенный день, когда нужно было прийти за договором, ударил мороз – все было выстужено, остекленело, и улица, и трамвай. Люди поросли сединой у висков. Усы и бороды у всех засеребрились, и каждый нес перед собой дыхание, как воздушную сахарную вату на палочке. Издалека было видно, как у входа в метро стояло огромное облако пара, плотное. Над дверями, на названии станции, на фронтоне и на колоннах нарос мохнатый лед на полметра.
В подвале, где было издательство, дуло изо всех окон, покрытых толстым слоем инея, в комнатах сидели в шубах. Редактор, которая вела эту книгу, стояла на стуле и заклеивала щели между рамами широким скотчем. Сзади на юбке пристала белая нитка, и молодой учитель поймал себя на том, что вдруг захотелось осторожно снять эту нитку и намотать на палец: Алексей, Борис, Виктор… Дама куталась в шаль, кашляла и сморкалась в прижатый к носу платок и велела не смотреть на нее.
– Я сейчас страшная. Смотрите вот лучше на Синай!
На стенном календаре были какие-то выжженые солнцем горы. У редакционной дамы действительно гноились глаза, и молодой учитель, смутившись, послушно смотрел на Синай. Там был знойный день, воздух раскалился, дрожал, струился.
Пока будущий автор биографии заполнял договор, дама, шмыгая без конца носом, жаловалась, как сложно работать со стариками, и рассказывала о каком-то кинорежиссере, о котором тоже писали книгу из этой серии и который все время забывал, что его сын давно умер, и то и дело спрашивал: “А где Вася?”. Ему каждый раз отвечали, что ушел в магазин. Старик, удовлетворенный таким ответом, продолжал рассказывать про свою молодость дальше, со всеми подробностями.
Сами дневники домой не дали, молодой учитель мог взять только ксерокопии, но просмотрел эти тетрадки в тот же день, устроившись на ледяном кожаном диване в застуженном коридоре редакции рядом с каким-то чахлым растением в кадке, которое не замерзло, наверно, только потому, что его окуривали, и кадку использовали как пепельницу. Пальцы окоченели, и пришлось надеть перчатки, листать в них было неудобно, страницы скользили и не хотели переворачиваться, пару раз драгоценные тетради даже выпрыгивали из рук на замызганный пол, но никого, к счастью, тогда в коридоре не было.
Дневники в разноцветных допотопных переплетах пахли старыми окурками из кадки, и сквозь эту затхлую вонь пробивался запах слежавшегося в исписанных страницах времени. И еще чуть пахло чем-то женским, вернее, старушечьим, какими-то старыми духами. Чернила выцвели, а иногда она писала карандашом. Одни записи были с датами, другие без. Почерк был скорее неряшливый, все время разный: то страницы шли, как вышитые гладью, то каракуль. Некоторые места были просто замазаны густой черной краской. Иногда шли белые листы – будто хотела заполнить их позже. Потом снова беспорядочные записи. Некоторые страницы были вырваны. Судя по нумерации тетрадей, три из них вовсе исчезли.
Окоченев, молодой учитель вернулся в кабинет редактора и снова стал смотреть на залитый солнцем, изнывающий от жары Синай. Ему подумалось: как правильно, что именно там разверзлось синее от марева небо и народу-богоносцу были даны скрижали, а не в парном облаке у входа московского метро, заросшего льдом. А редакторша, сморкаясь, давала указания, что надо поскорее идти встречаться с героиней, потому что ей уже далеко за девяносто, и она тоже уже все путает, отключается, но у нее еще бывают просветы, и вот в такой просвет нужно попасть и ее разговорить. Воспоминания она начала писать уже давно, но все никак не могла выйти из детства, а потом и вовсе забросила.
– Это будет вам подспорьем, – сказала дама, – но особенно не надейтесь, я пыталась это читать – все не то. Главное, постарайтесь ее разговорить. Вы хоть кивайте головой.
Молодой учитель послушно закивал головой, небрежно засовывая стодолларовые купюры, которых никогда до этого и в руках не держал, в карман.
– Как бы вам объяснить, чего бы мне хотелось, – продолжала она. – Суть книги – это как бы восстание из гроба,– вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы ей говорите: иди вон! Понимаете?
Он закивал:
– Да-да, конечно, чего же здесь не понять.
Потом в метро, когда ехал домой, все нащупывал, на месте ли три заветные бумажки. Казалось, что все видят, что он везет, и было страшно, что деньги вытащат в потной подземной толчее.
Пачку ксерокопий ее дневников и воспоминаний автор будущей биографии просмотрел в ту же ночь. Старуха действительно писала очень подробно о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без конца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было бесполезно.
На следующий день молодой учитель на перемене позвонил по полученному в редакции телефону. Ему сказали, что Белла Дмитриевна сейчас плохо себя чувствует и встретиться для интервью не может. Попросили перезвонить на следующей неделе. На следующей неделе повторилось то же самое. Наконец, договорились о встрече, и он отправился в Трехпрудный переулок.
Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми “Жигулями” и заляпаными грязью иномарками, вылез из-под снега весь собравшийся за зиму мусор. Код в подъезде был сломан, лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице, заваленной обломками кирпичей от затянувшегося ремонта, газетами и селедочными головами. Стоял московский подъездный дух – пахло мочой, кошками и сырой побелкой. Звонок не работал. Молодой учитель постучал. Долго вглядывались в глазок, потом дверь чуть приоткрылась. Ему сказали, что ночью старуху увезли в больницу. В темноте коридора он мог разглядеть только руки, обсыпанные мукой. В тот момент, когда молодой учитель разговаривал с белеющими мучными руками, с которых сыпалась пыльца, он понял, что из этой книги о певице ничего не выйдет.
Потом он звонил еще несколько раз. Его героиня вернулась из больницы, но встречаться уже не имело смысла – просветов больше не было. Он просил хотя бы об одной встрече – попробовать, вдруг что-то получится.
– Да она никого не узнает, – ответили ему. – Поимейте совесть, молодой человек! Оставьте старого, больного человека в покое, нельзя же так!
Время шло. Молодой учитель узнал, что приостановилась, не начавшись, та биографическая серия, для которой он должен был написать книгу. Затем лопнул один большой банк, и вместе с ним исчезло и издательство. Потом было много всего, и пачка ненужных ксерокопий, завернутая в пакет из булочной, валялась несколько лет где-то среди других бумаг и книг.
Когда Белла Дмитриевна умерла, он уже толмачествовал далеко. Узнал о ее смерти случайно, когда прилетел в Москву. Уже прошли торжественные похороны, статьи в газетах, передачи по телевидению. И так получилось, что толмач шел по своим делам и оказался как раз на Трехпрудном. Двор и дом было трудно узнать, все вылизано, у свежепомытых лимузинов, сверкающих на июньском солнце, скучали коротко стриженные крепыши в дорогих костюмах. Две молодые мамаши, оставив коляски, обламывали ветки распускающейся сирени. Толмач постоял рядом с пахучим треском. Потом зачем-то решил зайти. Код был сломан. В подъезде пахло краской после только что оконченного ремонта, и к этому новому запаху уже примешивался старый – кошек, мочи и сырой побелки.
Позвонил в дверь. Открыла та же женщина, с которой разговаривал молодой учитель несколько лет назад. Только теперь в ее мучнистых руках был мобильник. Похоже, квартиру уже кто-то купил, и в коридоре толпились вещи, собранные для переезда. Незваный гость стал объяснять, что когда-то говорил с ней по телефону, поскольку собирался писать о Белле Дмитриевне, и даже был здесь. Его прервали:
– Что вы хотите?
Он и сам толком не знал, чего хотел и зачем пришел. Не объяснять же ей про старый, перевязанный изолентой проигрыватель в Староконюшенном, про синьора Помидора, про голос дяди Вити, про запах дынной корки. Зачем-то спросил:
– А вы были при ее смерти? Как она умерла?
Женщина усмехнулась:
– Вам для печати или как на самом деле?
Пожал плечами:
– Как на самом деле.
– Тогда вот: не могла, покойница, последнее время никак посрать – что вы хотите, в сто лет! И тут я ночью слышу, как гром. Прибегаю, лампа на тумбочке стояла – валяется на полу разбитая, а Белла Дмитриевна с кровати упала – вся, прости Господи, обосралась. И уже Богу душу отдала. Царство ей небесное.
По кухне бегает поросенок со смешным хвостиком. Я с ним играю, мы подружились. Он так заразительно хрюкает. Мы хрюкаем на пару, визжим от поросячьего восторга. Потом его же с таким же смешным и живым хвостиком вижу в столовой на блюде. Я рыдаю и хочу убежать из-за стола. Помню, особенно было страшно, что мне на тарелку хотели положить, чтобы я успокоилась, отрезанный хвостик. Наверно, это было первое в жизни ощущение смерти.
Сколько мне было? Три? Четыре? Не мне, конечно, старой, бестолковой, поглупевшей, а той далекой девочке.
Пятый, поздний, уже нежданный ребенок.
Помню, как брат Саша, самый старший из всех детей, болел скарлатиной. Его изолировали от нас, и я говорю с ним через закрытую дверь. Брат уверяет, что у него сходит кожа, я ни за что не хочу в это поверить, и он просовывает ее кусочки в замочную скважину.
Сестра Аня, моя любимая Нюся, изучает арифметику, делает примеры, уткнувшись в учебник, я пристаю к ней, она сажает меня на колени, и я замираю, видя, как перо выводит удивительные непонятные значки. Нюся рассказывает мне про сложение и вычитание. На Пасху мы идем на кладбище, и вдруг я обнаруживаю, что над умершими людьми стоят плюсы.
Мама приводит младших, Машу, Катю и меня, во французскую кондитерскую на Большом проспекте. Мне нравится название тающих во рту пирожков – птифуры. Зельтерскую воду мы называем кипяточком – за то, что пузырится и щипет язык.
Когда мы ссоримся и деремся, мама заставляет нас мириться до того, как ложимся спать – чтобы зло не оставалось на завтра.
Мамины духи – “Muguet de mai”.
За столом нельзя вертеться и ерзать, руки ни в коем случае не на коленях, а на столе и не просто, а так, чтобы оба указательных пальца касались края тарелки. Почему-то считается, что так держит руки государь император.
Мама говорит, что каждый человек должен сажать деревья и копать колодцы – каждому ребенку в нашем палисадничке отводят полоску грядки, и мы сажаем там что-то и поливаем. Я прибегаю каждый день смотреть, как пробиваются к свету мои горошинки, как поднимаются мои зеленые росточки. Потом как-то ночью к нам залезают мальчишки из Темерника и все вытаптывают. Мама убеждает нас, что нужно сажать снова, но я не хочу.
Утром мама в халате с широкими рукавами – приятно залезть в рукав головой. После завтрака взрослые пьют кофе, и она дает детям в ложке кусочек сахара, обмокнув его в черный кофе из своей чашки. А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня подлизой. Я воспринимала это буквально, потому и говорю: лизычок, а не язычок.
Я люблю, когда она пишет письма – мне разрешается приставлять в конце строчек восклицательные знаки.
Мама играет нам из Чайковского – “Детский альбом”. Особенно трогают меня “Похороны куклы”. Помню, что я беру мою Лизу, которая умела закрывать и открывать глаза, и укладываю ее в коробку. Я плачу, оттого что она умерла. Потом мне становится скучно без нее. Хочу открыть коробку, но сама себя останавливаю: нет, нельзя, ведь Лиза умерла, ее больше нет. И тут все во мне восстает против этой невозможности: почему нельзя? Вот же она, моя любимая Лиза, вот ее роскошные белокурые пряди, вот ее розовые щечки, вот ее шелковое платьице, вот она открывает глаза и выходит из коробки как ни в чем не бывало! Не бойся, Лиза! Никакой смерти нет!
Придет день, и я дам одной девочке поиграть моей Лизой, а когда мы поссоримся, она в порыве злобы выдавит кукле глаза. В пустой фарфоровой голове с черными провалами глазниц будут звонко перекатываться стеклянные шарики.
Кухня – вотчина няни, которая в то же время исполняет обязанности кухарки. Там же няня принимает своих ухажеров. По вечерам появляются полицейские, матросы с гармошками. Я еще не знаю слова “эксплуатация”, но это именно то, что делает няня с ними – то они выбивают ковры во дворе, то натирают полы. Для полов она все же предпочитает ухажеров – профессиональных полотеров. Те появляются раз в месяц, она флиртует с ними на кухне и усердно угощает. Для мамы это день кошмара, она уходит из дому, а мне, наоборот, невероятно нравится и то, что в доме все переворачивается вверх ногами, и запах мастики.
Утром в день рождения няня уже ждет у дверей, когда проснешься, чтобы сразу что-то подарить – только откроешь глаза.
На Сороки, 9 марта, она печет жаворонков с распростертыми крыльями, как бы летящих, с глазами-изюминами. Мы съедаем не все, головы оставляем для родителей – только выковыриваем глаза и сосем сладкий изюм. Кричим: “Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела”. Каждый день у нас на столе свежий душистый хлеб из булочной, но в ту минуту мне кажется, что действительно у нас после долгой зимы не осталось ни крошки, и только жаворонки смогут принести нам спасение. Прежде чем посадить их в печь, няня всегда закладывает в нескольких монетку или колечко. Заветный жаворонок всегда достается мне – очевидно, няня, запомнив, в какой именно она засунула копеечку, подсовывает его мне. Я убеждена, что этот праздник связан каким-то образом с сорокой-белобокой, и очень удивляюсь, узнав что таким образом мы отмечаем день сорока мучеников Севастийских. Помню, как в церкви няня тычет пальцем в какую-то темную икону, на которой я ничего не могу разобрать, только головы святых с нимбами сливаются в гроздь винограда, и рассказывает шепотом на ухо, как несчастных вывели раздетых на лед и заморозили.
Мне нравится запах смолки в лампадке и ладана в церкви, особенно зимой, когда снаружи метель и морозно. Няня объясняет, что смолки зажигают, чтобы Богу было приятно нюхать. Я уверена, что в церкви живет Бог, и няня поддерживает меня – ведь зимой на улице холодно, у каждого есть свой дом, и вот церковь – это дом, где Он греется.
С Рождества до Крещения на всех дверях и предметах она ставит мелом белый крест от нечисти. Потом крещеной водой с реки все освящают, и уже можно не бояться всякой чертовщины – ведь после Рождества Бог на радостях, что у него родился Сын, отмыкает все двери и выпускает чертей погулять.
В мире няни черти или ангелы так же реальны, как чулки или калоши. И я вместе с ней не сомневаюсь, что каждому человеку при рождении приставляются черт и ангел, оба не оставляют тебя ни на минуту, ангел стоит по правую сторону, а бес слева – поэтому нельзя плевать по правую сторону и ложиться спать надо на правый бок, чтобы держать лицо обращенным к своему ангелу и не увидать во сне что-то плохое. Ангел записывает все твои добрые дела, а дьявол злые, и когда человек умрет, ангел будет спорить с дьяволом о его грешной душе. Зазвенит в левом ухе – это искуситель летал к сатане сдавать грехи человека, сделанные за день, и вот теперь прилетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазнам. Во время грозы бес, преследуемый стрелами молнии, прячется за человека. Поражая беса, Илья Пророк может убить и невинного. Поэтому во время грозы надо креститься.








