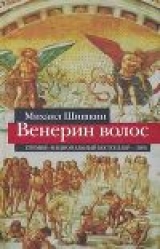
Текст книги "Венерин волос"
Автор книги: Михаил Шишкин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Это он придумал?
Она перестала урчать, открыла глаза.
– Ты о чем?
Тут на станцию ворвался поезд, весь измалеванный граффити. Она тогда не поняла, или не хотела понять, а толмач не стал больше ничего спрашивать.
Они плутали по ватиканским музеям и оказались в длинной пустынной галерее: ряды белых изваяний вдоль стен. Безжизненные тела. Руки, ноги, головы, груди, животы – все это было найдено в земле, а теперь выставлено для опознания. Вазы, саркофаги, барельефы. И снова тела – безглазые, безрукие, безногие, оскопленные. Там, где половые органы, – листочки. Если нельзя прикрыть – отбито молотком. У одного мускулистого слепца Изольда, оглянувшись – не смотрят ли? – потрогала рукой там, где ничего больше не было:
– Какие идиоты! Почему они так ненавидели жизнь?
Когда-то все эти статуи были богами или людьми, а теперь превратились в соляные столпы, и их свезли сюда. Мраморные трупы. Выставили в ряд, будто почетный караул на приеме в царстве мертвых. Изольда придумала их оживлять: давать каждому какую-то историю. “Вот этот, смотри, был суеверным и надевал сначала сандалии на левую ногу, а потом на правую. Врач назначил ему от грудной болезни лечение ослиным молоком – и он пил по большому стакану в шесть утра. А еще у него были ягодицы, поросшие шерстью”. И так они с толмачом придумывали что-нибудь про каждого. Вот этот, римская копия с утерянного греческого оригинала, любил петь, и когда пел, у него раздувались ноздри. Однажды он ехал довольный домой и пел, а встречный ему сказал, что вот едешь и не знаешь, что и дом сгорел, и жена, и все пропало. А в детстве мама его учила пользоваться лопухами и листками, когда идешь в уборную – сорвать по дороге. Вот эта, тоже римская копия с утерянного греческого оригинала, полюбила женатого и боялась быть с ним счастливой, не могла наслаждаться своим счастьем, потому что знала – за счастье придется платить, а когда у него заболел ребенок, то она сразу поняла, почему. А вот этот воин, снова римская копия, вернулся невредимым с войны домой – и жена обрадовалась, что он жив, а дети – гостинцам. И зубы у него были такие, что мог перекусить гвоздик. А однажды он отбил ноготь на пальце – ноготь рос и черное пятно лезло вверх. И он вдруг загадал, что, когда пятно долезет до края ногтя, случится что-то хорошее. А пятно не доползло, не успело.
Так они ходили и оживляли мертвых. А теперь у толмача не выходило из головы, что все это Изольда уже делала с Тристаном, что эту игру придумал тогда он, и они вот так же, обнявшись, ходили по этой бесконечной галерее, уставленной мертвыми изваяниями, и раздавали мраморным обломкам кусочки жизни.
Еще там был один саркофаг – муж и жена, они лежали валетом, опершись на локоть. У нее прическа с мелкими кудряшками, у него коротко подстриженная борода. Смотрят друг на друга с улыбкой. Вот только что сделали друг другу массаж уставших за жизнь ног – сейчас заснут и проснутся вместе.
Почти все скульптуры были копиями с каких-то исчезнувших оригиналов. Даже тот самый Аполлон Бельведерский. Хотя для толмача он был копией с того Аполлона, который стоял на снегу в Останкино и которого он когда-то обстреливал снежками.
Толмач рассказывал Изольде о Гальпетре, об останкинском Аполлоне, и она смеялась.
Гальпетра каждый месяц водила свой класс в музеи, чаще всего в Пушкинский на Волхонке. Когда проходили мимо Давида, девчонки, глядя на его подбрюшье, шушукались и хихикали, и было почему-то неприятно из-за железного стержня, воткнутого герою в спину, чтобы не упал, в этом был какой-то обман, и к тому же экскурсовод все время повторяла, что все кругом в этом музее – копии.
У копии Лаокоона она сказала:
– Посмотрите, как прекрасно античный скульптор изобразил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына!
Про оригинал сказала, что он находится в Италии, в музее Ватикана, и толмачу запомнилось, как Гальпетра вздохнула:
– Вот бы когда-нибудь взглянуть одним глазочком…
На вопрос, есть ли вопросы, будущий толмач в школьном костюме, сверкающем на коленках и локтях, спросил:
– А почему здесь показывают копии? В музее должно быть все настоящее.
В ответ экскурсовод объяснила, что все настоящее – в Италии, а эти скульптуры – точные копии, то есть практически то же самое, что оригиналы, и повела группу дальше.
И вот теперь толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией – и скульптуры в ватиканских музеях, и статуи ангелов Бернини на Ponte San Angelo1, и Марк Аврелий на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед Santa Trinitа dei Monti1, а настоящее снова нужно было где-то ходить и искать.
1 Мост святого ангела (итал.).
Даже Тибр казался плохой копией какого-то другого, исчезнувшего, настоящего. Толмач с Изольдой смотрели с моста на коричневую мертвую воду, на низкие набережные, покрытые слоем пересохшего потрескавшегося ила, и как-то не укладывалось в голове, что этот суетливый поток, несущий грязную пену, – тот самый Тибр, в котором солнечным октябрьским днем крест помог Константину утопить язычника Максентия, вследствие чего мир стал христианским. В этой жиже?
И даже сам толмач оказывался копией какого-то утерянного оригинала.
В путеводителе они прочитали в главе о Латеране про святую лестницу из дворца Понтия Пилата и про головы Петра и Павла, хранящиеся в папской базилике. Отправились в Латеран. Спустились в метро, где нечем было дышать, и Изольда сказала, что устала и лучше бы просто снова погулять где-нибудь по парку – накануне они были в Villa Borghese, в одной аллее нашли пустую скамейку, где-то за стадионом, толмач лег на доски и положил голову ей на бедра, уткнулся щекой в мягкий живот. Изольда ворошила ему волосы. Был ветер, и тени от веток бегали по ее лицу, голым плечам, по траве, песчаной дорожке, по мрамору статуй. Толмач лежал и читал вслух из путеводителя про какую-то триумфальную арку: один император украл для нее статуи и барельефы с арки другого императора.
Изольда сказала:
– Смотри, вот триумфальная арка!
Там стояли пинии, прижавшись плечом к плечу, и у них под мышками было небо.
Это было накануне, а теперь, в метро, Изольда спросила:
– Ты обязательно хочешь посмотреть на лестницу и эти головы?
– Да.
– Думаешь, они настоящие?
– Вот я и хочу в этом убедиться.
Они вошли в разрисованный граффити вагон, душный, битком набитый.
По дороге Изольда рассказывала, что у них в школе были уроки религии и как они все это ненавидели. А толмач рассказывал Изольде, что у них в школе были занятия по антирелигиозной пропаганде. И вела их на классном часу все та же Гальпетра. Толмач знал с детства, что Бога нет, и поэтому ему, тому школьнику, который мучался от прыщей, ранней волосатости, нелюбви и страха смерти, очень важно было Его найти. Или что-то похожее. И вот класс умирал со скуки, а Гальпетра барабанила про то, что Бога придумали церковники, чтобы было легче дурить темных наивных людей, что страшный суд изобрели для того, чтобы самим грешить, а другим не давать, и все то, что полагалось говорить на таких уроках. “В Бога могут верить только старушки, – говорила Гальпетра. – Христианство – это религия рабов и самоубийц. Никакой загробной жизни нет и быть не может – все живое умирает, и никакое воскрешение невозможно. Простая логика: если Бог есть, то нет смерти, если есть смерть, то нет Бога”. Изольда смеялась и говорила, что их на занятиях религии, наоборот, убеждали в том, что Бог есть, и они тоже умирали от скуки.
И вот толмач с Изольдой стояли перед зданием, на котором было написано: “Sancta sanctorum”2. Вошли. Там внизу, слева от входа, под стеклом выставлена модель дворца Понтия Пилата, и можно увидеть, где именно находилась эта лестница. Ее перевезли из Иерусалима в Рим, ступеньки застелили досками, а места, куда упали капли крови Христа, закрыли стеклом. И вот толмач и Изольда стояли и смотрели, как люди становятся на колени и карабкаются вверх. Каждый полз по-своему. Кто-то шмыг-шмыг, обгоняя других. Кто-то подолгу останавливался на каждой ступеньке, касался отполированных, полустертых досок лбом, и целовал каждую. Одна женщина все время оглядывалась назад и поправляла юбку. Запомнилась совсем молодая девушка-инвалид, ее внесли на коляске и помогли встать на колени на нижнюю ступеньку. Потом она раскорякой поползла наверх. Было видно, с каким трудом ей давалось каждое движение. Потом пришла группа школьников, и они весело и шумно поползли, толкаясь и пачкая друг друга кроссовками и сандалиями – очевидно, это доставляло им особое удовольствие. И вот тут, когда они с Изольдой стояли перед этой лестницей и смотрели, как школьники обгоняют девушку-инвалида, в этот момент толмача кто-то тронул за плечо. Он сначала не обратил внимания – везде толпы туристов, и все пихаются. Тогда его снова кто-то коснулся. Он обернулся и увидел Гальпетру. Она была все в той же мохеровой шапочке и в том же фиолетовом шерстяном костюме. Даже сапоги были полурасстегнуты, а на сапогах музейные тапки. Те же усики, тот же живот. Она кивнула на лестницу:
1 Святая Троица на горе (итал.).
2 Святая Святых (лат.)
– Ну что же ты, ползи!
И еще, покачав укоризненно головой, добавила:
– А ты мне тогда не верил…
Почему-то толмачу показалось важным рассказать это Изольде, но она не поняла. Переспросила:
– Ты встретил знакомую?
Гальпетра исчезла.
Они пошли смотреть головы.
Пока пересекали площадь, откуда-то гремела музыка, итальянская песенка, в которой все время повторялось “amore, amore, amore”1, и толмачу было как-то странно, что сейчас они увидят голову – или хотя бы кусочек кости, какая разница – того самого человека, который в четвертую стражу ночи пошел за Ним по морю – вышел из лодки, переступил через борт и поставил ногу на волну.
1 “Любовь, любовь, любовь” (итал.).
В соборе было, как везде, тесно от туристов, динамики бормотали по-латыни. Они бродили в толпе, и толмач все никак не мог понять, где же голова? Течением их прибило обратно к киоску у входа. Изольда спросила по-итальянски продавщицу. Та ткнула в одну из открыток. На карточке был алтарь, весь в золоте и мраморе, как башенка – похожий на иллюстрацию к сказке о Золотом петушке. Продавщица постучала длинным, зеленым со звездочками-блестками ногтем по открытке и показала наверх, мол, идите к алтарю и смотрите наверх.
Толмач понял, почему они сразу не увидели то, что искали – они зашли в собор не через главный портал, а через боковой. Теперь они пробились через толпу к алтарю со стороны главного входа. На втором этаже сказочной башенки за витой золотой решеткой были действительно выставлены два бюста. Толмач вглядывался, но видел только что-то напомаженное, розовощекое, черногривое. Динамики перешли на итальянский и заметно повеселели, оживились, каждое второе слово было – “amore”. Над кабинками для исповеди то гасли, то снова загорались красные лампочки. Мимо протискивалась через толпу экскурсия японцев – за лыжной палкой с привязанным на конце зеленым платком.
Изольда сказала:
– Ты удовлетворен? Пойдем!
Перед тем, как уйти, они остановились у капеллы слева от входа – там как раз было венчание. Смотрели через решетку: жених и невеста сидели на стульях, а перед ними стоял священник в белом и что-то говорил. Было забавно, как он размахивает руками. Ему, очевидно, не хватало слов, и он совершенно по-итальянски – отчаянно жестикулируя – пытался убедить молодых любить друг друга до самой смерти и после.
Толмач с Изольдой вышли и достали план, с которым ходили по Риму. Карта была старая, протерлась на сгибах до дыр, к тому же неоднократно попадала вместе с ними под дождь и в конце концов превратилась в лохмотья. Но покупать новую Изольда не хотела, сказала, что привыкла к ней. Толмач подумал, что, наверно, с этой картой она ходила по Риму тогда, с Тристаном.
Совсем рядом была церковь святого Клемента, в которой похоронен Кирилл, именем которого названы буквы, без которых ничего в жизни толмача бы не было. – Давай зайдем! – предложил толмач, а Изольда сказала, что у нее болят ноги и она никуда больше не пойдет.
Они присели за столик в уличном кафе.
– Ты была там в прошлый раз?
– Нет.
Толмач стал ее убеждать, что это совсем недалеко, десять минут в направлении к Колизею, там они смогут сесть на метро и доехать до отеля, а Изольда сказала, что новые босоножки трут. И добавила:
– И вообще я не понимаю, почему обязательно нужно увидеть все эти сросшиеся цепи, где-то подобранные щепки и неизвестно чьи кости!
Толмач знал, почему он хотел во что бы то ни стало пойти туда.
Он должен был увести ее у Тристана – из их Рима в другой.
Толмач стал ей рассказывать про Кирилла. Вернее, он хотел рассказать ей о чем-то, чего наверняка не знал Тристан. Толмачу вдруг показалось, что он рассказывает не ей, а ему. Вот ты, Тристан, этого не знаешь, а я знаю. Слушай! Древний Херсонес – это теперь Севастополь, и вот тут, Тристан, начинается мир без тебя. Там, где утопили святого мученика Клемента, третьего Римского Папу и ученика Петра, в Гражданскую войну топили офицеров. Им привязывали – кому на шею, кому на ноги – старые якоря, куски железа, камни и бросали в воду. В одних воспоминаниях толмач читал, что водолазы, которые опускались в том месте на дно, оказывались как в лесу: мертвые тела хотели всплыть и, привязанные, стояли в глубине, кто вверх ногами, кто вверх головой, их клонило всех в одну сторону подводным течением, как деревья ветром, и у одного обрывки рубахи поднялись, как крылья. И вот по тому берегу проходил Кирилл, который получил из облаков кириллицу, толмачевы буквы. Получатель небесных букв рассказал о мученичестве Клемента жителям Херсонеса, которые ничего об этом уже не знали и не поверили ему. Кирилл тогда поплыл на то место и начал поиски, чтобы убедить их. Уровень моря за прошедшие после Клемента века опустился. Море ушло, и образовалась песчаная отмель. И вот Кирилл искал в том песке и ничего не мог найти. Жители смеялись над ним. А Кирилл продолжал перекапывать песок дальше, потому что искал он, разумеется, не кости – кому нужны кости? Не ребра и не череп он хотел найти, а доказательство. Просто должно было сверкнуть на солнце отбеленное морем и песком ребро. Ведь что-то должно было доказать, что есть Бог и, значит, нет смерти. Доказать это могло только чудо. И вот в песке что-то сверкнуло, засияло на солнце – ребро. Слепящая белизной кость. Стали копать дальше и нашли голову и все остальное. И еще всех поразило благоухание. А запахи – это ведь язык Бога. И вот эти вкусно пахнувшие кости Кирилл привез в Рим. И его самого похоронили в этой церкви вместе с Клементом. Наверно, потому, что его кости тоже хорошо пахли.
– Опять кости! – вздохнула Изольда. – Ладно, пошли!
Они посидели еще немного в кафе, выпили эспрессо из крошечных чашечек, будто из яичной скорлупы, и отправились в San-Clemente. Изольда сказала только, что обязательно должна зайти по дороге в аптеку купить пластырь. Но аптеки по дороге не оказалось.
Изольда уже хромала, когда они дошли. Она злилась и молчала. Села в церкви на скамейку и сказала, что ни в какое подземелье не полезет.
Толмач спустился вниз один.
Он бродил под тускло освещенными сводами и, в свою очередь, злился на Изольду, а еще больше на себя, что притащил зачем-то сюда ее с натертой ногой, могли бы прийти и завтра или послезавтра.
Кругом валялись какие-то обломки. Было сыро. Толмача обгоняли группы туристов, которых вели в нижний этаж, где в таких же сырых, тусклых подвалах поклонялись Митре. Толмач забрался и туда, но там было то же самое: обломки, сырость.
В полумраке переходов он наконец нашел гробницу Кирилла. Притаилась где-то сбоку. На каменной плите лежали бумажные, покрывшиеся толстым слоем пыли цветы. А стены кругом были в мемориальных досках, на которых увековечили себя забытые правители, издававшие указы на кириллице.
Тут толмач увидел Изольду. Она все-таки спустилась. У нее в руках был путеводитель.
– Вот ты где! – сказала Изольда. – А я сидела и читала. Слушай, оказывается, никаких мощей Кирилла здесь нет. Их выбросили в 1798 году – тут было восстание, и все кости вышвырнули на улицу. И папы-мученика Клемента тоже не было, вернее, было два Клемента – какой-то консул, тот действительно был мучеником, но он не был папой, а другой был папой, но не был мучеником. А потом, в легенде, они соединились в одного человека. И еще здесь написано, что, по новейшим исследованиям, Петра вообще не было в Риме!
Мимо, не останавливаясь, прошла группа японцев. Их вели в митреум. В полумраке они высоко поднимали ноги, чтобы не споткнуться на неровном земляном полу. По одному туристы исчезали в узком проходе, ведущем в следующее подземелье.Толмач с Изольдой поднялись наверх, вышли на улицу, где даже пропитанный запахом бензина ветер показался после подземелья свежим воздухом, и пошли к Колизею, медленно, с частыми остановками. Она хромала и держалась за его руку.
Снова начались киоски. Они остановились у лотка, на котором лежали путеводители по Риму на всех языках. Толмач взял полистать русское издание. Показал Изольде, мол, смотри, какую печатают ерунду, просто фотографии с подписями, нет чтобы издать что-нибудь человеческое. Тут к нему подскочил итальянец-продавец, залепетал, наверно, расхваливал, убеждал купить, стал чуть ли не впихивать толмачу книгу в руки, тыкать пальцем в иллюстрации, мол, смотри, какие красивые картинки! Толмач сунул ему книжку обратно, но получилось как-то неловко, книга выскочила из рук, упала. Изольда бросилась поднимать, заулыбалась продавцу. Шепнула толмачу, что тот должен улыбнуться и извиниться.
– Он мне хочет всучить какую-то дрянь, а я должен ему вежливо улыбаться?
– Да, – сказала Изольда, – все равно нужно вежливо улыбаться.
– Почему я должен ему вежливо улыбаться?
– Потому что.
– Я не должен никому вежливо улыбаться.
– Должен.
Когда они отошли от лотка, Изольда бросила:
– Ты – грубый.
У него вдруг вырвалось:
– Не то что Тристан.
Изольда остановилась. Посмотрела толмачу в глаза. В ее взгляде было и удивление, и обида, и боль. Она резко отвернулась и пошла быстрым шагом, припадая на одну ногу. Им нужно было к метро, а Изольда пошла совсем в другую сторону, обратно, к Латерану.
Толмач хотел броситься за ней, схватить за руку, остановить, но вместо этого повернулся и направился к Колизею. Шел и убеждал себя: ничего, все равно ни ей, ни ему никуда друг от друга не деться, и вечером они увидятся в гостинице.
Тротуар был усеян обертками, бумажками, раздавленными пластмассовыми бутылками. В руках у толмача были лохмотья карты. Он вышвырнул их.
29 сентября 1914 г. Понедельник.
Сегодня мне приснился кошмарный сон! Стыдно писать. Я летала по коридору нашей гимназии – почему-то голая.
С утра ходили с Талой к Игнатьевым. Опять кроили бинты из марли и катали, но уже не вручную, как раньше. Нам принесли машинки для резки бинтов, и катать тоже можно специальной машинкой, так что остается только складывать пакеты вручную. Очень удобно и можно успеть намного больше!
Погода холодная, то солнце, то дождь.
Прочитала то, что написала в этот день год назад. Каким же ребенком я еще была!
30 сентября 1914 г. Вторник.
Маша получила письмо от Бориса и читала его нам вслух. Не все, что-то, наверно, самое интересное, пропускала, потому что пришлось выслушивать только подробные описания занятий в училище, распорядок дня, чем кормят и какая погода. Они с отцом решили поменять фамилии. Теперь они не Мюллеры, а Мельниковы. Как только он будет выпущен мичманом, приедет за Машей, и они поженятся. Когда она про это читала, вся зарделась! Такой был замечательный вечер, еще долго все сидели и говорили, а ночью Маша вся в слезах забралась ко мне в постель – ей приснилось, что Борис на корабле и идет ко дну. Я хотела ее утешить и сама расплакалась.
Как же Бог может забрать все, еще ничего не дав? Конечно, не может.
Я очень завидую Маше – она так любит своего Бориса!
1 октября 1914 г. Покров.
“Любовь – это неизвестно что, которое приходит неизвестно откуда и кончается неизвестно когда”. Мадлен де Скюдери.
Завтра, наконец, начнутся занятия. Так соскучилась по Мишке, Тусе, по всем нашим, даже по нашим преподавателям! Помещение гимназии Билинской заняли под лазарет, а мы будем ходить на Большую Садовую в Петровское реальное, напротив Большой Московской гостиницы. Занятия будут в две смены, гимназистки с утра, а реалисты с обеда.
С утра еще было солнце, а сейчас зарядил дождь.
3 октября 1914 г. Пятница.
На парте я нашла выцарапанные ножом мои инициалы. Какая глупость!
Девочки переписываются с реалистами, оставляют записки в партах. А мы с Талой считаем, что это глупо! Все разговоры только о второй смене и о том, кто в кого влюбился. Все скопом сходят с ума по Терехину. Павлин! Набитый дурак! Даже не хочется об этом писать.
Маша записалась в общину Сестер милосердия и поступила на двухмесячные курсы. Хочет обязательно на фронт, в действующую армию, и переживает, что не попадет, что за время ее учебы война уже кончится. Учится бинтовать и пристает с бинтами ко всем домашним. А всем не до того. Так она мучает бедную нашу няню. Вот сейчас на кухне няня покорно сидит на табуретке с перебинтованной головой, ждет, пока Маша сверится с книжкой.
Вчера у Маши был первый день в лазарете. Когда вернулась домой, без конца мылась и полоскалась одеколоном. Хотела отделаться от больничного запаха. За столом ничего не ела. Она пообещала, что будет брать меня с Талой с собой в госпиталь. Нам разрешат для раненых читать и петь.
6 октября 1914 г. Понедельник.
Сегодня получили письмо от Нюси из Петрограда. Она пишет про свою учебу в консерватории и еще, что в столице всюду чувствуется война. В Мариинке перед началом каждого спектакля исполняют гимны союзных держав. Сначала русский, потом “Марсельеза”, потом “God save the King”1. Сколько же это времени нужно стоять?! Вагнера, и вообще немцев, совсем исключили из репертуара. А в крупных магазинах вывесили таблички “Просьба не говорить по-немецки”, даже в немецком отделе Публичной библиотеки появилось объявление: “Bitte, kein Deutsch!”2 В трамвае, в котором Нюся ехала в консерваторию, какой-то молодящийся старичок уступил даме место и сказал по привычке “Bitte, nehmen Sie Platz!”3 – его выбросили из трамвая! Ужас!
8 октября 1914 г. Среда.
Мир сошел с ума! Только на прошлой неделе мы читали в газете, что в Петрограде гимназистка выбросилась из окна, держа в руках образ. Сегодня в проливной дождь под зонтиками мы хоронили Дмитрия Порошина из мужской гимназии Беловольского, сына следователя. Он застрелился из отцовского револьвера! Ляля сказала, что он был влюблен в любовницу своего отца. Какой только ерунды не услышишь от наших девиц!
10 октября 1914 г. Пятница.
“Любовь – изменница. Она царапает вас до крови, как кошка, даже если вы хотели всего лишь с ней поиграться”. Нинон де Лакло. И где только Тала все это находит!
Близнецы Назаровы убежали на фронт. Оставили письмо. И кому! Тусе! Она нашла его у себя в парте, страшно возгордилась и, прежде чем отнести директрисе, вслух всем зачитывала на переменке. Назаровы написали, что или успокоятся под дубовым крестом, или вернутся с Георгиевским.
Тусю просто распирало от гордости!
14 октября 1914 г. Вторник.
На перемене я смотрела с другими девочками в окно, как брат Талы Женя Мартьянов во дворе делает упражнения на параллельных брусьях. А вдруг это именно он выцарапывает везде мои инициалы? Глупость! Но тогда, у окна, по рукам и ногам как будто побежали мурашки.
Женя так ловко соскочил на землю, как цирковой атлет, очень красиво вскинул руки и гордо посмотрел в нашу сторону. Девочки захлопали в ладоши. Я отошла от окна, потому что подумала: а вдруг его взгляд ищет именно меня? Открыла учебник, уткнулась в буквы. А там про Цицерона.
Смотрела полвечера на себя в зеркало. Все дома уверяют, что я красавица, а тут – картофелина вместо носа, толстые щеки, ужасный подбородок, отвратительный лоб! А глаза! А ресницы! Брови! Все какое-то недоделанное, жалкое! Неужели кто-то такую может полюбить? А тут еще их дурацкие уроки! Господи, при чем здесь какой-то Цицерон?! Что за Форум? Какое отношение ко мне имеет Рим? Зачем мне нужен какой-то Нума Помпилий?
19 октября 1914 г. Воскресенье. Иоанна Кронштадтского.
Были у обедни. В церкви я увидела мать Назаровых. Она стояла на коленях на полу. Потом никак не могла подняться, пока ей не помогли. Так жалко ее! От близнецов никаких известий.
22 октября 1914 г. Среда.
В гимназии был молебен в празднование Казанской Богоматери. Молились за освобождение России от немцев, как тогда от поляков. Мне было неприятно, что наши все время шушукались Бог знает о чем! Все девочки перевлюблялись и показывают друг другу под клятвой хранить молчание дневники с записями: “Сегодня я перестала быть влюбленной в N и влюбилась в X ” с указанием не только даты, но часа! Какие они все еще дети!
Я никому ничего не показываю. Этот дневник – только для меня. Ни для кого больше. Может быть, покажу только человеку, которого по-настоящему полюблю. Ведь у Талы, Ляли, у других – все это ненастоящее! Настоящее так не бывает!
Сейчас снова взяла с полки Марию Башкирцеву, открыла посередине, а там кто-то из сестер отметил карандашом: “Я похожа на терпеливого, неутомимого химика, проводящего ночи над своими ретортами, чтобы не упустить ожидаемого, желанного мгновения. Мне кажется, что это может случиться каждый день, и я думаю и жду… С тревогой спрашиваю – не то ли это?”.
Вот и я все время прислушивалась к себе – не то ли это?
Кажется, нет… Нет. Нет!
На полях в книге приписано: “Любовь – величайшее счастье, даже несчастная любовь”. Машин почерк. Это у нее-то несчастная любовь с Борисом? Мне бы хоть кусочек такой! Как же я ей завидую!
29 октября 1914 г. Среда.
В гимназии все начали делать себе маникюр: ножничками обрезают кожицу, отпускают длинные ногти, подпиливают, чтобы имели красивую форму.
У меня такие некрасивые руки!
Вчера в классе испортился свет, пришел электромонтер. Принес длинную лестницу с раздвижными ногами. Залез под потолок, копошится там – и вдруг замечаю, как девочки стали ломаться перед ним, кокетничать. Презираю! И все только потому, что в класс вошел молодой мужчина!
31 октября 1914 г. Пятница.
Евгешка заболела и, наверно, серьезно, потому что немецкий нам теперь вместо нее преподает отец Бориса. Я его видела, когда мы с Машей приходили к ним в гости. Тогда Николай Викторович был очень симпатичный и веселый, все время угощал нас ландрином. Перед классом он совсем другой, хмурый, недоступный. Немецкий все и так ненавидели из-за Евгешки и из-за войны, а теперь еще никто не может простить ему смены фамилии: был Мюллер, а стал Мельников. В этом все видят только трусость и карьеризм. После уроков в гардеробной девочки стали говорить про него гадости, передразнивать, как Николай Викторович учит произношению. У него действительно кривые и нехорошие зубы, но почему из-за этого надо над этим человеком издеваться? Я вдруг почувствовала такую ярость в себе! Какие же это подруги! Просто злобная стая! И я произнесла громко и четко: “Он поменял фамилию не потому, что трус, а потому, что ему стыдно за свою нацию!”. Стало тихо. Все смотрели на меня. Я повернулась и ушла. По дороге мне стало очень-очень плохо. Испугалась, что теперь они станут меня бойкотировать. А уже дома пришел другой страх – страх страха. Неужели я так малодушна, что испугалась остаться в одиночестве? Мне ужасно стыдно. Я такая же, как они. Ничем не лучше. Нет, я хуже. Потому что они смеялись над Николаем Викторовичем искренне, а я за него заступилась и потом сама же испугалась своего заступничества.
А еще перечитала запись за среду. Как же так я могу писать о других и презирать их, если я ничем их не лучше? Подумаешь, они стали кокетничать перед каким-то монтером! Дело же не в монтере! Просто они хотят нравиться всем, вообще всем кругом и влюбить в себя весь мир, вплоть до последнего монтера! И я такая же.
Какой ужас!
4 ноября 1914 г. Вторник.
Сегодня был отличный солнечный день. Зашла за Талой, чтобы идти гулять. Она пошла переодеваться и, как всегда, прокопалась чуть ли не битый час. Пока я ждала ее, из своей комнаты выглянул Женя и позвал к себе. Я вошла в его комнату, и он показал кристаллы медного купороса, которые два месяца выращивал на подоконнике. Прямо настоящие изумруды! Ничего такого я еще не видела! Женя – удивительный! Потом спустилась Тала, и мы пошли.
А сейчас легла спать, но не могу – все время думаю о нем. Вижу его глаза, крепкие мускулистые руки, стройные ноги в гетрах. У него красивые руки, даже несмотря на то, что ошпаренные реактивами. А на скуле у него шрам – он подрался в Новопоселенском саду с хулиганами из Темерника, один из них ранил его кастетом. Какой он сильный, бесстрашный!
Это еще не то? Это не он? Нет, нет, нет.
Сегодня утром по дороге в гимназию опять видела сумасшедшую старуху в чепце на углу Таганрогского. Какой-то кошмар – у нее недержание. Стоит, а под ней лужица. И вдруг спрашивает меня каким-то мертвым голосом: “Ты уроки выучила?”. Ее голос все еще стоит в моих ушах. Как все это ужасно – старость!
11 ноября 1914 г. Вторник.
Целую неделю ничего не записывала, потому что ничего и не происходило.
Что устроила сегодня наша Жужу!
После уроков в кабинете химии проглотила большой кристалл карболки! Кто бы мог такое ожидать от нашей серенькой мышки?! Романтическое самоубийство на деле выглядит совершенно неромантично. Бедная Жужу корчилась в рвоте, вся перемазалась – и платье, и ботинки, и чулки, даже ленты в волосах. Было видно, что она ела вермишель. Отвратительно! Ее увезли в папину больницу делать промывание.
Все гадали, кто же он? Жужу такая скрытная!
“Женщины бывают трех типов: кухарки, гувернантки и принцессы”.
12 ноября 1914 г. Среда.
Даже сегодня в классе, хотя всю ночь проветривали, чувствовался запах Жужу. С ней все порядке. То-то все будут над ней смеяться, когда она снова появится! Бедная. А влюбилась она, оказывается, в Женю Мартьянова! В моего Женю! Не знаю, верить или нет. Это говорит Ляля, но, может быть, только чтобы позлить меня? С нее станет. И это называется лучшая подруга!
В моего Женю? Почему в моего?
На уроке смотрела на выставленные в шкафах чучела, на банки с заспиртованными лягушками, на дурацкие бюсты из папье-маше представителей различных рас: китаец, индеец, негр, – и вдруг подумала: все просто. Я, наверно, урод. Я, наверно, не умею любить. Просто не умею. Все умеют, а я – нет. Меня нужно вот так же набить, как чучело, и выставить. Разве можно такую полюбить? Конечно, нет.








