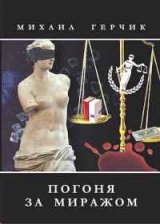
Текст книги "Оружие для убийцы"
Автор книги: Михаил Герчик
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Глава 31
На Пашкевича снова навалилась бессонница. Всю ночь он лежал, ворочаясь с боку на бок, вслушивался в торопливый, взахлеб, стук сердца, иногда тихонько вставал, подолгу стоял у темного окна, за которым ветер раскачивал обледеневшие ветки деревьев. Заснул лишь к утру и проснулся совершенно разбитый. Вернулись недавняя слабость, вялость, головная боль. Овсянка, которую сестра принесла на завтрак, царапала горло, он с трудом проглотил одну ложку, и его вырвало.
Нащупав под подушкой сотовый телефон и дождавшись, пока сестра куда–то вышла и он остался в палате один, Пашкевич позвонил Тарлецкому.
– Вацлав, дружище, ты в курсе моих дел?
– Да, Андрюша, в курсе. Я хотел тебя проведать, но Лариса сказала, что к тебе никого не пускают, боятся инфекции.
– Надо срочно увидеться. Хочу, чтобы ты подготовил завещание.
– Господи помилуй, Андрюша, о чем ты?! Я постоянно справляюсь о твоем здоровье у Рахили Самуиловны, она полна оптимизма. Все не так плохо, не паникуй.
– Я не паникую. Но у меня есть куча обязательств перед разными людьми, и я хочу все предусмотреть. Когда тебя ждать?
– Видишь ли, сейчас я в аэропорту. Через сорок минут вылетаю в Москву. Послезавтра в арбитражном суде слушается дело моего клиента, а мне еще нужно изучить кое–какие материалы. Вернусь дня через четыре–пять, сразу же заеду к тебе.
– Пять дней, – пробормотал Пашкевич. – Это долго.
– Не валяй дурака. Ты вот что… Если уж ты так решил, напиши все, что считаешь необходимым. Или наговори на диктофон. Я приеду, заберу твои записи или пленку, посижу пару часов с нотариусом, мы все оформим и привезем тебе на подпись. Сэкономим массу времени. Андрюша, извини, милый, мой рейс уже зовут на посадку.
– Ладно, – ответил Пашкевич, – я так и сделаю. Будь здоров!
Раздосадованный неудачей, передохнув, Пашкевич связался с Виктором.
– Витя, привези мою электронную записную книжку, она в столе в кабинете, диктофон, пару кассет, бумагу и шариковую ручку.
– Будет сделано, – ответил Виктор.
– Ты передал Аксючицу Женины бумаги?
– Да, конечно. Он ими занимается.
Воспоминание о Жене взбодрило его. Пашкевич несколько раз ей звонил, но никак не мог поймать: домашний телефон не отвечал, а сотового у Жени не было, такая роскошь ей ни к чему. И где шатается? На этот раз ему повезло: не успел набрать номер, как тут же услышал в трубке знакомый щебечущий голосок.
– Папочка, родной, милый, как ты? Подписал мои бумаги?
– Подписал. Через пару дней переведут деньги, заберешь у Аксючица ордер. Как ты себя чувствуешь? Где бегаешь? Я не мог до тебя дозвониться.
– Так ведь зачеты начались. В библиотеке пропадаю. Сам знаешь, когда мне было заниматься? А заваливать сессию не хочется. Вообще–то мы с Андрюшкой–маленьким в порядке, только с деньгами плоховато. Не знаю, как дотяну, пока ты выпишешься.
– Не ной, на днях Виктор передаст тебе денег, я распорядился.
– Спасибо, милый, спасибо, дорогой! Я люблю тебя!
– Ну–ну, – насмешливо хмыкнул Пашкевич, – знаю я твою любовь.
К обеду приехали Виктор и Лариса.
– У меня прекрасная новость, – сказала она. – После обеда приедет Ольга.
– Какая Ольга? – удивился Андрей Иванович.
– Та самая, – улыбнулась Лариса. – Твоя дочь.
Пашкевич дернулся, словно его пронзила судорога.
– Это ты… ты…
– Я. Она славная, Андрюша. Вчера мы познакомились и всласть поболтали. Между прочим, у нее есть сын, Мишка. Твой внук. Серьезный мужчина, ему уже восемь месяцев. Голосистый, как звоночек.
У него в висках молоточками стучала кровь: тук – тук, тук – тук… Кровать раскачивалась, как материнская люлька, как качели, и Пашкевич забросил руки за голову и вцепился в спинку, чтобы не свалиться на пол.
– Зачем ты это сделала?
– Затем, что все войны когда–нибудь заканчиваются миром. Вы нужны друг другу, милый. И мне она нужна. И малыш. Хватит бессмысленной вражды. Ты ведь любишь ее, всю жизнь любишь и тоскуешь, я же не слепая. Просто гордыня не позволяла тебе еще разок попытаться поговорить с нею, а гордыня – не лучшее человеческое качество. И она сожалеет о том, что произошло, я это почувствовала. Мы неправильно жили в последние годы, теперь все у нас будет иначе.
«Интересно, что бы ты запела, если бы узнала, что у меня будет сын? – закрыв глаза, чтобы как–то остановить невыносимое раскачивание, подумал Пашкевич. – Родной, плоть от плоти… Моей, не твоей. «Мы неправильно жили в последние годы…» – наконец–то и ты это поняла. – Он приоткрыл глаза, посмотрел на Ларису, склонившуюся над ним, и теплая волна окатила его. – Господи, я ведь люблю тебя, сукина ты дочь! Несмотря ни на что – люблю, и буду любить, пока не подохну. И если, как ты говоришь, теперь все у нас будет иначе… Без Виктора и Жени, без всей этой грязи, в которой мы оба чуть не захлебнулись… В конце концов я выкуплю у Жени моего сына, пусть только выносит и родит. Ей не нужен ребенок, и я не нужен, ей ничего не нужно, кроме денег, не такой я дурак, чтобы не понимать этого. Ну что ж, я дам ей столько денег, сколько влезет, или, если заупрямится, уберу, а малыша усыновлю. Теперь, когда вернется Оля со своим Мишкой и появится маленький Андрюшка… какая же это будет замечательная жизнь! Господи, не сплю ли я, не грезится ли мне все это?»
Словно проникнув в мысли Андрея, Лариса осторожно провела рукой по его щеке. Он схватил ее и благодарно прижался потрескавшимися от жара губами.
Глава 32
Лариса ждала Ольгу в приемном покое. Ольга оставила в гардеробе старенькую дубленку и поднялась за ней на второй этаж. В комнатке у сестры–хозяйки надела белый хрустящий халат и шапочку, белые матерчатые тапочки вместо сапог, плотную повязку, закрывшую половину лица, и, цепенея от охватившего ее волнения, прошла вслед за Ларисой в шестую палату.
Пашкевич дремал после капельницы, укрытый до подбородка одеялом.
– Она пришла, – негромко произнесла Лариса и, увидев, что он открыл глаза, сделала знак медсестре, и они вместе вышли.
Ольга застыла у двери, напряженно вглядываясь в отца и не узнавая его. На кровати лежал лысый незнакомый старик с серым изможденным лицом и лихорадочно блестевшими налитыми кровью глазами. Куда девалась их прозрачная голубизна – то немногое, что она запомнила.
– Это ты, Оленька? – негромко спросил Пашкевич. – Подойди, я не вижу тебя.
Она подошла, села на стул у кровати.
– Сними эту чертову повязку.
– Мне запретили, – чужим, незнакомым голосом ответила она.
– Никаких запретов. Сними. И шапочку.
Она сняла. Несколько минут Пашкевич, приподнявшись на подушке, жадно вглядывался в ее лицо.
– Ну, здравствуй, доченька. Спасибо, что пришла. Совсем взрослая… Боюсь, на улице я не узнал бы тебя.
– Столько лет прошло…
– Целая жизнь.
Пашкевич взял ее руку, погладил вздрагивающие пальцы.
– А помнишь, как мы в Ботанический сад ходили? И в зоопарк…
– Бегемот, бегемот, открой рот…
– Не забыла?!
– Забыла, – вздохнула Ольга. – Я сегодня всю ночь не спала – пыталась хоть что–то вспомнить. Сколько мне было… Годика четыре. Потом вспомнила Ботанический сад, и стрекоз над прудом, и букетик гиацинтов, который ты мне купил. И бегемота в зоопарке; дети орали: «Бегемот, бегемот, открой рот!» – и он открывал огромную пасть. Вот и все мои воспоминания.
– Лариса мне рассказывала, у тебя есть сын. Ты принесла карточку?
Оля достала из сумки несколько снимков. Чувствуя стеснение в груди, Пашкевич долго рассматривал их. Крепенький бутуз, светлые волосики, легкие, как пух, чистые голубые глаза–пуговки. Что–то родное и трогательное было в нем, в этом человечке; Пашкевич почувствовал, как в горле у него закипают бессильные слезы. Он положил снимки на тумбочку.
– Оставишь мне. А как мать? Небось уже в академики выбилась?
Ольга недоверчиво посмотрела на отца.
– Ты… Ты что, притворяешься или на самом деле ничего не знаешь? – Ей неожиданно легко далось это «ты», она даже не ожидала такого и все утро промучилась, не зная, как к нему обращаться – на «ты» или на «вы».
– Знаю, что умер Евгений Викторович, вычитал в газетах. Думал позвонить вам, выразить соболезнования, но не решился. Больше ничего.
– Вон оно что, – задумчиво сказала Ольга, теребя свою повязку, и Пашкевичу показалось, что льдинки, стывшие в ее голубых глазах, стали таять. – Тогда все понятно. Так вот, на сороковой день после смерти дедушки, мы поехали на кладбище. Недалеко от Новинок на встречную полосу вылетел военный грузовик и врезался в нашу «волгу» – лоб в лоб. Иван Петрович Чугуев, мамин муж – он был за рулем, погиб на месте, меня с мамой отвезли в больницу. Я отделалась тремя сломанными ребрами, сотрясением мозга и дюжиной синяков, а мама… Ей повредило позвоночник, отнялись ноги. – Ольга отвернулась. – Академия… Я думала, ты насмехаешься. Инвалидная коляска – вот ее академия. Пока был Костя, мы ее хоть иногда на двор вывозили, воздухом подышать, а теперь… Проклятые ступеньки, мне одной с коляской не справиться, а просить никого не хочется.
У повязки с треском оторвались тесемки.
– Ну вот, – сказала Ольга. – Что теперь будет…
– Ничего не будет. – Пашкевич натянул одеяло, его бил озноб. – Почему ты не позвонила мне? Неужели так трудно было найти мой телефон?
– Я хотела, – разгладив пальцами острую складку на лбу, ответила Ольга. – Честное слово, хотела. Особенно когда ушел Костя. Мне тогда очень плохо было, просто ужасно. Но так и не решилась. Стыдно стало. Я ведь уже понимала, что все между вами было не так просто, как твердила мама, и что я сама вела себя, мягко говоря, не очень красиво. Надо было звонить раньше. Да и мама… Когда я сказала, что хочу тебе позвонить… ты даже не представляешь, что с ней было. Пришлось «скорую» вызывать.
– Узнаю Наташу, – пробормотал Пашкевич. – Ничто не остудило ее злобы – ни годы, ни горе…
– Это не злоба. Я даже не знаю, что это. Психологи в таких случаях говорят: комплекс вины. Возможно. Она хорошо жила с Иваном Петровичем, ты не думай, но какой–то червяк всю жизнь точил ее…
– Червяк… – Пашкевич отпил из стакана глоток апельсинового сока, чтобы залить горький вкус желчи во рту. – Она всю мою жизнь исковеркала.
– Конечно, это жестоко, – вздохнула Ольга. – Но ведь и ты ей в душу наплевал, согласись. Она женщина независимая, гордая, если бы ты честно развелся и женился на той своей лахудре, она с этим, наверное, как–то примирилась бы. Но ты унизил и оскорбил ее. Что, обязательно надо было приводить любовницу домой? Другого места не нашлось? Тогда – не судите, и не судимы будете.
У Пашкевича от изумления захватило дух.
– Это тебе мать сказала… ну, что я привел домой?
– А кто же еще!
– Значит, так тому и быть, – желчно усмехнулся он. – Впрочем, что сейчас об этом… А что ты не поделила со своим Костей? Если это, конечно не секрет.
– Какие там секреты, – пожала плечами Ольга. – Мы развелись еще до рождения Мишки. Костя хороший парень, ты не думай, веселый, добродушный, покладистый. Просто захотел, чтобы мы разменяли квартиру и жили отдельно. С одной стороны его можно понять – с матерью тяжело. Иван Петрович был человек мягкий, уступчивый, она привыкла командовать. То не так, это не так… Кому хочется терпеть?! А с другой… На кого я могла ее оставить? Мать все–таки, да еще в таком положении… Вот мы и грызлись, как две собаки, пока не разошлись. Но к Мишке он приходит, хотя уже на другой женился. Мишка узнает его, тянется. Так что все нормально.
– Нормально… – вздохнул Пашкевич, ощущая, как старая боль рвет душу. – А чем ты занимаешься?
– Сейчас ничем. Домохозяйка. Мишка, мама… А вообще после университета работала в риэлтерской фирме секретарем–референтом. Торговля недвижимостью. Я училась в хорошей школе, языком владею, знаю компьютер. Интересная была работа, и платили прилично. А когда у меня пузо на нос полезло, выгнали. Это ведь не при советской власти – декретные отпуска оплачивать, бюллетени.
Пашкевич вспомнил, как нынешним летом уволил корректора Светлану Ладутько. Ее единственная вина заключалась в том, что Светлана забеременела и поделилась этой радостной для себя новостью с Веремейчик, а та тут же шепнула ему. После этого он поручил Аксючицу предупреждать всех молодых женщин, которых принимали на работу: забеременеешь – подавай заявление, не жди, пока выгонят. «Господи, – с тоской подумал он, – если ты есть, прости меня. Какими мерзкими, жадными скотами мы становимся, обретя безграничную власть над людьми! Неужели нужно оказаться на больничной койке, ощутить за спиной дыхание смерти, окунуться в боль собственной дочери, чтобы осознать собственное скотство?!»
– Как же вы живете?
– Живем… Мама пенсию получает, Костик алименты платит. Терпимо. Мишка чуток подрастет, чтобы смелей на маму оставлять, где–нибудь устроюсь.
– Нагнись, – попросил он и потерся колючей щекой о ее щеку. – Доченька моя дорогая… Только бы мне выкарабкаться… На днях приедет знаменитый профессор из Германии, сделает пересадку костного мозга, а там я быстро поправлюсь. Только бы донора подобрать успели.
– Уже подобрали, – сказала Ольга. – Самого лучшего.
– Ты говоришь так, будто знаешь его.
– Конечно, знаю. Это я. Помнишь, ты мне читал «Маугли»? «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Одной крови… Сегодня это главное, правда?
Пашкевич закрыл глаза.
– Спасибо, родная, но я этого не допущу, это может быть опасно для тебя.
– Это я буду обсуждать не с тобой, а с врачами. – Ольга посмотрела на часы. – Кстати, меня уже ждет профессор Эскина. Что ж, папка, вот мы и встретились. Мы так долго шли друг к другу… Так что ты, пожалуйста, держись, слышишь?
Она встала, поцеловала его и пошла к двери. Остановилась, обернулась.
– А твоя Лариса Владимировна мне понравилась. Поправляйся.
Ольга вышла, унося с собой запах своих духов и ощущение свежести и чистоты. Пашкевич прикоснулся к щеке, еще хранящей прикосновение ее упругих губ, взял с тумбочки снимки белобрысого голубоглазого мальчишки и застонал от боли.
Глава 33
Из палаты вышла Ольга. Обессиленно прислонилась к косяку. Лариса обняла ее за плечи. Ольга уткнулась лицом ей в грудь, ее бил озноб.
– Успокойтесь, – Лариса ласково погладила ее по голове. – Он здорово сдал за эти две недели, но все образуется.
– Почему все так глупо получилось? – кусая губы, сказала Ольга. – Как обидно… если бы вы только знали!
– Виктор сказал мне, что вы не заехали в банк. Мы ведь договорились…
– Я не возьму эти деньги. Простите меня, вчера я просто спятила. И не будем больше об этом. Вы хотели отвести меня к профессору.
Представив Ольгу Рахили Самуиловне, Лариса вернулась в палату. Андрей, ссутулившись, стоял у окна.
– Зачем ты встал? – всполошилась она. – Сейчас же в постель!
Он послушно присел на край кровати.
– Слушай, она прелесть. Умница. У меня будто камень с души… Столько бездарно потерянных лет!..
– Не терзайся, это не только твоя вина. А дочь у тебя хорошая, я это сразу поняла. С первого взгляда.
– Они бедствуют! – Пашкевич скрипнул зубами. – Подумай только, Лариса, моя единственная дочь и внук живут на какую–то жалкую пенсию и алименты. С ума сойти!. Так она не возьмет, я знаю, характер у нее мой. Надо что–то придумать. А что?
– Не беспокойся, я уже все придумала, – улыбнулась Лариса. – Вечером переговорю с Некрашевичем, он откроет счет на имя твоего бывшего тестя. Ну как будто тот перед смертью положил у него в банке деньги и завещал их дочери и внучке.
– Наташе? Мне это не нравится.
– Еще бы! Но если ты хочешь помочь Ольге и Мишке… Не жадничай, Андрей, и не злобствуй, жизнь с твоей бывшей женой разочлась сполна. Старик не мог завещать свои деньги одной, обделив другую, это неправдоподобно. Кончится тем, что обе от них откажутся, гордости им не занимать. Да и вообще… Неужели ты думаешь, что Ольга сможет отделиться от матери? Она ведь даже ради того, чтобы сохранить семью, ее не бросила.
– Ты права, – задумчиво произнес Пашкевич. – Ну что ж, поговори с Павлушей, он знает, как это сделать, чтобы комар носа не подточил. А вообще ты чудо! – помолчав, воскликнул он, схватил и больно сжал ее руку. – Спасибо тебе за все! За дочь, и за внука, и за доброту твою и понимание. – Господи, – Андрей отвернулся, и Ларисе показалось, что из его груди вырвалось задушенное рыдание, – а ведь я мог потерять тебя. Я точно потерял бы тебя, если бы не эта болезнь. Проклятая или благословенная? Даже не знаю… Уж очень горько мне было в последнее время.
– А мне, думаешь, сладко? – Лариса прикусила губу и отвернулась. – Я ведь все знаю, милый. И о Жене, и о ее беременности, и о том, что ты обещал на ней жениться. Сейчас не время об этом… Главное, чтобы ты хорошо перенес операцию. Поправишься, сядем друг против друга, как раньше, и все спокойно обсудим. Мы ведь не самые глупые люди на свете, правда? До чего–то договоримся. Знай только одно – мне не хотелось бы тебя терять. Несмотря ни на что. А там… как получится.
Пашкевич съежился. Ее голос, в котором не было ни раздражения, ни обиды, кнутом хлестал его по взвинченным нервам. Она права: сейчас не время об этом.
Едва за Ларисой закрылась дверь, пришла медсестра с капельницей. Пашкевич лежал на кровати и смотрел, как из бутылки, закрепленной на высоком штативе, равномерно падают и падают капли, догоняя друг друга и разбиваясь о пластмассовый стерженек, чтобы через длинную трубку попасть к нему в вену, смешаться с больной кровью, помочь ей бороться с хворью. Легко и спокойно было у него на душе. Лариса все знает… Что ж, это даже хорошо. В душе он все–таки боялся скандала, истерики, слез и упреков, а она оказалась выше этого. Потому что знает свою силу? Наверное. Во всяком случае смешно сравнивать ее с Женей. Она вернула ему Олю и внука – какая еще женщина на такое способна? Только Лариса! Это безумие – развестись с нею ради какой–то потаскушки. Сын – да… Но он ведь уже думал об этом. Они с Ларисой вырастят его, Лариса станет ему настоящей матерью. И все наладится: семья, работа… Именно так, сначала семья, а уже потом работа. Книги «Афродиты» снова войдут в списки бестселлеров, но это будут другие книги. И никакого завещания он сочинять не будет! Ведь это словно признать, что обречен, подписать себе смертный приговор, а он с этим никогда не согласится. Он поправится, обязательно поправится! Смешно умирать, когда жизнь наконец–то обрела смысл, когда есть для кого и жить, и работать.
Кап–кап–кап – падали из бутылки в пластмассовую колбочку бесцветные капли. Глядя на них, Пашкевич не мог даже представить, что жить ему осталось всего ничего – семь часов и двадцать восемь минут.
Глава 34
Тягомотина с болезнью хозяина уже надоела Виктору до зубной боли. Прошло больше восьми месяцев, как Лариса стала его любовницей. За это время они не наскучили друг другу. До недавнего времени она все так же нетерпеливо ждала каждого его прихода, все так же пылко и ненасытно, до обмороков, занималась с ним любовью, но Виктор с отчаянием чувствовал, что душа ее ему не принадлежала. Душа ее принадлежала старому, облысевшему от химиотерапии Пашкевичу, и это стало особенно заметно теперь. Лариса сутками не выходила из больницы, пока Эскина не установила в палате у Андрея Ивановича круглосуточный пост. Она нянчилась с ним, как с ребенком: кормила с ложечки, умывала, меняла белье, уговаривала принять лекарство, и в глазах ее Виктор видел неприкрытое страдание. Лариса как–то враз отдалилась от него, больше она не хотела близости, хотя он проводил рядом с нею все дни и ночи. Ссылаясь на усталость, она закрывалась в спальне, и Виктор не осмеливался ее тревожить, чтобы все не стало еще хуже.
Это обижало и возмущало его. Он любил Ларису все так же слепо и одержимо, как в первый день, когда увидел, напрочь забыв о других женщинах, и мысль о том, что она никогда не будет целиком принадлежать ему, сводила Виктора с ума. Несколько раз он был готов убить Пашкевича – ничего нет легче, чем убить изнуренного и ослабленного болезнью человека: улучил момент, когда сестра вышла из палаты, прижал на несколько минут подушку к лицу и – привет от старых штиблет! Сиди в коридоре, где все уже привыкли тебя видеть, с журналом или с книжкой и поплевывай в потолок. Даже Лариса не заподозрит, что это твоя работа; не зря Эскина сказала, что Андрей Иванович может умереть в любой момент и от чего угодно. Удерживало Виктора то, что он чувствовал: это ничего не изменит. Даже мертвый, Пашкевич еще долго будет владеть ее душой. Мертвый, может быть, даже крепче, чем живой.
Робкая надежда вспыхнула в нем после стычки Ларисы с Женей. Очень уж вовремя Лариса вышла из кабинета профессорши, он сам, дурак, глупой своей преданностью чуть все не испортил, стремясь не допустить их встречи и неизбежного скандала. Виктор видел, что Ларису и впрямь потрясли слова Жени о том, что она беременна, что у нее родится сын – куда больше, чем угроза, что Пашкевич, едва выйдя из больницы, разведется и женится на этой дурочке. Лариса тогда просто почернела от ярости, казалось, еще мгновение, и она с визгом вцепится Жене в волосы, как пьяная базарная баба, и пойдет потеха. Но она сдержалась. Видимо, она решила любым путем удержать своего богатенького Буратино, иначе зачем стала бы мирить его с дочерью, затевать всю эту бодягу с деньгами? Не с его ли, Виктора, помощью она рассчитывает попозже избавиться от соперницы и ее будущего ребенка?
За поступками Ларисы стояло что–то большее, чем страх потерять каменную стену, за которой можно укрыться от всех житейских невзгод, и это «что–то» лишало Виктора всякой надежды. Он понимал: как только Пашкевич поправится, их любви придет конец.
Усталый, мрачный, погруженный в невеселые мысли, Виктор сидел в кабинете Андрея Ивановича, за его массивным письменным столом, а взгляд его скользил по картинам на стенах, по книжным стеллажам. Лариса плескалась в душе, а может, уже и легла, он не знал. Вдруг Виктор заметил тонкий черный кабель на стене. Кабель тянулся от подставки с аппаратурой и исчезал в вентиляционном лючке между кабинетом и спальней, прикрытом узорчатой решеткой. Сначала он подумал, что это телевизионная антенна, но затем разглядел, что антенна идет по плинтусу. Что–то дрогнуло в нем, как в охотничьей собаке, учуявшей дичь. Смутная догадка, от которой похолодели кончики пальцев, заставила встать и подойти к подставке. Кабель был подключен к видеомагнитофону. Виктор мгновенно понял, что скрывается за решеткой, – видеокамера слежения. А раз есть видеокамера, должны быть и кассеты.
К нему вернулись спокойствие и сосредоточенность – состояние, которое всегда овладевало им перед опасной работой. Как опытный сыщик, он шаг за шагом обыскал весь кабинет Пашкевича, вскрыл ящики письменного стола и стеллажей, проверил пустые пространства за картинами и книгами. Кассет не было. Куча видеокассет с боевиками и всякой мутью лежала на телевизионной подставке в зале, но Виктор прекрасно понимал, что такие кассеты Пашкевич там хранить не будет. Оставался только сейф, который он без труда обнаружил за картиной. Голландский, со сложным электронным замком. Повозившись с ним минут десять, Виктор понял, что без кода не откроет. У него был знакомый, специалист по таким сейфам, но привлекать посторонних не хотелось. Разве что в крайнем случае. Может, код знает Лариса?
Виктор взял в кладовой стремянку и зашел в спальню. Лариса читала в кровати, голова у нее была обмотана полотенцем. Виктор поставил стремянку в угол, где вились цветы. Лариса приподнялась на локте и с удивлением посмотрела на него.
– Что ты делаешь?
– Сейчас увидишь.
Он поднялся на три ступеньки и раздвинул цветы. И нашел то, что предполагал.
Лариса тоже увидела какой–то приборчик с поблескивавшим объективом.
– Что это? – с любопытством спросила она.
Виктор оборвал кабель, снял камеру и бросил на кровать.
– Видеокамера. Твой ненаглядный муженек шпионил за нами. Снимал на пленку, как мы с тобой занимаемся любовью, а потом смотрел по телевизору.
– С ума сошел! – Лариса соскочила с кровати. – Он не мог так поступить.
– Значит, мог, – сдержанно ответил Виктор. – Нужно найти кассеты. Я у него в кабинете все перевернул, остался только сейф. Ты случайно не знаешь кода?
– У него есть сейф?
– Крепко же он тебя любит, если ты даже об этом не знаешь, – вздохнул Виктор. – Что ж, придется звонить Часовщику, он и не такие сейфы вскрывал.
– Погоди, – сказала Лариса, схватив халат. – Погоди, дай мне придти в себя, меня всю трясет. Сейчас я покопаюсь в его компьютере, может, найду. Господи, неужели это правда, и он все время подглядывал за нами?
– Ты еще сомневаешься?
Они прошли в кабинет Пашкевича. Лариса с недоумением и страхом посмотрела на снятую со стены картину, на дверцу вмурованного сейфа с крохотной красной лампочкой, горевшей на электронном табло, и включила компьютер. Нашла файл «Документы. Строго конфиденциально», попыталась открыть. На экране зажглись слова «Введите пароль». Виктор, стоявший за ее спиной, тихо присвистнул. В собственном доме за бронированной дверью, от собственной жены… Ну и ну!
Лариса растерянно глядела на экран. Пароль… Какой Пашкевич выбрал пароль? Да какой угодно, любое слово или набор цифр. Свой день и год рождения, например. Или ее. Имя матери, свое имя… Попробуй угадай!
Поколебавшись, она набрала на клавиатуре: «Афродита». В конце концов издательство – главное дело его жизни. Экран погас, затем снова вспыхнул и на нем появилась надпись: «Доступ разрешен».
– Молодец! – восхищенно произнес Виктор. – Быстро ты его раскусила.
Не ответив, Лариса открыла файл. Записей было много – какие–то документы, названия банков, номера счетов. Наконец она наткнулась на странную запись: «S: В день Победы родился Карл Маркс.» Полный бред…
– Обожди, сейчас я покопаюсь в энциклопедии.
Через несколько минут она выписала на листок колонку цифр: 951945 – 551818.
– Набери.
Виктор взял листок, набрал. Сейф не открылся.
– Попробуем иначе: 9051945–5051818.
Он попробовал. Лампочка над дверцей погасла, сейф открылся. На дне лежала стопка кассет, шесть штук.
– А что я тебе говорил?! Обожди, сейчас полюбуемся. – Виктор включил телевизор, видеомагнитофон, поставил нижнюю в стопке кассету, и кабинет огласил вопль Ларисы. Вернее, два вопля, слившиеся в один. Первый, хриплый, ликующий, задыхающийся: «Да! Да! Ах, Витенька, родненький, еще!» – донесся из динамиков и второй, полный ужаса и отвращения: «Выключи!» – вырвался из груди Ларисы. Она вскочила и бросилась к подставке с аппаратурой, но Виктор перехватил ее.
– Смотри! – жестко сказал он. – Ты же любишь этого вонючего козла, ты готова за него жизнь отдать! Он смотрел это десятки раз, истекая слюной зависти и ненависти, теперь ты смотри!
Лариса переломилась пополам, ее вырвало прямо на ковер. Виктор достал кассету, поставил вторую, третью, четвертую… Десять секунд, пятнадцать… Начало, середина, конец. Везде одно и то же – бесконечный порнографический фильм. Шесть кассет, двадцать четыре часа – такого, наверное, ни одна компания, специализирующаяся на подобных картинах, не сняла. Какая там замочная скважина! Маленькая пластмассовая коробочка с мощным объективом, которую, не зная, хоть умри, не разглядишь среди густой сочной зелени, фиксировала каждый день, час, минуту и секунду их встреч, каждое движение, каждый вздох, самый тихий и нежный лепет. Их любовь, их нежность, их чистоту, которые по самой природе своей боятся чужих глаз и чужих ушей, она опошлила и оболгала, превратила в обыкновенное скотство, которое производится на потребу зеленым юнцам, дряхлым старикам и импотентам.
Виктору стало так больно, как не болело, когда пуля афганского моджахеда, ударив под сердце, свалила с брони на каменистую дорогу. Тогда было совсем иначе – его вырубило, и он очнулся лишь в госпитале, а там умели глушить боль промедолом. Сейчас же он был беззащитен перед болью. Выключил телевизор, подошел, обнял.
– Успокойся, родная, успокойся, милая. Сейчас я сожгу эти подлые пленки в камине, и от них останется только горстка пепла. Думаю, что горстка пепла останется и от твоей любви к Пашкевичу. Он не достоин ее.
Лариса вырвалась, оттолкнула его. В ее глазах билась искра безумия, лицо перекосила ярость, в уголках губ запеклась пена. Виктор не успел даже глазом моргнуть, как она, словно ураган, пронеслась по кабинету. На пол с грохотом рухнули телевизор и видеомагнитофон, картины, книги, фотографии, безделушки, стулья… Наконец он схватил ее, чтобы остановить этот разгром, и она забилась в его руках.
– Сволочь! – задыхаясь, кричала она. – Грязный подлый подонок! Как он до такого додумался?! Нет, этого я ему никогда не прощу! Умирать буду, не прощу. Все! Пусти меня, Витя, я в порядке. С этим покончено. Навсегда. Эта квартира принадлежит мне. Выпишется из больницы – и пусть убирается к своей шлюхе и своему будущему щенку, я тут же разведусь с ним. Захочешь, мы с тобой уедем куда – нибудь, пока не улягутся пересуды, нет – уеду сама. Тебе решать.
– Ты же знаешь – я уже давно все решил. Я всегда буду с тобой – хоть на краю света.
Старинные напольные часы в углу кабинета – единственный трофей, который вывез из Германии Ларисин отец, гулко и торжественно пробили две четверти. Половина двенадцатого ночи. Виктор посмотрел на свой швейцарский хронометр – часы отставали на две минуты.
Едва погас последний звук, как в прихожей завыл Барс. Сначала тихо, растерянно, словно пробуя голос, затем громче, протяжнее, тоскливей, переходя с низких тонов на все более высокие. Так в декабре воют волки, справляя свадьбы; так выли по своим убитым хозяевам лохматые афганские псы.
– Успокой его, – крикнула Лариса. – Успокой его, я с ума сойду от этого воя!
Виктор вышел в прихожую. Барс рвал входную дверь своими мощными лапами, бился о нее всем телом, словно хотел открыть. Виктор погладил его по голове и почувствовал, что пес дрожит мелкой дрожью от возбуждения.
– Что с тобой, дурашка? – ласково сказал он, почесывая Барса за ушами. – Сон плохой приснился? Успокойся, за дверью нет чужих, все хорошо.
Барс поднял голову, потерся о его руку и снова завыл, запрокинув верх морду.
– Я выведу его минут на десять на двор, – Виктор надел куртку и взял поводок, – иначе он весь дом поднимет. Бес его знает, что на него нашло.
Едва на ошейнике защелкнулся поводок, собака успокоилась. Они сбежали по лестнице, и Виктор открыл дверь. В лицо дохнуло холодом. Он хотел застегнуть куртку и отпустил поводок. И тут Барс черной молнией слетел с крыльца и исчез в темноте.
Минут сорок Виктор бегал по окружающим улицам и звал собаку – Барс словно сквозь землю провалился. Наконец, устав и замерзнув, он пошел домой. Захочет жрать, вернется. Не маленький. Попросив консьержку впустить пса, если тот залает под дверью, поднялся в квартиру. Лариса стояла в прихожей, прижав к груди руки.








