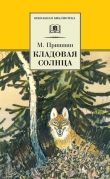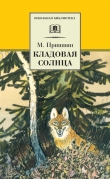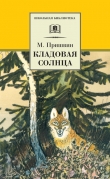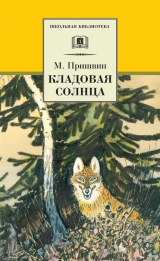
Текст книги "Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца"
Автор книги: Михаил Пришвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Молодой колхозник
Еще древний славянин начал войну с лесом и, вырубаясь, оставил нам после себя мрачный завет: лес – это бес. Но беззаветно людям хочется жить, и твердая рука держит стальной топор, и чем больше хочется жить, тем и тверже рука, и чище рубит топор, и легче режет пила. В этом и была радость жизни наших предков на Севере: рубить леса, вырубаться из леса и строить свою человеческую жизнь на светлой, открытой поляне.
Не сказать, чтобы наше село так-то уж очень давно вышло из леса, но люди уже и сейчас жалуются на перемену: далеконько стало ходить в лес из села за дровами, и за клюквой, и за грибами. Заметно тоже, что и древний завет вражды к лесу сменяется дружбой: на утеху ребятишкам многие стали сажать у себя возле дома березку, или раннюю иву, или черемуху, рябину или калину. А у бабушки Арины возле дома кто из сыновей уходил на войну, тот и сажал на память о себе деревце. И вот выросло у бабушки под окнами шесть разных деревьев, а из сыновей домой с войны никто не вернулся.
Стоят теперь и поднимаются из года в год все выше и выше эти деревья, и бабушка хорошо помнит, кто их сажал: все деревья эти называются именами погибших на нескольких войнах сыновей: Сашина рябина, Николина калина, Сережина березка, Мишина елочка, Павлова сосенка и Данилов дубок.
Можно ли помириться с тем, что вот были живые люди, собственные дети, и теперь вместо них деревья растут? Нет, мы думаем, помириться с этим нельзя матери, все будет вспоминаться, где-то ныть на душе, но жить, конечно, можно. И бабушка Арина, солдатская мать, жила себе и жила понемногу, а деревья поднимались все выше…
Приходит весна, развязывается на дереве какой-нибудь узелок, и от него расходятся веточки. Кто-то проходил мимо и заметил на веточке свое время и потом каждый раз, когда проходил, вспоминал, по приросту этой своей замеченной ветки из года в год, о чем-то своем думал и, может быть, думая, на что-то решался…
У каждого человека есть свое понимание времени, и у каждого есть свой тайный узелок. Но вот пришло время – и жизнь наша разделилась на два пути: либо вперед, на гору – к новому, либо назад, под гору – к старому.
Третьего пути не было, и оттого все тайны открылись, все узелки развязались.
– Арина Павловна, – уговаривали мы солдатскую мать, – мы же против нашего общего и главного врага идем, того самого, кто на всем свете расколол всех людей надвое войнами, кто побил всех ваших детей, кто сейчас у нас на селе крутит и мутит и жить не дает ни старым, ни малым. Вы его в старину бесом называли, а мы кулаком. Коровы и те, когда волка завидят, собираются вместе и наводят рога, а мы все терпим. Пора и нам взяться за ум и тоже к врагу повернуться рогами.
– Где вам! – отвечает бабушка. – Как это можно устроить общую жизнь, если в одной семье люди не могут устроиться, дерутся между собой и бегут друг от дружки куда глаза глядят.
Столько времени бежала река жизни, столько воды утекло, а у бабушки в голове только одно: если пять человек в семье не могут между собою сойтись, то как могут сойтись в колхозе пятьсот человек?
Так останавливается и закругляется душа старого человека: мы, молодые, уже видим впереди агрогород и в нем человека в дружбе с природой, мы уже собираемся в миллионные рати на борьбу против войн, а у бабушки в душе все еще дикий лес и в лесу старый бес.
Скоро пришло время, и некогда стало нам старух склонять к новым идеям, да и незачем! Оглянуться не успели мы, отдаваясь новой жизни, как там и тут появились колхозы-миллионеры и наметились ростки великой мысли об агрогороде. Даже и в нашу лесную глушь прибыли тракторы.
Мы бы и не вспомнили солдатскую мать, если бы она одна-одинешенька доживала свой век. Но у бабушки в доме была еще ее дочь, молодая, новая женщина, и маленький внук Вася. Вот из-за этого-то Васи мы возвращаемся опять в тот домик солдатской матери, где под окнами шепчутся между собой о старых временах рябина с калиной, сосна с елочкой и березка с дубком.
Тут, в этом домике, по Васе мы догадываемся, что у бабушки в душе теплится еще вечная материнская надежда увидеть своими глазами лучшую жизнь на земле.
В середине Отечественной войны был один такой день ранней весной, когда снег уже сбежал и началось, как у нас говорят: воспарение. Везде: на полях, и на лесных просеках, и на дорожках пар поднимался от земли, и сквозь пар все было синее, и все дрожало волнисто. Только на одном огороде у Арины воспарения не было: огород у нее был на бугорке, и снег у нее сбежал раньше всех, и пар вышел раньше, как из трубы, а земля стала сохнуть.
Давно уже у старухи сердце болело о своем огороде, и так болело, что будь бабушка сама председателем колхоза, то ни за что бы не утерпела и вспахала бы свой личный огород прежде всех общественных работ. Но колхоз жил своей жизнью и по-своему распределял лошадей, и очередь потому-то все не доходила до пересыхающей горушки Веселкиных.
И зачем тут колхоз! Будь бы Аксюша настоящая расторопная прежних времен баба, так уж сумела бы как-нибудь все обделать.
– Аксюша! – не вытерпела в это утро бабушка Арина. – Доколе же мы будем ждать с огородом? Гляди, вон куры копаются, и от земли столб пыли поднимается, вон поросенок – и над ним облако, у людей пар, а у нас пыль. Скажи председателю: земля у тебя на горе, муж на войне, сама в колхозе: все права на лошадь у тебя.
– Матушка, – отвечала Аксюша, – мы же с тобой не одни в колхозе, и у нас так ведется, что работы наши общественные стоят на первом месте, а дела мои личные после. Как я теперь буду просить для себя, если у нас сейчас в колхозе такая горячка с посевной?
– Глупенькая! – отвечала мать. – Ты же знаешь, от века веков было так, что своя рубашка была ближе к телу, и этого не переменишь, и плетью обуха не перешибешь, так это навеки и останется, и ничего в этом не может быть стыдного – просить лошадь вспахать свой личный огород.
– Матушка, у нас сейчас в колхозе лошади все нарасхват на общественные работы. Ты же понимать должна: от колхоза мы все живем, а нашего огорода даже нам с тобой не хватит. Попрошу я сейчас лошадь – мне посмеются и скажут: «Тебе, Аксюша, видно, своя рубашка ближе к телу».
Дочь уходит в колхоз и как бы отходит от матери в новое время, мать отходит от дочери туда, где по старинке каждый думает только о своей рубашке. Мать и дочь расходятся в разные стороны.
Ну-ка, Вася, будет тебе спать, слезай с печки, соединяй времена, поднимай их, как поднимают дрожжи растворенное тесто. Вставай!
– Чудная ты, бабушка! – сказал Вася, слезая с печки. – Я сейчас все слышал, как ты с мамой говорила. Ты думаешь: или мы одни на свете живем, или мы лучше всех и нам все надо делать прежде других?
Бабушка только было окунула полынный веник в воду, чтобы избу подмести, но, услыхав досадные слова, веник опустила.
– Ты еще мал, Вася, на тебя мы работаем, а когда свое наживать сам будешь, то свое будешь беречь от воров и сам же будешь всем говорить: «Своя рубашка ближе к телу».
Вася эти слова не сразу понял и своими большими серыми глазами удивленно глядел на бабушку. И когда бабушка успокоилась и подняла мокрый веник, Вася наконец-то стал разбираться в странных словах.
– Бабушка, – сказал он, – ты говоришь, что у нас воры?
Арина Павловна немного смутилась: это не было в ее правилах выступать так резко против колхоза. Она не совсем свободно засмеялась на слова Васи и ответила:
– Ты, Вася, выпей-ка молочка да сбегай туда в колхоз, погляди, как они там лошадей распределяют. Вася ответил очень серьезно:
– Я, бабушка, все, все просмотрю.
Выпил молока и убежал.
Вася был мальчик, еще свободный от школьных занятий, и вместо школы каждый день уходил в колхоз и там пропадал до обеда, а вечером часто бывал на собраниях и вместе с матерью возвращался домой. Но в этот раз даже и обедать домой не пришел и вернулся только уж к самому вечеру.
– Явился! – встретила его бабушка. – Что так долго пропадал?
– Как так долго? – ответил Вася. – Ты же, бабушка, сама мне велела воров поискать.
– Что ты, что ты! – отмахнулась бабушка.
– Чудная ты, бабушка, сама сказала, а теперь струсила – и на попятный двор. А я дело это не оставил и прямо прибежал в кладовую, набрал себе в подол картошек и стал считать, сколько весов кладовщик на телегу накладывает: у него десять килограмм, а у меня одна картошка.
Вдруг он подходит ко мне и спрашивает: «Что ты делаешь?» Я отвечаю: «Ничего не делаю, а только проверяю твои весы». Как он схватит меня за шиворот и выкинул вон из кладовой совсем и с картошкой. А я подобрал картошку, стал подальше и считаю: он десять килограмм, я одну картошку. Он мне грозит кулаком и ругается, а я ему тоже кричу: «Ничего ты со мной не сделаешь, а тебя я учту!»
– Дурачок ты! – сказала бабушка.
– Нет, ты послушай, что дальше-то было! Приходит председатель, услыхал, как ругается кладовщик: мешок на телегу, а мне кулак.
«Ты что это, мальчик, бузишь?» – спрашивает меня председатель.
«Да вот, – говорю, – бабушка Арина прислала меня поглядеть, какие у вас распорядки и нет ли воров».
Бабушка всплеснула руками:
– Так и сказал на меня, и язык у тебя не отнялся?
– Нет, бабушка, язык у меня не отнялся, и ты напрасно все трусишь: председатель на мои слова засмеялся и велел тебе кланяться. «Умная, – сказал, – у тебя бабушка, за нами надо глядеть и глядеть».
Тут бабушка вся закраснелась, как молоденькая, голову запрокинула, обеими ладонями закрылась, потом вытерла рот рукавом.
– Ну и боец! – сказала она. – Все ребята мои были смирные, в кого же ты вышел?
– Это не все, бабушка, – сказал Вася. – Председатель велел передать тебе слова: «Хорошая жизнь даром не дается».
– Золотые слова! – сказала бабушка. – У нас тоже это народ говорил: «Без труда не вынешь и рыбки из пруда».
Слезы выступили на глазах у старушки. Невидящими глазами она глядела на Васю, а сама назад ушла, к своему первому, Саше, и от него вернулась и большим глазом поглядела на Васю. Есть что-то Сашино в Васе, но не все. И так всех сыновей померяла с Васей, и все в чем-то были сходны, и что-то все-таки у внука глядело свое, небывалое. Под конец бабушка хотела Васю вывести из отца его, Никиты, но тут уж у нее вовсе ничего не вышло: отец Васи был тише всех ее сыновей.
Тогда-то вот и сделалось лицо у бабушки таким покинутым, таким жалким, как бывает в иные минуты у всех стариков и отчего тогда у нас, молодых, сжимается сердце; в эти минуты старики, скорей всего, вынужденные расстаться с бывалым, предчувствуют небывалое…
– Что с тобой, бабушка? – схватился Вася.
– Ничего, ничего, Вася, – ответила бабушка, – это с нами стариками, бывает. Не могу я понять, откуда ты такой храбрый взялся, у нас в роду таких не было.
– Чудная же ты, бабушка, – сказал Вася, – отец на войне, мама весь день в колхозе на работе, ты дома сидишь, на собрания не ходишь, ничего не видишь, – кому же, как не мне, вам помогать?
Только хорошего сначала не вышло у меня с кладовой, и не за что тебе меня хвалить. Вот иду я после того в конюшню и вижу: там в стойле торчит одна лошадка. Скорей бежать, искать бригадира! Уж я бегал, бегал, куда ни приду, и везде говорят: «Вот сейчас только был и ушел». Настиг я его в картофельной яме.
«Товарищ бригадир, – говорю ему, – у меня отец на войне, мать в колхозе работает, бабушка дома сидит, старая, огород наш личный на горушке обсох и пылит, велите нам лошадь дать вспахать огород».
«Погоди, мальчик, – отвечает бригадир, – вот ослобонится лошадь, я тебе дам».
«Там у вас, – говорю, – есть одна в конюшне».
«Та, – говорит, – хромая, ее заковали». – И ушел.
А я обратно в конюшню и вижу, этой лошадки в стойле уже нет, уже и след простыл: вот какая хромая! Что тут делать! Сильно я рассердился и пошел к председателю.
– Молодец, правильно сделал! – воскликнула бабушка. – Бригадир эту лошадку, наверно, сбыл свояку пахать огород. Ну, рассказывай, боец!
– Опять я говорю председателю, что так и так: отец мой на войне, мать в колхозе, бабушка по дому хлопочет, старая, и огородик наш личный на горушке обсох и пылит. А бригадир лошадь не дает, говорит, хромая, а она здорова, и ему от меня только бы отвязаться.
«А не ты это, – спросил председатель, – рано поутру проверял кладовую?»
Узнал меня, посмеялся и теми же словами, как бригадир, говорит:
– Погоди, мальчик, вот ослобонится лошадка, я тебе первому дам, все права твои. Потерпи немного, я тебе говорил: «хорошая жизнь даром не дается».
Бабушка вздохнула: ей, видно, стало Васю жалко.
– Вот бы тебе, – сказала она, – тогда и домой на обед, а то весь день не евши, наверно, гонял?
– Чудная ты, бабушка, – отвечал Вася, – ты все только о себе думаешь, о своем огороде.
– О ком же мне думать, Васенька, как не о себе? Вот когда мне будет хорошо, я тогда и о других думать буду.
– Нет, – поправил бабушку Вася, – это совсем не так надо. Что же ты понимаешь, будто у нас о себе не думают, нет, бабушка, и у нас все о себе думают, и еще как думают! Только у нас все начинается не с себя.
Вот когда дело мое провалилось, – зачем мне домой идти, с чем мне идти? Я бросил думать о нем и пошел в поле. Хорошо мне стало: поле широкое, посередине трактор жужжит, и за трактором множество птиц. Я не раз слышал: будешь глядеть – будут и лучше пахать, а то и огрехов наделают, и работу не примут, и им же самим хуже будет.
Так вот, прихожу я в поле и говорю трактористу:
«Посади меня, я хочу тебе помогать, посади, милый, я тебе пригожусь!»
Слова не сказал тракторист, посадил рядом с собой: он баранкой вертел, а я ему указывал на дурные места – на огрехи. Правда, бабушка, глаз у меня вострый, а тракторист контуженый; я с пользой сидел, и мне от этого было почему-то очень хорошо, и об огороде я вовсе забыл, и даже есть не хотелось.
– Вот вы оба с матерью такие: свое проглядите, а на чужое радуетесь.
– Бабушка! Да какое же оно чужое? Ты только послушай, что из этого вышло. Приходит председатель и вот как радуется хорошей работе! Трактор останавливает нарочно, чтобы только похвалить тракториста.
«А это я не один, – говорит тракторист, – вот кого благодари!» И указывает на меня. А председатель что-то мотнул головой и записал себе в книжку.
– Что же это он такое записал? – спросила бабушка.
– Кто его знает, – ответил Вася, – может быть, он мне трудодень записал.
– Вот еще что! – засмеялась бабушка.
– Что ты смеешься! – обиделся Вася. – Я, может быть, раз сто спрыгивал с трактора, и грунт проверял, и говорил трактористу. И очень просто: председатель понял мою работу.
Не сразу он узнал меня, а потом вдруг что-то вспомнил и говорит:
«Никак, мальчик, это ты утром кладовую проверял, а потом лошадь у меня просил?»
«Да, – говорю, – товарищ председатель, я вам говорил, что отец у меня на войне, мать в колхозе работает, бабушка старая дома сидит, и огородик наш на горушке обсох. Время его пахать, а лошади все не дают, и только одно все говорят: „Погоди, мальчик, ослобонится лошадка“».
«Ладно, ладно, – отвечает председатель, – скажи матери, чтобы завтра утром пораньше приходила за лошадью и оставалась дома пахать огород». А ты, бабушка, говоришь!..
Тут бабушка Арина что-то взяла себе в голову, и глаза у нее стали узенькими, и сквозь щелки эти она не вся глядела на Васю, а только чтобы можно было следить за ним. Но Васе это было все равно, он продолжал:
– Как сказал председатель, что завтра нам будет лошадь, побежал было я маму искать, но увидел – на поле сеют горох. Дай – думаю – помогу им; может быть, мне горошку дадут. Вот тебе, бабушка!
И Вася вывернул бабушке на передник целый карман.
– Горох сеяли, – сказала бабушка, – а на воровскую-то долю хоть бросили?
– Как так на воровскую? – спросил Вася.
– А так, на воровскую, – ответила бабушка, – человек будет ходить мимо гороха и не утерпит, чтобы не сорвать горсточку. Вот и сеяли на этого человека и просили: «Уродись, горох, и на воров!»
– Ну, нет! – остановил бабушку Вася. – У нас так нельзя, у нас в колхозе людей стало много: один прохожий горсточку возьмет, другой, третий, а там птиц всяких налетит множество – и все на воров пойдет.
– Насчет птиц и у нас было строго. Ну же, рассказывай, чего ты там еще видел?
– Ты, бабушка, знаешь, я на собрании был, забился в угол и все слушал. Вот приехали из района. Спрашивали, как дела, как посев, какая упитанность скота, как уборочная. И совет давали, чтоб глядели за пастухами, не гоняли бы они быстро жеребных кобыл, а то много бывает случаев: кобыла скидывает.
– Умный совет! – кивнула головой бабушка.
– Вот это я запомнил. А сегодня я поработал на горохе, иду себе по дороге и вижу большое облако пыли: это пастух так гонит жеребных кобыл.
«Стой! – говорю пастуху. – Так нельзя гонять лошадей, у тебя жеребные кобылы скинут».
– Что ты, что ты! – испугалась бабушка. – Можно ли тебе, маленькому, так замечать пастуху!
– Отчего же нельзя, бабушка, ведь я же правду сказал. А он мне: «Вот я тебя самого скину!» И как кинется на меня! Я успел увернуться – и бежать! И слышу: арапник сзади меня – хлоп! Оглянулся я, пыль от удара облаком поднялась, а кобыла мчится во весь дух.
Тут, на счастье мое, выходит председатель откуда-то и, наверно, он все и видел. А я ему еще говорю: «Товарищ председатель, можно ли гонять так жеребных кобыл?»
Как увидал председатель, прямо пустился к пастуху и долго разговаривал с ним, и я слышал: «Мальчишка, от земли не видно, – и понимает, а куда же ты смотришь, ты, пастух?»
После того председатель подходит ко мне и говорит: «Снимай картуз!»
Я послушался, а он погладил меня по голове и говорит: «Ты умный мальчик, хороший!»
Мне, бабушка, тогда стало стыдно, слышу: уши горят, насилу поднял глаза. И как только поднял, он вдруг и узнал меня и говорит: «Так это ты утром кладовую проверял, а потом на тракторе ездил и лошадку у меня просил?»
«Да, – говорю, – товарищ председатель, мой отец на войне, мать в колхозе весь день работает, а бабушка дома сидит, старая, и у нее убили на войне шесть сыновей. Я теперь один у нее…»
«Успокойся, мальчик, – говорит председатель, – завтра будет у вас лошадь, я тебе обещаю». И что-то записал у себя в книжке.
– Что же такое он мог записать? – сказала бабушка.
– А я думаю, – сказал Вася, – это он мне трудодень записал.
Бабушка вдруг засмеялась, и поглядела недоверчиво на Васю, и сказала:
– Сколько же это он тебе за один день трудодней записал?
На минутку бабушка Арина, должно быть, усомнилась, правду ли рассказывал Вася, не сказка ли все, и что едва ли завтра можно будет наконец-то вспахать огород. Но как раз в эту минуту сомненья Аксюша вошла, и ее первые слова были:
– Председатель завтра велел мне рано-рано приходить за лошадью: будем пахать! И он очень хвалил нашего Васю, и смеялся, и рассказывал мне, как он проверял кладовую, как пахал на тракторе, как спасал жеребных кобыл, как напоминал о лошадке. Он даже сказал, что ему трудодень записал.
Тут у бабушки больше не оставалось уже никакого сомнения в том, что внук говорил только правду и что огород будет вспахан вовремя. И, может быть, в это время открывалось ей. что не в огороде тут дело, а в чем-то совсем другом. А после ужина, когда все спать улеглись и Вася, уморенный за день, прямо на лавке и заснул мальчишеским мертвым сном, бабушка Арина так и осталась в раздумье за столом возле Васи.
За окном шумит дерево, и нам бы не понять этого шума, но солдатская мать понимает: это шумит Сашина рябина. Вспомнив Сашу, бабушка всматривается в лицо спящего Васи и в его лице находит и узнает черты старшего сына. Так с Николиной калиной перешепнулась бабушка. Было много времени у старого человека посоветоваться и с Мишиной елочкой, и с Павлушиной сосной, и с Даниловым дубочком.
Все черты старого и бывалого находила бабушка в лице Васи, и все-таки из этих черточек не складывалось лицо Васи: самое главное, что-то новое и небывалое, так и оставалось неизвестным и неузнанным и долго не давало бабушке спать.
Москворецкий мост
Замечательная наша река! Плохо только, что недолго держится у нас в Дунине в весенний разлив на пойме вода. Скоро от всего моря на лугах остаются одни только светлые, голубые пятачки, и река входит в свои берега. Вот тогда-то по наряду дунинского колхоза инвалид Вася с братом своим Ваней начинают строить наш дунинский москворецкий мост.
На той стороне, в Козине, и школа, и трикотажная мастерская, детям и девушкам приходится постоянно ходить на ту сторону. Хорошо бы построить мост. И оно бы дешевле было, а то бывает, за лето вода, прибывая после больших дождей, раза три ломает и уносит мостики. Но сейчас я помолчу о постоянном мосте – у меня есть свой секрет, и я его раскрою под самый конец.
Строительство временных мостков начинается с того, что Вася заостряет колышки, стесывает и подгоняет одну к одной жерди, ровняет перекладинки. Мальчишки разводят огонь под котлом со смолой, и Вася смолит лодку. Когда материал бывает подготовлен, и лодка залита смолой, и смола затвердела, Ваня и Вася укладывают в нее колышки и спускают на воду.
Привычные к делу парни с лодки втыкают и вколачивают колья в дно реки. Каждую пару кольев они связывают перекладиной и с одной перекладинки вдоль на другую, дальше и дальше через всю реку, поперек переводят и прибивают гвоздями длинные жерди. Так выходит, что наш длинный, через всю реку мост шириной бывает всего только в три тоненькие жердочки, как раз только, чтобы на них мог стать взрослый человек. Конечно, тонкие осиновые жерди не обделаешь так, чтобы одна в точности приходилась к другой, но, однако, никогда не бывает такой дыры между ними, чтобы могла провалиться нога.
Если бы не было поручней и не за что было бы держаться рукой, то ходить по трем жердочкам было бы все равно, что ходить над водой по канату. Но когда одной рукой держишься, то нога идет уверенно, и мы, все дунинские, старые и малые, научились отлично, уверенно и быстро ходить по трем жердочкам.
Плоховато бывает только, когда один пешеход идет по мосткам из Козина, а другой навстречу ему из Дунина. Конечно, можно бы одному подождать, пока первый, вступивший на мостик, перейдет. Но такой уж у нас народ добродушный, что лучше ему встретиться и обняться с другим человеком, чем скучно стоять, дожидаться и бездействовать, пока другой перейдет мостик.
Жаловаться, однако, на узость мостков не приходится: два тонких расходятся, почти не обнимаясь. Даже если один с велосипедом идет – и то ничего. Вот если бы встретились оба с велосипедами… но такого случая у нас еще не было. Ничего тоже, если встретятся один толстый, а другой тонкий: толстый держится крепко за поручни, а тонкий перелезает на свой путь просто по толстому. Не знаю опять, что вышло бы, если бы встретились на мостках оба толстых…
Однажды я смотрел со своего высокого берега на наш дунинский москворецкий мост и думал о двух толстяках. Мало-помалу пришел и застал меня врасплох тот час, когда из Козина распускают школьников и наши дунинские ребята всей оравой валят по мосткам. Так я крепко задумался о двух толстяках, что совсем забыл о ребятах, о том, что, завидев меня, они неминуемо заставят рассказывать им новую сказку.
Так оно и вышло: ребята окружили меня и потребовали свой старый долг. У меня в голове уже начинала складываться новая сказка о двух толстяках на узком мосту. Еще бы чуть повременить – и сказка сложилась бы у меня в голове, но ребята явились не вовремя, и я даже сделал попытку убежать от них, чтобы спасти свою сказку. Но где тут от них убежать, только запыхаешься, и тогда уже от них не отделаешься одной только сказкой. Ничего не оставалось мне делать, как сесть на пригорок вместе с ребятами и начать им что-то придумывать.
Приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь самому сказывать? Конечно, приходилось, – у кого у нас нет встреч с детьми? И вы, наверно, это заметили, что никогда ничего не получится со сказкой, если начнешь понуждать себя на придумку. Мучаешься, мучаешься и вдруг на что-нибудь кинешь взгляд, обратишь внимание, станешь об этом рассказывать, и получается сказка, да еще какая веселая!
– В старину, – сказал я, – жили-были в селе Козине два друга: один, очень толстый, – Иван Никифорович, и другой, немного потоньше, – Иван Иванович.
– Я это знаю, – остановил меня любимый мой ученик Вася Веселкин, – эту сказку написал Гоголь, и она называется повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
– Вот и хорошо! – сказал я.
И, желая выкроить себе время на выдумку собственной сказки, попросил Васю своими словами рассказать повесть Гоголя.
– Дело было… – начал Вася. Остановился, подумал и начал по-новому:
– Нет, не так начинается. В том-то и все, что дела никакого не было: два друга целые дни просто лежали у себя под навесами во дворе. Ничего хорошего в жизни у них не было. Только было одно хорошее, что два приятеля сильно любили друг друга. В жару, когда они лежали под навесами, разделенные только забором, то перекликались через забор и спрашивали: «Как вам сегодня лежится?»
А если день был холодный, то посылали работниц на дом узнавать о здоровье. Встречаясь, вынимали коробочки с нюхательным табаком и, прежде чем самому нюхать, предлагали друг другу со словами: «Одолжайтесь!»
А когда гуляли, то первый, кто завидел лужу, предупреждал: «Берегитесь!»
Все люди на всем свете что-нибудь вместе делают, над чем-нибудь трудятся, а эти люди ничего не делали, и оттого им стало скучно, и раз от скуки два друга поспорили, и один из них, Иван Никифорович, назвал Ивана Ивановича вгорячах гусаком.
«Как вы осмелились назвать меня гусаком?» – вскричал Иван Иванович.
«Начхать мне вам на голову», – ответил Иван Никифорович.
Так загорелась война из-за одного слова «гусак», и друзья стали судиться. В то время суды были долгие и дорогие. Так просудились прежние друзья всю жизнь, старые, больные стали и все судились. У одного вся борода вылезла с горя и остался внизу седой кончик, похожий на редьку. У другого на голове все волосы вылезли и остался только небольшой хвостик, похожий тоже на редьку. Так все деньги свои они просудили, потеряли всякое уважение к себе в родном своем городе Миргороде, и их уже не называли полными именами, а просто одного Иван – редькой вверх, а другого Иван – редькой вниз.
Пока Вася рассказывал, эта славная сказка о скучной жизни сложилась в моей голове по-новому, и я начал рассказывать так:
– Вот тут-то и кончается сходство нашей сказки с той старинной, когда люди могли годами лежать на боку и ссориться из-за пустяка. Мы свою сказку должны так сделать, чтобы друзья помирились. Даже и худой мир, говорят, лучше доброй ссоры, а мы сделаем мир хороший, добрый, во всю славу нашего Дунина и нашей прекрасной Москвы-реки. Советую вам: не глядите на меня, а глядите на мостки и думайте, как бы нам с вами помирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем.
Все ребята стали глядеть на мостки, и как раз тут встретились на мостках два молодых человека с велосипедами, требуя дороги. Они бы, может быть, и подрались, но велосипеды мешали им драться. Вот почему тот молодой человек, у кого была пройдена большая половина моста, справедливо потребовал, чтобы другой отступил назад.
Во время же этой истории вдруг живой огонек мелькнул в глазах Васи Веселкина.
– Оба друга были очень толстые? – спросил он.
– Ужасно! – ответил я. – Как две сорокаведерные бочки.
– Я понял! – закричал Вася.
И живой огонек тогда загорелся у всех ребят, и все поняли мой замысел: на мостках встретились два толстяка. После того мы все вместе стали сочинять свою сказку о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
С такими животами, какие належали себе два толстяка, на мостках было гораздо трудней разойтись, чем с велосипедами. Беда была в том, что они не могли повернуться, и еще беда, что они собой загородили дорогу другим с той и другой стороны. Нетерпеливые ругались, веселые смеялись, злые грозились спустить с мостков почтенных людей. В таком положении враги решили обняться, и когда обнялись, то сами над собой засмеялись.
Да и как не одуматься! Время наше быстрое, залеживаться или засиживаться в обидах некогда, на обеих сторонах реки люди стоят, ждут. Пока двигались наши добряки по мосткам, гнев их прошел, и, встретившись, оба рассмеялись. Иван Иванович потрепал ладонью по животу Ивана Никифоровича, давая этим понять ему, чтобы он пятился назад. А Иван Никифорович, придерживаясь рукой за шею Ивана Ивановича, тем самым говорил:
– Ежели я, Иван Никифорович, сорвусь, так уж давай искупаемся вместе!
Тогда оказалось, что Иван Никифорович нес к нашему знаменитому дунайскому сапожнику чинить свои сапоги, а Иван Иванович возвращался в Козине от сапожника со своими кожаными ночными туфлями. Вот почему Ивану Ивановичу пришлось на мостках пятиться задом. Народ с хохотом повалил по мосткам, когда дорога очистилась. А друзьям до этого смеха никакого дела не было: они вместе пошли к сапожнику, вместе вернулись в Козино и по-прежнему стали жить-поживать и добра наживать.
– А ты помнишь, – спросил я Васю, – последние слова этой сказки, из-за чего она и велась?
– Помню, – ответил Вася, – последние слова в ней: «Скучно жить на этом свете, господа!»
– Вот, ребята, – сказал я, – как вышло у нас с двумя толстяками! Давайте закончим сказку нашего времени: «Хорошо можно жить на этом свете, товарищи!»
Так закончилась наша сказка о встрече двух толстяков на дунинских мостках через Москву-реку, и теперь я раскрою, как обещался, свой секрет.
Ничего я не придумывал в своем рассказе, все это в точности так. Мне пришлось придумать только двух толстяков, и прямо скажу, не для смеха я их пустил на свет, – нам и так своего веселья девать некуда, для чего же придумывать!
Я для того их придумал, чтобы козинские и дунинские граждане собрались бы с духом и выстроили своими средствами, с поддержкой районных властей, постоянный мост через реку.
В наше время, да еще под самой Москвой, стыдно жить с такими, гоголевских времен, мостками, граждане!