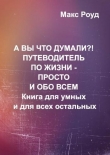Текст книги "Пессимизм"
Автор книги: Михаил Филиппов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Михаил Михайлович Филиппов
notes
1
2
Михаил Михайлович Филиппов
Пессимизм
Есть люди, так мало привыкшие задумываться над смыслом жизни, что вопрос о том, составляет ли жизнь благо или зло, может показаться им совершенно праздным или по крайней мере чисто академическим. К чему, могут они спросить, доискиваться смысла и значения нашего существования? Какова бы ни была жизнь, миллионы людей живут ведь изо дня в день, и есть же что либо, привязывающее их к жизни. Об этом свидетельствует уже один из самых могущественных инстинктов – инстинкт самосохранения. Сдавите человеку горло, и он совершенно непроизвольно начнет делать судорожные движения с, целью освободиться и утвердить свою жизнь. Не служат ли подобные факты очевидным доказательством того, что человек отстаивает свое существование, пренебрегая всякими философскими теориями и рассуждениями! Если жизнь действительно так горестна, как утверждают пессимисты, то что препятствует большинству людей последовать примеру самоубийц, которых все считают более или, менее больными людьми и которые, во всяком случае, доставляют ничтожное меньшинство человечества?
Не станем на время оспаривать эти доводы. Инстинкт самосохранения свойствен человеку наравне со всеми животными, но конечно ни один пессимист не отвергает его существования. Зададим в свою очередь вопрос самым крайним оптимистам: не правда ли, и у них бывали в жизни минуты горя, разочарования, сомнения, быть может даже отчаяния? Далеко не все решаются на самоубийство, но думают о нем очень и очень многие. Часто из религиозных или иных мотивов человек не решается наложить на себя руку, однако ждет смерти, как избавления. Найти людей, ни разу в жизни не испытавших ничего подобного, было бы очень трудно, особенно в наш век, который не даром, для высших классов общества, признан нервным веком. Если не полное отчаяние, то по крайней мере скука, пресыщение, утомление – таковы спутники нашего умственного и технического прогресса, нашей лихорадочной погони за богатством и за лучшими местами на жизненном пиру.
Пессимизм в его наиболее законченной философской и поэтической форме, – пессимизм; как стройное, последовательное миросозерцание, – есть всецело дитя нашего столетия. И это неудивительно, если вспомним, что одним из главных источников пессимизма являются ненормальные общественные условия. Однако, психологические источники пессимизма лежат глубже, нежели нынешние социальные противоречия, и имеют более общечеловеческое значение.
Все учение пессимизма сводится к следующей простой формуле: в человеческой жизни и во всем вообще мире страдания преобладают над наслаждениями; стало быть, жизнь не стоит того, чтобы жить. Отсюда уже видно, что основной вопрос пессимизма был поставлен с тех пор, когда люди стали вообще сознательно относиться к своим страданиям и наслаждениям и сравнивать их относительное значение. В этом смысле можно сказать, что зачатки пессимизма так же древни, как и самая философия.
Но и в древности самая благоприятная почва для пессимизма явилась там, где этому всего более благоприятствовали социальные условия. Во всем древнем мире, если под этим подразумевать цивилизованные общества, социальное неравенство было значительно: оно было велико даже у греков. Нигде однако это различие не проявилось в такой резкой форме, как в древней Индии, с ее кастовым строем, делавшим брамина земным богом и угрожавшим судре смертью за слушанье чтения священных книг. Да, брамин был земным богом, но именно поэтому он всего легче постиг свое собственное ничтожество. Ведь он, этот бог, наравне со всяким смертным, был подвержен болезни, старости, смерти, и в конце концов превращался в ком грязи. И вот уже в древней Индии является философское учение, проповедующее ничтожество и призрачность человеческого существования, а отсюда недалеко до утверждения, что все вообще есть призрак, за которым скрывается вечная сущность. Все в этом видимом мире составляет обман, иллюзию. Постичь это призрачное существование, эту Майю; составляет первый шаг к мудрости. Призрачно и жалко всякое земное благо: лишь отречением, аскетизмом и созерцанием мы можем приблизиться к вечной истине.
Развитие этих начал, заложенных уже в философских учениях браминов, было делом буддизма, первой религиозной системы, которая, по своим конечным выводам, весьма близка к учениям новейших пессимистов.
Буддистское движение, с социальной точки зрения, было выражением борьбы между двумя высшими кастами – кастою воинов и кастою браминов. Как мало был склонен буддизм, по крайней мере в его первоначальном виде, к радикальному отрицанию кастового строя, видно из того, что когда речь шла об обращении судры, то основатель буддизма всегда спрашивал согласия господина. Таким образом, буддизм еще менее шел в разрез с действительностью, чем христианство. Последнее хотя и признало, что рабы должны повиноваться господам, но никогда не допускало власти господина над религиозными убеждениями раба.
Как протест против господства духовной касты, – протест вышедший из среды военной аристократии, буддизм не мог быть религией труда. Рабское положение представлялось чем-то, прирожденным и социальное значение труда не могло быть понято. Духовное освобождение от власти браминов соединилось с чисто пассивным сопротивлением злу, путем освобождения себя от всех общественных уз. Царский сын, каким был Гаутама, ставший впоследствии Буддой, стал представителем отшельничества и нищенства, так-же чуждого труду, как и тот класс, из которого он сам вышел. В высшей степени характерны в этом случае слова самого Будды.
Когда царевич, став Буддой, возвратился в отцовскую столицу и стал со своими последователями просить милостыни, престарелый царь, отец его, не мог опомниться от стыда и стал спрашивать сына, зачем он позорит весь свой род? Но сын глубокомысленно ответил, что исполняет лишь древний обычай своего рода, и подарил отцу чашку, в которую собирал подаяние, сказав, что делится с отцом своим лучшим кладом. Этим он признал, что различие между нищенством и собиранием несметных кладов состоит лишь в количестве приношений. В то же время он признал себя и своих последователей вне общественного строя, основанного на труде, так как общество должно было бы погибнуть, если-бы все были либо нищими, либо властителями. Точно также отринул Будда, и семейные узы. Разрыв семьи был для Будды даже самым, драматическим моментом всей его жизни. Судьба царевича была решена в тот день, когда он, узнав о рождении сына, вошел в комнату, где спала его красавица-жена. Она лежала, окруженная цветами, положив руку на голову своего малютки. Царевич хотел было взять малютку на-руки, чтобы попрощаться с ним, но побоялся разбудить жену и ушел.
Позднейшие искушения, испытанные Буддой, мало прибавляют к этому эпизоду. Смысл предания состоит в том, что полное просветление, полное сознание ничтожества всего земного, явилось у царевича как раз в тот момент, когда он повидимому достиг вершины земного счастья, когда он имел все любовь женщины, семейную радость, почести. Он понял, что все человеческое ничтожно.
Все учёние Будды составляет логический вывод из этого положёния. Со свойственною восточной мысли конкретностью выражения, Будда сформулировал свое учение в четырех правилах или ступенях, последовательно приводящих к высшему блаженству, к Нирване. Первая ступень есть пробуждение сердца. Когда с глаз уверовавшего спадает чешуя, он познает первую великую тайну – скорбь, неразлучную со всеми земными делами. Вторая ступень состоит в освобождении от всех нечистых помыслов. Для этого человек должен познать, что всякое земное существование есть плод страстей. Третья ступень состоит в освобождении от незнания, сомнения, злобы. Тогда наконец уничтожается земное бытие и достигается четвертая ступень Нирваны. Это состояние напрасно иногда считают полным уничтожением. Нирвана описывается первоначальным буддизмом, как состояние величайшего блаженства. Это полное успокоение, недостижимое на земле, неуничтожаемая, вечная сущность, остающаяся в том случае, когда прекращаются все условия земного бытия. Итак высшая цель, к которой стремится буддист, есть не абсолютное уничтожение, а слияние с вечною сущностью. Нирвана существенно отличается от физической смерти. Смерть не освобождает от страданий: вспомним, что буддизм усвоил индийское учение о перевоплощении. Лишь Нирвана полагает конец скитанию души, Но Нирвана отличается и от райского состояния, изображаемого отцами христианской церкви. Буддизм не знает ни личного божества, ни сохранения человеческой личности за гробом. Нирвана есть чудное, неописуемое состояние покоя, совершенно не сравнимое с каким бы то ни было состоянием, испытываемым в этом призрачном мире.
Смягчающее влияние, оказанное буддизмом на некоторые азиатские народы, не подлежит сомнению. Но в то же время буддизм как нельзя лучше приспособлен к восточному квиетизму и апатии. Он требует почти исключительно пассивных добродетелей. Буддистский святой не идет спасать грешницу: он только безразличен к ее красоте и дерзким зазываниям. Он предоставляет ей совершить ряд преступлений и лишь когда ей обрезали нос и уши и бросили ее изуродованную, тогда он является к грешнице, чтобы сказать, что теперь готов ее видеть, так как она освободилась от призрачного покрова красоты. И в других действиях буддийских подвижников много святости, но мало деятельной любви.
Совсем в другом направлении, нежели буддизм, развилась философская мысль греков. В древнейшую эпоху у греков преобладают жизнерадостные настроения. Однако даже Гомер, певец высших классов, проводивших время то в веселых пирах, то в шумных битвах, говорит однажды, что человек самая жалкая тварь на земле. У певца низших классов, Гезиода, чаще встречаем грустные мотивы. Земля и море, по его словам, преисполнены зла. Но под злом он подразумевает физические бедствия, вроде бурь и нападения хищных зверей. О последовательном пессимизме здесь еще нет и речи.
Грустнее поют древние лирики, трагики и древнейшие философы природы. Особенно характерны жалобы Эмпедокла, того самого философа, который, по преданию, добровольно бросился в жерло Этны. Этот философ допускал два мировых начала, любовь и вражду, повидимому позволявших ему оставаться на золотой середине между пессимизмом и оптимизмом. Однако он более склоняется к пессимизму. К сознанию бедствий человеческой жизни у философа добавляется сознание бессилия человеческой мысли:
О злополучное, жалкое, смертное племя людское!
Многие беды тебя постигают, твой ум помрачая.
Жизнь коротка и непрочна, подобна летучему дыму.
Все мы живем в суете. Едва разглядеть успеваем
Жалкий тот уголок, куда мы заброшены роком.
Тщетно мы хвастаем, тем, что мыслью объять все способны.
Мутен наш взор и не чуток наш слух, а рассудок бессилен
Но все эти жалобы ничто по сравнению с теми, какие раздаются гораздо позднее, в эпоху политического и социального упадка Греции. Так философ Гегезий, основавший школу в Александрии в III в. до Р. X., уже прямо является последовательным пессимистом. Он утверждает, что только безумцам жизнь может казаться благом, тогда как мудрец к ней совершенно равнодушен. Смерть даже предпочтительнее жизни, так как она освобождает от напрасных надежд и обольщений. Гегезий написал книгу: „Разочарованный“; в которой описывает человека, решившегося уморить себя голодом. Напрасно друзья уговаривают его. Он победоносно опровергает их и доказывает, что жизнь не стоит жизни, так как страдания в ней преобладают над удовольствиями. Насколько такая философия пришлась по сердцу современникам, доказывается тем, что царь Птолемей велел закрыть школу этого философа, опасаясь эпидемии самоубийства.
Римские философы, идя по следам греков, часто доказывали ничтожество человеческой жизни. Однако последовательной пессимистической системы мы у них не находим; а наиболее распространенная в Риме стоическая философия, как и эпикуреизм, были склонны если не к оптимизму, то по крайней мере к примирению с бедствиями жизни. Да и самые бедствия здесь порою составляли лишь последствие пресыщения. Достаточно указать на философа Сенеку, богача, опутавшего своими ростовщическими сетями всю Британию, а под конец жизни ознакомившегося с учением христиан и проповедывавшего всяческие добродетели. Он стал, например по нынешнему– вегетарианцем, впрочем не настолько из аскетизма, сколько из боязни отравы. На более объективной почве стоит Плиний Старший. Рассматривая организацию человека, он находит, что человеческое тело гораздо более хрупко, чем у всех прочих животных, и замечает: „ни одно животное не испытывает таких необузданных страстей, как человек“. В конце-концов, Плиний склоняется к мысли, что на земле нельзя указать ни одного счастливого человека. Даже те, кому, повидимому, все улыбается, на самом деле несчастны, так как находятся в вечном страхе, как бы не утерять своего счастия.
Христианство в его первоначальной форме не может считаться пессимистическим миросозерцанием. Даже наоборот, оно проникнуто крайним оптимизмом по отношению к будущей жизни. Правда, христианство как и стоицизм относится отрицательно к земной жизни, но зато оно создало себе другую идеальную жизнь и, что всего важнее, здешняя жизнь, несмотря на всю ее призрачность, оказывается в теснейшей связи с жизнью вечною, составляя ее подготовку. Небесное царство христиан значительно отличается от нирваны буддистов, не знающих личного бессмертия. Христианство освящает самую земную жизнь, постоянно руководясь мыслью о промысле.
Отличие христианства от буддизма ни в чем не проявляется с такою силою, как в обстоятельствах смерти основателей обеих этих религий. Идеал христианства – мученичество; христианин должен положить жизнь свою за друга своя. Идеал буддиста – покой. Сам Будда, по наиболее правдоподобному преданию, умер спокойно в глубокой старости.
Позднейшее развитие христианства шло однако иным путем. Идеал деятельной любви все более и более оттеснялся на второй план и заменялся мистической созерцательностью и отвлеченным догматизмом. Уже Августин своим учением о предопределении предварил суровое учение Кальвина. Основатель новейшего пессимизма, Шопенгауер, с особенным уважением говорит поэтому об Августине, порицая Пелагия, защитника учения о свободной воле. Принятие учения Августина вполне гармонировало с железной дисциплиной, которая стала орудием самосохранения западной церкви. Свобода воли плохо мирилась с церковным авторитетом. Этот последний впрочем предупредил и пессимистические толкования, при иных условиях весьма легко сочетающиеся с учением о немногих избранных. Церковная власть папы, игравшая роль самого Провидения, не допускала мысли о том, чтобы мир, в котором „избранным“ жилось очень удобно, был наихудшим из миров.
Но как только движение, известное под именем реформации, разрушило уже раньше ослабевшие цепи папского авторитета, самодовольству католицизма был положен конец. Учение о предопределении, усвоенное представителями крайних реформационных течений, приобрело при этом в высшей степени мрачный оттенок.
В противоположность суровым религиозным течениям XVI века, новая философия все более и более склонялась на сторону оптимизма. Блестящие победы человеческого разума в XVII и особенно в XVIII веке, сравнительное спокойствие после ужасов тридцатилетней войны, брожение идей, приведших к мечтам о пересоздании общества на новых началах – все это в ХVIII веке содействовало преобладанию оптимистических миросозерцании, нашедших самого яркого выразителя в лице Лейбница. Этот философ имел смелость провозгласить, что наш мир должен быть признан наилучшим из всех возможных миров.
Лейбниц был, впрочем, не одинок. Другие шли еще дальше. Гартли уверял, напр., что человек всегда бесконечно счастлив и что человечество неудержимо стремится к райскому состоянию, а Теккер вычислил, что на каждые двадцать два года жизни приходится лишь одна минута страдания. Даже такой осторожный и трезвый мыслитель, как Адам Смит, принимал за аксиому, что удовольствия преобладают над страданиями. Лишь великий скептик Юм и всегда саркастически улыбающийся Вольтер остались в стороне от этих увлечений. Вольтер жестоко осмеял оптимистов вообще и Лейбница в особенности, заставив Панглоса доказывать, что человек, которому выбили зубы, должен считать себя очень счастливым: действительно, ведь могло бы случиться, что у такого человека впоследствии явилась бы зубная боль, а это страдание гораздо мучительнее той боли, какую испытывает человек, потерявший зуб от удара кулаком.
Основатель новейшей философии, Кант, не может считаться ни пессимистом, ни, еще менее того, оптимистом. Точнее, мысли Канта о ценности жизни последовательно развивались. От крайнего оптимизма он перешел к умеренному пессимизму. Первоначально он совершенно разделял взгляды Лейбница. Но когда влияние Юма освободило Канта от догматического сна, он стал относиться все более скептически к совпадению личного счастия с целью мирового порядка, и, в конце концов, стал усматривать в самой целесообразности лишь прием нашего мышления. В „Критике Практического Разума“ уже нет и следа оптимизма. Мораль Канта имеет суровый, ригористический характер; в основе ее лежит не человеческое счастие, а долг и повелительный голос разума. Наконец, в своем сочинении: „Опровержение всякой Теодицеи“, Кант уже прямо выступает против учения Лейбница и показывает несостоятельность всей философской основы оптимизма. Утверждению Лейбница, что страдание имеет лишь отрицательный характер, Кант противопоставляет непосредственное свидетельство опыта, а на слащавые уверения оптимистов относительно блаженства человеческой жизни отвечает указанием на то, что редкий человек, проживший достаточно долго, согласился бы вновь пережить не только ту же самую жизнь, но и всякую иную1.
Если Кант, во всяком случае, был ближе к пессимизму, чем к оптимизму, то, с другой стороны, учение Гегеля подало повод к крайним оптимистическим толкованиям, хотя и не неизбежно вытекающим из его учения. Как известно, Гегель провозгласил знаменитую формулу, по которой все действительное оказалось разумным. К чему могло привести одностороннее истолкование этой формулы, показывает пример Белинского, который, в эпоху увлечения разумною действительностью, дошел до примирения с тем, что и прежде и впоследствии считал величайшим злом русской жизни. Мы знаем теперь, что Гегель вовсе не хотел сказать, будто всякая действительность разумна. Наоборот, он признавал разумною лишь действительность, созданную разумом. Но, к сожалению, у самого Гегеля разум создавал иногда странные вещи. Так, напр., разумным оказался прусский патриархально-чиновничий и казарменный режим.
Одновременно с Гегелем выступил на сцену его антипод Шопенгауер. Однако, еще раньше мы поставим итальянского поэта и философа Леопарди.
Поэзия Леопарди потому уже заслуживает особого внимания в историй пессимизма, что здесь, хотя и не в систематической форме, выражено пессимистическое миросозерцание, во многих отношениях еще более безотрадное, чем учение Шопенгауера. Сверх того, Леопарди важен тем, что он избегает всяких метафизических предположений, тогда как система Шопенгауера падает вместе с его метафизикою. Наконец, достоверно известно, что Шопенгауер читал Леопарди, тогда как нет никаких оснований предположить, чтобы Леопарди было известно хотя бы имя Шопенгауера.
Джиакомо Леопарди был потомок обедневшего графского рода. Он произошел из семьи, в которой наблюдалось много ненормальностей. Брат его Карл страдал меланхолией и часто помышлял о самоубийстве. Сестра Паолина была рахитична, несколько горбата, хотела уйти в монастырь и часто говорила: я не помню ни одного дня, когда могла бы считать себя счастливою. Сам Леопарди отличался очень хрупким телосложением, был некрасив, и так сильно сутуловат, что многие считали его горбатым. С озлоблением он вспоминал о том, как в детстве, над ним на улицах смеялись мальчишки. С детства он часто страдал бессонницей и кошмаром.
Живя в глухом городишке, лишенном всяких умственных интересов, Леопарди в молодости увлекся греческими и римскими классиками. Усидчивые занятия еще более расстроили его здоровье. Отец его, человек крутой, даже деспот, поощрял сына к занятиям, надеясь сделать сына педантом, каким был сам. Мать отличалась холодностью и была бережлива до скупости, что частью зависело от крайнего расстройства семейных дел. Занятия классическою древностью, однако, привели совсем не к тому результату, на который рассчитывал отец Леопарди. Они внушили Джиакомо свободолюбивые идей, которых отец, подобно прочив обитателям их городишка, боялся пуще огня.
В том самом году, когда Шопенгауер оканчивал свое знаменитое произведение „Мир как воля и как представление“ – это было в 1819 году – Леопарди излил свои патриотическия чувства в стихах, где, однако, уже слышалась скорбная нота. Знаменитая ода в Италии составляет сравнительно слабое подражание оде поэта XVII века Филикайи. В ней не мало риторических преувеличений, вызванных знакомством с классиками, но все же пробивается и сильное чувство. В то время энергия жизни еще не ослабела в Леопарди. Такие же мужественные ноты звучат местами в его стихотворении на свадьбу сестры Паолины. Он призывает всех итальянских женщин любить лишь тех мужчин, которые могут быть, полезны родине.
О женщины, о девушки! Презренье
Питайте к трусам, к тем, кто недостоин
Своей отчизны, кто способен только
К вульгарным похотям.
Пусть в – женском сердце
Любовь горит к мужам, а не к мальчишкам
Энергия все более и более сменялась угнетенным состоянием. Леопарди слишком мало верил в жизнь, чтобы увлечься стремлениями итальянских патриотов. Он слишком презирал людей, для того, чтобы видеть в них борцов и героев, а не комедиантов. Вскоре он пишет по поводу отыскания рукописи сочинения Цицерона „О республике“, оду к Анджело Маи, в которой уже ярко выражается пессимистический взгляд на жизнь. Два года спустя,. Леопарди прибыл в Рим, где познакомился с знаменитым историком Нибуром. Последний, отнесся к Леопарди не как к поэту, но как к знатоку классической древности и предложил ему кафедру в Бонне. Но Леопарди, раньше мечтавший о кафедре, был уже так болен, что не мог принять предложения. Он даже должен был бросить научные занятия и возвратиться в родной городишко, где мелочность обстановки, размолвки с отцом, который шпионил за ним и распечатывал все его письма, ухудшение болезни – все это окончательно определило его отвращение к жизни, выразившееся в таких произведениях, как Брут Младший. Когда мать Леопарди своей бережливостью наконец кое-как упорядочила дела, поэт не мог уже этим воспользоваться: он умер от чахотки. Смерть его была однако неожиданною и произошла во время холерной эпидемии. Сначала вообразили, что он умер от холеры и чуть не похоронили на общем холерном кладбище, так что самая его могила могла бы пропасть бесследно. Как бы по иронии судьбы, эпитафия на памятнике Леопарди гласит, что он был прежде всего филологом.
Мысль, что пессимизм Леопарди был главным образом следствием его личной жизни, напрашивается сама собою. Однако она была бы крайне одностороннею и едва ли достойною памяти поэта. Леопарди много страдал, но примеры страдальцев, умиравших с светлым взглядом, на жизнь и благословлявших ее, вовсе не редкость. Сверх того, отрицательное отношение к настоящей жизни может существовать на ряду с верою в будущее блаженство, что мы видим у христиан. Наконец, было не мало страдальцев, умиравших с светлым сознанием, того, что жертва есть благо. В будущую жизнь Леопарди не верил. Правда, иезуиты уверяли, что перед смертью поэта им удалось обратить его; но это показание опровергается утверждениями его друзей. Он умер, как жил, глубоким скептиком.
Один писатель злословил, объясняя миросозерцание Леопарди следующим образом: Я болен, горбат, стало быть нет Бога! Еще при жизни, Леопарди подвергался подобным оскорбительным замечаниям. Он с негодованием опровергал их. Личные неудачи могли усилить в нем наклонность к пессимизму, окончательно определить его тон но в основе были более глубокие причины. Леопарди страдал не за одного себя, но за всю Италию, за все человечество.
Но, скажут, одних личных неудач совершенно достаточно для объяснения мрачного настроения Леопарди. Замечательно, что наиболее выдающиеся пессимисты были либо людьми, порвавшими семейные узы, как Будда, либо никогда не имевшими семьи, как Леопарди и Шопенгауер2. Леопарду два раза любил и умер девственником. Для многих этого было бы достаточно, чтобы разбить всю жизнь. Но Леопарди справедливо отвергал всякую мысль о том, что мог переносить свое личное озлобление (если оно было) в область философии и поэзии. Конечно он заходил слишком далеко в своем отрицании всякой связи своей личной жизни с философией; но в главном он был прав. Его скорбь была гораздо выше личной обиды. Леопарди писал одному из друзей: „Лишь трусость людей, которым хочется убедить себя в ценности существования, служит причиною того, что мои философские мнения считаются следствием моих страданий. Упорно хотят приписать моим материальным условиям то, что следует приписать моему разуму. Перед смертью я хочу протестовать против этой злой выдумки людской слабости и пошлости и прошу читателей прежде опровергнуть мои наблюдения и рассуждения, чем обвинять мои болезни“. Конечно, здесь есть невольное преувеличение. Одним разумом не может быть создана философия, берущая на себя оценку самого существования и смысла жизни человека. Участие чувства здесь неизбежно, или же учение выйдет слабым и неискренним. В философии Леопарди даже слишком много, чувства, но это скорбь за скорби всего мира. Даже в его Аспазии, этом наиболее субъективном из всех его произведений, где поэт оплакивает свою несчастную любовь, Леопарди сумел стать выше личного чувства и мелочного озлобления. Он любил не женщину, а идеал, и пришел к искреннему убеждению, что красота и самая любовь, как ее обыкновенно понимают, ни что иное, как призрак, химера.
С этой мыслью о суетности любви, Леопарди связывает одно из тех утверждений, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными, но на самом деле скрывают зерно глубокой истины. Уже в Песни Песней, а также в Экклезиасте, мы встречаем сравнение любви со смертью. Леопарди прямо говорит, что любовь и смерть – близнецы. Вместе с любовью, по его словам, всегда возникает чувство томления и даже желание смерти. Робкая молодая девушка, которая раньше думать боялась о страданий, раз она полюбила кого-либо, смело смотрит в лицо судьбе и своей неопытной душою понимает сладость смерти, la gentilezza di morir.
Не является ли здесь Леопарди поэтическим истолкователем того самого родового инстинкта, который в такой резкой форме, почти рукою физиолога, был разоблачен Шопенгауером? По Шопенгауеру, женщина есть гений рода и у ней особенно резко должны быть выражены инстинкты, заставляющие жертвовать всем – спокойствием, молодостью, красотою, здоровьем, лишь бы служить цели продолжения человеческого рода. С этой точки зрения, томление и желание смерти является лишь смутным сознанием пожертвования своею личностью ради потомства. Многие низшие животные, произведя потомство, немедленно умирают. Но и на вершине органического мира, женщина часто, в буквальном смысле слова, жертвует жизнью ради целей воспроизведения. Таким образом, Леопарди опоэтизировал чувства, имеющие несомненно реальное основание. Но уже то, что эти чувства свойственны по преимуществу женщинам, доказывает, что Леопарди был мало склонен мыслить и страдать лишь за одного себя.
Еще менее личных мотивов можно найти в других произведениях Леопарди, и, хотя в знаменитом обращении к самому себе он подводит итог своей собственной жизни, но и здесь мысль. о ничтожестве всего существующего совершенно заслоняет субъективный элемент.
О сердце, ты устало, но теперь
Ты отдохнешь навеки... Да, погибла,
Исчезла навсегда моя мечта,
Умчался призрак, с ним ушла надежда...
Нет больше ни желаний, ни стремленья
К приятным заблужденьям. Отдохни-ж,
О сердце бедное. Ты слишком много
Страдало и ничто уж не достойно
Биенья твоего. Вся жизнь есть горечь
И скука. Мир ничтожен. Успокойся...
Разочаруйся навсегда... Судьба
Нам смертным уделила только смерть.
Так ненавидь отныне всю природу,
Ту силу грубую, что все повергнет ниц!
Усни на век. Оставь без сожаленья
Весь этот мир – пустыню без границ,
Мираж, достойный лишь презренья...
Такие же мысли развивает Леопарди в своих диалогах В одном из них он зло насмехается над мыслью, что все будто бы сотворено ради человека. Он представляет себе, что весь род человеческий прекратил свое существование. И что же? Разве солнце перестало светить? Разве высохли моря и реки, а звезды не продолжают озарять безлюдные пустыни?
Диалог этот в высшей степени замечателен, так как указывает на реалистическое направление Леопарди, резко отличающее его от Шопенгауера. Леопарди очевидно глубоко убежден в том, что существование мира совершенно независимо от человеческого существования и мышления. Внешний мир для него вовсе не призрак в том смысле, как для Шопенгауера. Пусть этот мир бесцелен, хаотичен, не одухотворен никакой мыслью, безучастен к страданиям человека. Но это грозная реальность, на каждом шагу, как древний сфинкс, твердящая человеку: разгадай меня или я тебя пожру.
В одном из диалогов Леопарди приводит уроженца суровой Ирландии в знойную африканскую пустыню. Житель севера упрекает природу, везде угрожающую человеку. Природа не медлит ответом. Два голодных льва бросаются на странника и пожирают его.
Леопарди не верит в человеческий прогресс. Орудием прогресса является мысль, а это самый пагубный дар из всех данных человеку. Растения и животные ничего не знают о своем ничтожестве, мы же измеряем свое.
В юности Леопарди был далеко неравнодушен к славе. К концу жизни он пришел к убеждению, что богиня славы еще более слепа, чем богиня любви. Он выводит Брута Младшаго, который говорит: „пусть лучше ветер развеет мое имя, чем достанется оно развращенным потомкам“.
II.
Если Леопарди был самым выдающимся поэтом пессимизма, то наиболее полное выражение пессимистической философии принадлежит Шопенгауеру.
Философия Шопенгауера не скрывает своей родословной. Она опирается с одной стороны на учение Канта, с другой – на древних индийских мудрецов. Но усвоенные таким образом начала были органически переработаны Шопенгауером и дополнены совершенно самостоятельным учением о воле, так что, в конце концов, учение Шопенгауера оказывается одним из самых оригинальных, какие когда-либо появлялись в классической стране философии – Германии. Кроме того Шопенгауер обладал из ряду вон выходящим литературным талантом. За исключением Платона, едва ли можно назвать хотя одного древнего или нового философа, равного в этом отношении Шопенгауеру. Никто лучше его не умел сочетать самые отвлеченные рассуждения с сарказмами, с блестящими аналогиями и поэтическими образами.