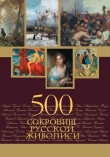Текст книги "Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки русской культуры XII-XX вв."
Автор книги: Михаил Дунаев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Сравнительно недавно один из крупнейших наших ученых, академик Б. В. Раушенбах, блестяще доказал, что понятие это вовсе не противоречит формальной логике, как некоторые полагают, и непостижимость Троицы относится к Ее сущностным свойствам, но вовсе не к «арифметической загадке» (может ли единица быть равна трем?), что до сих пор утверждалось. На уровне предельного абстрагирования Б. В. Раушенбах дал простую математическую аналогию: три вектора единой составляющей силы, каждый из которых относительно самостоятелен, но и не может существовать не только вне связи с другими, но и просто немыслим вне единой составляющей.
Христианство – единственная из монотеистических религий – несет в себе идею триединой сущности Бога. Для христианина Божественное начало, абсолютно замкнутое в Себе, неприемлемо (ибо при этом условии Оно таит в себе же и возможность эгоистического, деспотического бытия): ведь «Бог есть любовь» (I Ин. 4,8), и любовь эта может быть направлена в таком случае лишь на замкнутую в Себе самодовлеющую Божественность, никак не проявляясь вовне. Такой Бог страшен, ибо между Ним и человеком нет взаимности. Любовь не эгоистическая, жертвенная, может возникнуть только там, где есть неединичность. Любовь есть отношение между, по крайне мере, двумя самостоятельными началами. Но как писал В. Лосский «личностная полнота Бога не может остановиться на диаде, ибо «два» предполагает взаимное противопоставление и ограничение, «два» разделило бы Божественную природу и внесло бы в бесконечность корень неопределенности. Это была бы первая поляризация творения, которое оказалось бы, как в гностических системах, простым проявлением. Таким образом, Божественная реальность в двух Лицах немыслима. Происхождение «двух», то есть числа, совершается в «трех», это не возвращение к первоначальному, но совершенное раскрытие личного бытия».
В духовной сфере Дух Святой и сам становится освящающим бытие онтологическим началом, включаясь, таким образом, как Третья Ипостась в основанное на любви единство.
В единстве и нераздельности Пресвятой Троицы мы должны увидеть и для себя необходимость единения нашего внутреннего пространства с Богом и с внутренним пространством наших ближних, но не разделение, не обособление, не замкнутость. Об этом прямо и недвусмысленно сказал Сам Христос: «...Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21). Об этом же, по сути, говорил Спаситель, давая двуединую заповедь любви к Богу и к человеку (Мф. 22, 37–40). Неслиянность Троицы раскрывает перед нами ту истину, что каждая личность при таком единении сохраняет свое неповторимое своеобразие, сохраняет свою свободу, но и ответственность за все и вся. Деяния каждого отзываются во всех.
Собственно, это и есть то, что русская религиозная мысль определила словом СОБОРНОСТЬ. Наш религиозный философ А. С. Хомяков определял соборность как свободное единение всех в любви к Богу и друг к другу.
Только с точки зрения соборности можно постигнуть тайну искупительной жертвы Христа, наше СПАСЕНИЕ, – ибо если бы Он был обособлен и замкнут в Себе, то бессильны были бы мы вместить умом, как крестные страдания пусть, даже и Бога, могут каким-то образом коснуться судеб человечества. При соборном осмыслении и восприятии Голгофы эта тайна становится отчетливо прояснена. Так и всегда – соборное сознание снимает мутную пелену с того, над чем тщетно обессиливается видящий все лишь в дробном виде рассудок.
Соборное сознание есть сознание единства всего творения, сознание каждой личностью своей включенности в это единство. И того еще, что без каждого из нас такое единство будет в чем-то неполным, а значит, и неполноценным. Поэтому-то каждый сугубо ответствен за это единство. Скрепа же такому единству – любовь.
Вся русская культура единственно и служила упрочению соборного сознания.
Идея соборности не была измышлена Русью. Соборность, есть проявление церковности, того единства, Первообраз которого и являет Собою Пресвятая Троица. Преподобный Сергий обратился духом и разумом к идее Пресвятой Троицы не случайно. Для Руси его времени это обрело особый смысл, ибо только соборное сознание может истинно противостоять господству идей разобщения и обособленности, чувству вражды между теми, кто должен составить народное единство. Автор жития преподобного Сергия Епифаний Премудрый писал, что святой посвятил свой монастырь именно Троице, «дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего».
Не случайно поэтому и вершиной русской религиозной живописи стала созданная именно в ту эпоху икона « Троица» преподобного Андрея Рублева, бывшего монахом в монастыре преподобного Сергия и написавшего икону для собора Пресвятой Троицы, воздвигнутого над местом последнего упокоения великого святого.
Икона была написана, как говорили в те времена, «в похвалу – преподобному Сергию» – то есть как восхваление его духовного подвига и как выражение высшего смысла всей его жизни. Создана икона в первой трети XV века, и хотя конкретные сроки называются с расхождением в 15 лет – для истории древнерусского искусства такая разница малосущественна.
Икона, написанная преподобным Андреем, стала на многие времена образцом для всех иконописцев, приступавших к изображению Троицы. На церковном соборе 1551 года в Москве было прямо указано о каноне изображения Троицы: «Писать с древних образов, как писали греческие живописцы и как писал Андрей Рублев».
Конечно, почти шесть веков существования иконы принесли ей некоторые утраты: не сохранилось золото фона (нужно иметь это в виду при оценке колорита живописи), заново, хотя и по старым контурам, написано древо, в некоторых местах поврежден красочный слой, появились трещины. Но главное дошло до наших дней духовно нетленным.
Соприкасаясь с именами преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублева, мы можем наблюдать особый характер религиозно-философского, богословского делания на Руси в эпоху средневековья – не в виде рассуждений, оформленных в слове, но в иной форме: преподобный Сергий (как и многие его со-подвижники) богословствовал делом, утверждая на Руси идеал соборного единения; преподобный Андрей богословствовал красками. И прежде всего нам важно именно богословское отображение Истины в его творчестве.
На всех иконах Троицы всегда изображаются три Ангела, явившиеся, по библейскому свидетельству, праотцу Аврааму и его жене Сарре с предсказанием о скором рождении у них сына. (Быт. 18, 1–15). Обычно на иконах это событие показывалось в подробностях: кроме Ангелов непременно присутствовали на иконе Авраам и Сарра (на некоторых иконах показывалось приготовление ими трапезы, заклание тельца), стол, за которым восседают Ангелы-гости, изображался уставленным утварью и приготовленными яствами. То есть иконописцы стремились передать собственно событие, о котором повествует Библия.
Преподобный Андрей раскрыл богословскую суть Пресвятой Троицы, рассказ о событии у него отсутствует, хотя некоторые атрибуты повествования на иконе изображены. Здесь мы видим лишь трех Ангелов, на столе же одиноко стоит чаша с головою жертвенного тельца. Над левым Ангелом изображен дом Авраама – как символическое указание на то, что изображенное находится внутри дома (такова одна из условностей иконы вообще). Над средним Ангелом помещено древо, Мамврийский дуб, возле которого произошла встреча праотца с Ангелами. Выше правого Ангела мы видим условно-символическое изображение горы, как части того ландшафта, на фоне которого совершалось сакральное действие. Такая символика характерна для религиозной живописи.
Но важнее символика духовная. Явление трех Ангелов Аврааму есть ветхозаветный прообраз триипостасного Богоявления, о котором повествует Новый Завет (Мф. 3, 16, 17). Ветхий Завет вообще, как известно, наполнен прообразами новозаветного Откровения, пророческими и предчувственными символами явления Истины человечеству. Конечно, в прообразе бессмысленно искать конкретные черты и образы новозаветных событий и явлений, но столь понятная и ощущаемая всеми потребность обрести какую-либо зримую опору для нашего немощного разума и воображения, бессильных постичь Истину во всей полноте, но все же стремящихся к постижению, – потребность эта заставляет символизировать в конкретных фигурах «Троицы» Ипостаси Триединого Бога. Поэтому, и только поэтому в трех Ангелах, изображенных преподобным Андреем, мы различаем Бога Отца, Бога Сына (Христа) и Бога Духа Святого.
Бог Отец – это Ангел, сидящий слева, на что указывает Его символ – расположенный над Ним дом, ибо творение мира символически уподобляется домостроительству. Древо над изображением среднего Ангела есть символ Креста, на котором была принесена Божественная жертва во искупление грехов человечества. Древо символически обозначает, таким образом, Бога Сына, Христа, принесшего Себя в жертву. Гора, символ духовного возвышения, над фигурой правого Ангела указывает на изображение Бога Духа Святого.
Стол, вокруг которого сидят Ангелы, здесь не есть пиршественный стол, но алтарь для принесения жертвы. На столе поэтому нет утвари, но одна жертвенная чаша. Голова тельца в чаше есть прообраз новозаветного Агнца, Христа. Чаша же обретает тем самым евхаристическое значение. Вспомним: именно чаша присутствует в православном храме на сакральной трапезе – приобщении верующих телу и крови Господним. Кроме того, внутренние контуры фигур крайних Ангелов также образуют абрис чаши, в которую как бы заключена фигура среднего Ангела, Христа. Вспоминается невольно молитва Сына Божия в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39).
Движение руки левого Ангела – благословляющий жест, обращен к чаше и символизирует призыв Сыну принести жертву во спасение рода человеческого. Склоненная к Отцу голова Сына – ответный благословляющий жест, направленный к чаше же, есть символ согласия с Отцом, приятия на Себя добровольной жертвы: «...впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39). Третий Ангел, свидетель этого сакрального акта призыва к жертве и принятия ее, есть тихий Утешитель, свидетельствующий о духовной высоте свершающегося.
Фигуры Ангелов вписаны в круг, символ вечности, символ нераздельности Пресвятой Троицы. До преподобного Андрея такая композиция встречалась только на панагиях (что естественно), Рублев впервые соединил ее с прямоугольной формой иконы. Святой Дионисий Ареопагит давал такое толкование символики круга; «Круговое движение означает тождество и одновременное обладание средним и конечным, того, что содержит, и того, что содержится, а также и возвращение к нему того, что от него исходит». И ясно: круг есть имманентный атрибут Пресвятой Троицы по самому содержанию своей символики.
Если отвлечься от богословия и опуститься на уровень композиционного анализа, то надо отметить удивительную смысловую наполненность построения иконы: ни одна фигура не может быть «изъята» из неделимого единства всего изображения. Неслиянность Троицы подчеркивается индивидуальным своеобразием каждого из Ангелов. Внутреннее сосредоточение, Божественный покой – вот что можно прежде всего сказать об идее, о настроении, выраженных в иконе.
Духовный взор художника направлен от внешнего к внутреннему, в красоте внешней он прозревает красоту внутреннюю, неизреченную и незримую. «Бог есть любовь» – это мысль выражена в «Троице» в совершенстве. Любовь же есть прежде всего жертва. Красота Божественной любви – вот Истина, выраженная в иконе.
Особое внимание уделил преподобный Андрей цветовому решению своего творения. Можно испытать духовно-эстетическое любование красочной палитрой иконы, прозрачной небесной лазурью, нежностью зелени, «державностью» темно-вишневого цвета, охристо-золотыми тонами основного пространства иконы. Золото здесь, как и во всякой иконе, есть символ Божественного света – и важно, что изображения Ангелов не освещены извне, но испускают свет, наполняющий собою все пространство, как бы изливающийся с иконы на зрителя. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1,5).
Единство ипостасей Троицы становится зримо понятной каждому, кто обращает духовный взор на эту икону.
Идеи, выраженные в «Троице», оказываются важными не только на уровне богословском, на уровне вечной Истины, но и в конкретном историческом бытии народа, на уровне осмысления проблем времени. Конечно, смысл этого великого образа нельзя свести к какой-то одной идее, но важно отметить, что преподобный Андрей в совершеннейшей художественной форме выразил идею соборного сознания. Икона как бы говорила каждому: то, что вам кажется состоящим из разрозненных частей, на самом деле едино и неделимо. И мысль эта овладевала затем сознанием и бытием на всех уровнях – от бытового и политического до богословского и духовного.
Художник выразил идею единства вообще, жертвенного служения Истине, и русский человек средневековья переносил эту идею на свою жизнь, осмыслял свое назначение в мире, в конкретных событиях времени через истины соборного сознания.
«Троица» преподобного Андрея Рублева выразила особое для русского сознания понятие – Святая Русь. С этим понятием русская идея была связана искони, и стоит за ним нечто более значительное, чем идея национальная, географическая и этническая. «Святая Русь, – отметил современный русский ученый С. С. Аверинцев, – категория едва ли не космическая... Было бы нестерпимо плоским понять это как выражение племенной мании величия; в том-то и дело, что ни о чем племенном здесь речи, по существу, нет. У Святой Руси нет локальных признаков. У нее только два признака: первый – быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай, второй – быть миром под знаком истинной веры».
Перед нами – одно из проявлений той же идеи соборного сознания, все та же мысль о соединенности всех со всем миром. То есть не что иное, как проявление идеи всечеловеческого братства, всечеловеческой любви.
В конкретном же бытии русского народа идея Святой Руси помогала ему обрести вновь чувство общенационального единства и сознание необходимости жертвы во имя такого единства.
О. Павел Флоренский, вспомним еще раз, определил значение «Троицы» преподобного Андрея на предельно высоком уровне: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».
На идее Пресвятой Троицы воспитывалась русская национальная идея.
Икона «Троица» признается обычно самым совершенным созданием преподобного Андрея Рублева, но вряд ли имеет смысл расставлять его творения по ранжиру, ибо плодотворнее признать принципиальную неразличимость между ними по степени выражения полноты Истины.
Творческая деятельность Рублева принадлежит к той ветви в развитии русского искусства, которую именуют московской школой иконописи. Вряд ли требуется объяснять смысл этого названия, важнее выявить мировоззренческое и эстетическое своеобразие школы. При том важно еще раз напомнить, что русское религиозное искусство единосущно, и выделение в нем различных «школ» отражает лишь различие в способах выражения единой Истины, но не существование у каждой своей собственной, несходной с другими идеи.
Искусство Московской Руси начинается с XIV столетия: до того Москва была слишком незначительна политически и духовно, чтобы привлекать к себе художников, способных определять развитие религиозного миросозерцания. После же перенесения в Москву кафедры митрополита (1325), здесь обосновываются мастера высокого уровня, но поначалу жестко следующие канонам, выработанным византийскими иконописцами: «русские родом, но греческие ученики», как определила их летопись.
Среди прочих выделялся иконописец Гоитан, кругу которого принадлежит одно из выдающихся творений первой половины XIV века – образ «Спас Ярое Око», находящийся ныне в Успенском соборе Кремля. Пронзающий все существо человека взыскующий взгляд Спасителя не может исчезнуть из памяти всякого видевшего его. Несомненно, сразу приходит на память взор Вседержителя в куполе новгородского храма, расписанного Феофаном Греком (что еще раз лучше всяких слов раскрывает существо византийского влияния на живопись русских мастеров XIV столетия). Сам Феофан в конце века, как уже говорилось, также прибывает в Москву. И здесь, в иконостасе кремлевского Благовещенского собора, впервые в русском искусстве создает, с участием Андрея Рублева и мастера Прохора с Городца, полнофигурный Деисис.
Именно в этот период достигает полноты развития исихазм московской святости, практика умного делания русского иночества. И это, несомненно, повлияло на экспрессивное искусство Феофана, привнесшего, в свои образы идею внутреннего сосредоточения. В этот же период наблюдается новый этап, по-существу никогда не прекращавшегося приобщения иконописцев к образу Богородицы, и возникает несколько великих созданий, восходящих идеей к чудотворному образу Владимирской Богоматери – от «Богоматери Донской» Феофана Грека до «Богоматери Владимирской» преподобного Андрея Рублева.
По сравнению со своим великим старшим современником Феофаном, преподобный Андрей Рублев усилил и абсолютизировал – ив изображениях Богоматери, и в иных своих созданиях – просветленность, отсутствие сурового драматизма духовных стремлений – и тем определил важнейшее в московской религиозной живописи. Повторим: Феофан сосредотачивался на процессе духовных исканий, преподобный Андрей запечатлевал его итог.
Помогая Феофану создавать иконостас кремлевского собора, преподобный Андрей тремя годами спустя, в 1408 году, вместе со своим сподвижником, мастером Даниилом Черным, расписывает заново Успенский собор во Владимире (от тех росписей остались лишь фрагменты, и не в первозданном виде: они утратили цветовые особенности палитры Рублева), а также пишет грандиозный иконостас, состоявший более, чем из 80 образов. Основное внимание уделил художник Деисису – как центру всей духовной композиции. Иконы Владимирского Деисиса – более, чем трехметровые в высоту, чего до той поры Русь не знала, – утверждали великую идею предстояния человека купно с Небесными силами перед Спасителем мира.
Преподобный Андрей Рублев создал еще несколько иконостасов для соборов – в Звенигороде, в Троице-Сергиевом монастыре, в московском Спасо-Андрониковом монастыре, где он и завершил свой жизненный путь и был погребен в 1427-30 году.
Особо известны из названных работ три иконы Звенигородского чина, дошедшие до наших дней с большими утратами – «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел». Особенно поражает звенигородский «Спас», так зримо разнящийся с предшествующими ему изображениями Христа: Вседержителем Феофана и «Спасом Ярое Око», работы Гоитана. У рублевского Христа нет уже той суровости во взоре, нет сурового пронзающего всеведения – здесь человеку внимает всеведение любви, доверие к его духовным усилиям. То же чувство выносим мы и из сопоставления изображений Апостола Павла у Феофана и преподобного Андрея. Святости духовно карающей пришла на смену святость всеведущего добросердечия.
Кругу преподобного Андрея принадлежит один из шедевров древнерусской живописи – икона «Архангел Михаил» из Архангельского собора Кремля: достаточно для доказательства сходства сопоставить ее со звенигородским образом Архангела. Изображение Архистратига Небесного воинства имело особое значение для русского человека на рубеже XIV–XV веков. Время борьбы, эпоха битв за Русскую землю требовала истинного осмысления ратного дела. Нередко ведь христианству приписывается бездумное непротивление, в чем видится упрощение проблемы. Непротивление является в христианстве идеалом личного смирения, но необходимость высшего подвига – положить жизнь за ближнего своего во имя любви к нему (Ин. 15, 13) – требовала самоотвержения в борьбе с насилием. Не случайно преподобный Сергий Радонежский отправил в войско Дмитрия Донского перед Куликовской битвой (1380), решившей судьбы Руси, двух монахов-схимников, Пересвета и Ослябю, в той битве погибших. Небесным идеалом для земного воинства был на Руси Архангел Михаил. В небесной битве с падшим денницей Архистратиг, уступавший ему в силе и совершенстве, поверг вознесшегося гордынею сатану – тем навсегда утвердив Истину, которая для русских людей была точно выражена святым благоверным князем Александром Невским: «Не в силе Бог, а в правде». Эта правда и выражалась русскими иконописцами, писавшими образ Архангела. Эта правда питает веру и надежду человека в тяжкие для него времена.
Эпоха расцвета русской религиозной живописи совпала, и не случайно, с новым подъемом храмового зодчества. Храмы, созданные на рубеже XIV–XV веков и объединенные названием «раннемосковского зодчества», донесли до наших дней представление о духовном подъеме, который переживала Русь той давней поры. Не все из них сохранились, но среди лучших можно назвать Троицкий собор над мощами преподобного Сергия, два звенигородских храма, собор Спаса Нерукотворного Андроникова монастыря, где покоится преподобный Андрей. Они воплощают запечатленный в камне призыв к человеку – возвыситься разумом, обратить духовный взор к горнему совершенству. На протяжении XV столетия совершались политический рост и укрепление Русского государства, давшие на духовном уровне возникновение в начале XVI века концепции Москвы – Третьего Рима. Идея эта имеет природу не политическую, как принято думать, но сугубо религиозную. Она связана с духовно напряженным размышлением о судьбах Православия. Русское сознание столкнулось с той реальностью, что именно Русь в конце XV столетия, после падения Константинополя (1453), стала главным – так уж сложилось – оплотом Православия.
Идея Москвы-Третьего Рима есть не идея политического самовосхваления, а идея тяжелейшей ответственности за Истину Православия. Ибо те, кто нес ее прежде, два Рима предшествующих, пали. И не на кого переложить ту тяжкую ответственность, ибо четвертому Риму не быть.
Концепция Москвы-Третьего Рима определила и концепцию защиты Православия, защиты духовной и державной. Ибо в понимании русских мыслителей – первый Рим пал, ослабленный внутренним нечестием, отпадением от Истины; второй Рим, Византия, оказался ослабленным внешне, пал под ударами вражескими. Вывод прост: необходимо блюсти внутреннюю чистоту Церкви и крепить оборонную мощь государства. Соединение внешнего с внутренним сделает Третий Рим непобедимым.
Вызреванию идеи Москвы-Третьего Рима сопутствовал новый взлет религиозного искусства, ибо укреплению духовному особенно способствуют именно образы красоты святости. Этот взлет олицетворен прежде всего творчеством великого мастера Дионисия (ок. 1440 – после 1502).
Дионисий во главе больших иконописных дружин выполнял самые почетные и значительные работы своего времени: писал новый иконостас и делал росписи в Успенском соборе Кремля, расписывал соборные храмы Пафнутьев-Боровского и Иосифо-Волоколамского монастырей (из числа самых почитаемых духовных центров Руси). Многое из созданного Дионисием, как и иными мастерами, ныне утрачено. Но и по сей день светятся красками фрески Ферапонтова монастыря (1502 –1503). Красота святости и неизреченность горнего мира выражены в этих фресках с великим совершенством.
Дионисий был убежденным исихастом, хранителем чистоты Православия. Во второй половине XV века на Руси распространилась из Новгорода ересь жидовствующих, отчетливо антихристианская по своей направленности, в которой сильны были иконоборческие начала. Ересь захватила даже некоторых иерархов Церкви, в чем была наибольшая опасность. Специальным постановлением церковного собора 1490 года еретики подверглись осуждению.
Великие подвижники той эпохи преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский откликнулись на ересь специальным «Посланием иконописцу», адресатом которого был, по всей вероятности, Дионисий, да и само «Послание» скорее всего составлялось по его просьбе «в назидание его ученикам и вообще русским иконописцам». Образцом для иконографов Послание называет преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного, которые «никогда не упражнялись в земном, но
всегда возносили ум и мысль к невещественному Божественному свету». Послание явно восходит к исихастскому учению о божественных энергиях. Обладая ясным соборным сознанием, авторы Послания не выделяют иконопись как особую область человеческой деятельности, но онтологически связывают ее со всем строем православного учения, излагаемого через икону, имеющую, таким образом, духовносозидательное значение.
Одновременно Послание обращает внимание на то, что икона есть личный образ Христа, Богоматери или святых подвижников, поэтому она должна опираться на историческую достоверность изображения. Однако это должно подчиняться божественному смыслу иконы, и увлечение земными формами в иконописи недопустимо. Знаменательно звучит наставление иконописцу: «Сомкни очи, чтобы не зреть видимое, и прозревай внутренним зрением будущее».
Во фресках собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря Дионисий и его товарищи дали совершенное воплощение всех требований исихастского учения о духовной живописи. Здесь отразились и споры вокруг ереси жидовствующих: ясно выражена идея Божественной природы Христа, особо прославлена Богородица и святые подвижники, подчеркнуто значение для Церкви Вселенских Соборов, которые все изображены в нижнем ярусе росписей – как та опора, на какой зиждется все церковное учение. Фрески Дионисия дают живое представление о неземной красоте, о духовной сосредоточенности, проницательной мудрости христианского подвижничества.
Поскольку храм посвящен Богородице, фрески раскрывают перед верующими Ее сакральную роль в Священной Истории: Богоматерь прославляется как Та, через Которую в мир пришел Спаситель, как посредница между горним и дольним мирами, как Небесная Царица и как покровительница Русской земли.
Из сюжетов, связанных с земными деяниями Христа, выбраны Его чудеса и притчи, раскрывающие святость Сына Божия и основы христианского вероучения. Как пример прямого антиеретического изображения можно рассматривать сюжет «Видение Евлогия», где видно, как на совершаемом богослужении каждому монаху помогает в совершении обряда Ангел. Это ответ еретикам, отрицавшим церковную обрядность.
Красота духовная, красота святости лучше всего может быть сознана и прочувствована при созерцании образа святителя Николая Мирликийского в южной части алтаря.
Фрески Ферапонтова монастыря – последняя работа Дионисия. Фрагментарно сохранились его более ранние создания: росписи в одном из приделов Успенского собора Кремля, несколько икон, среди которых выделяются житийные иконы святителей московских Петра и Алексея. (Житийная икона – особый тип живописного повествования о житии святого: в центральной части такой иконы дается изображение самого подвижника, а в небольших самостоятельных по сюжету «клеймах», окаймляющих центральное поле, повествуется о различных эпизодах его жития). Обе иконы выделяются из круга им подобных необыкновенной щедростью в использовании белого цвета, отчего впечатление радостной светоносности изображений московских митрополитов становится особенно сильным. Это свойство присущее цветовой палитре Дионисия, что заметно и в иконах, сохранившихся от иконостаса ферапонтовского собора, и в иконах, оказавшихся ныне в экспозиции различных музеев, прежде всего Русского музея в С.-Петербурге.
Вообще в созданиях Дионисия особенно зримо проявилась важная особенность иконописания московской школы: невесомость изображений, как бы парящих над землею, почти не касающихся ее ногами. Это было заметно еще во времена преподобного Андрея Рублева, это же сохранилось на протяжении всего XV столетия. Символика такой трактовки образов ясна и без пояснений. Искусство Дионисия и его школы стало последним великим духовным взлетом русской религиозной живописи. XVI век нес в себе медленное угасание духа, хотя по отношению к той эпохе можно, разумеется, говорить лишь об относительности такого угасания, заметного лишь в сравнении с великими достижениями духа предшествующих времен.
Концепция Москвы-Третьего Рима таила в себе некую опасность, возможность несознаваемого соблазна: ослабление духовной крепости народного организма за счет предпочтения внешнего усиления организма государственного. Усиление это обманчиво, иллюзорно, ибо без внутренней крепости внешняя сила есть лишь видимость, что и подтвердили исторические события, которыми вошло в жизнь народа начало XVII столетия.
Да и вообще слабость человека, вполне понятная психологически, толкает его постоянно к предпочтению идеи житейского благополучия перед напряженным трезвением духа. Хотя благочестие русских людей еще долгое время на протяжении XVI столетия не было поколеблено, о чем свидетельствовали иноземные путешественники: «И более всего характеризует благочестие народа то, что, начиная всякое дело, они осеняют себя крестом. Мы заметили, когда были в Старице, что строители стен, возводившие крепость, начинали работу не раньше, чем повернувшись к крестам, воздвигнутым на храмах, почтили их должным образом. Войдя в дом, они сначала, по обычаю, крестятся на крест или икону, а их принято помещать во всех домах на самом почетном месте, а только потом приветствуют остальных».
Но все же внутренние изменения духовной жизни незримо происходили, что отразилось прежде всего в искусстве. Е. Трубецкой пишет об этом так: «Рядом с произведениями великими, гениальными в иконописи XVI века стало появляться все больше и больше таких, которые носят на себе явную печать начинающегося угасания духа. Попадая в атмосферу богатого двора, икона мало-помалу становится предметом роскоши: великое искусство начинает служить посторонним целям и вследствие этого постепенно извращается, утрачивает свою творческую силу. Внимание иконописца XV века всецело устремлено на великий религиозный и художественный замысел. В XVI веке оно, видимо, начинает отвлекаться посторонними соображениями. Орнамент, красота одежды святых, различные украшения престола, на котором сидит Спаситель, вообще второстепенные подробности видимо начинают интересовать иконописца сами по себе, независимо от того духовного содержания, которое выражается здесь формами и красками. В результате получается живопись чрезвычайно тонкая и изукрашенная, подчас виртуозная, но в общем мелочная: в ней нет ни глубины чувства, ни высоты духовного полета: это – мастерство, а не творчество». Превращение духовного сокровища в предмет роскоши – симптом тревожный. С этим Трубецкой и связывает то, как постепенно древние иконы стали заковываться в великолепные драгоценные оклады, скрывавшие умозрение в красках: «Раз икона ценится не как художественное откровение религиозного опыта, не как религиозная живопись, а как предмет роскоши, то почему бы не одеть ее в золотую одежду, почему не превратить в произведение ювелирного искусства в буквальном значении этого слова. В результате благодать дивных художественных откровений, рождавшихся в слезах и молитве, закрывается произведением благочестивого безвкусия. Этот обычай представляет собою, на самом деле, скрытое отрицание религиозной живописи, в сущности это бессознательное иконоборчество».