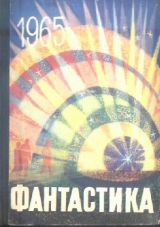
Текст книги "Фантастика 1965. Выпуск 3"
Автор книги: Михаил Анчаров
Соавторы: Всеволод Ревич,Натан Эйдельман,Герман Максимов,Римма Казакова,Наталья Соколова,Юлий Кагарлицкий
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– О твоем брате ничего утешительного, – сказал на ходу Человек Ученику. – Не захотел и слушать.
– Ты что, старик, не знаешь? – охнул президент. – Крепость на Проклятых островах взорвана, заключенные бежали – видимо, их ждал корабль. И взрыв, как предполагают, произведен лурдитом.
Ученик подтвердил: – Есть в сегодняшних вечерних газетах. Обо всем – кроме лурдита, конечно.
Так вот в чем дело…
Человек сел в машину вместе с Учеником. Он вдруг почувствовал ужасающую свинцовую усталость. Света не зажигали.
Впереди ехал роскошный автомобиль президента, в котором мурлыкала музыка.
– Драть бы тебя, – сказал Человек разбитым голосом. – Драть крапивой.
В зеркальце мелькали разноцветные огни порта, подернутые туманом.
Ученик сидел, подтянув колени почти к самому подбородку, обхватив их длинными руками. Он сказал, едва двигая губами, чуть слышно: – Победителей не судят.
– Да? – Человек устало покачал головой. – Ничего еще не кончено. Вот начнут копаться с этим лурдитом…
Машина как раз заворачивала за угол, и, наверное, поэтому плечо Ученика мягко дотронулось до плеча учителя, до его пустого рукава.
– Не беспокойтесь, как только вам будет угрожать…
– Идиот! Все вы идиоты проклятые! – закричал Человек. – Разве я об этом? Разве дело… Тьфу! Дай же мне папиросу, наконец. Если я сейчас же не закурю…,
9. ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗГИБУ ПОДЛОСТИ
Город утопал в сирени. Этой весной шли теплые бурные дожди, рано начало пригревать солнце, почва стала тучной, рыхлой, обильной, благодатной, в ней легко прорывали свои ходы жирные черви, в ней хорошо, привольно разрастались корни, впитывая соки жизни. Старожилы не помнили, когда еще так богато, так пышно цвела сирень, белая, бледно-лиловая, точно промокашка из детской тетрадки, густо-фиолетовая, как пролитые чернила, красноватая, винная. На иных кустах совеем не было видно листьев. Когда шел дождь, в мутных городских потоках плыли отломанные большие ветки сирени, звездочки опавших цветов пятнали черные мокрые блестящие тротуары, скользкие булыжники мостовой. Когда низкое серое небо прояснялось, погода разгуливалась, купы кустов, кипы цветущей сирени вываливались наружу из всех дворов, садов, прорывались, продирались сквозь прутья, лохматились в лицо прохожим. Город кронах сиренью, этот запах глушил даже дух бензина и прогретого асфальта.
У Человека все эти дни было грустное настроение. В этом буйстве природы, в этом торжестве цветения ему чудилось что-то победоносное, ликующее и даже жестокое. Мертвые пусть спят, узники пусть томятся в каменных слепых одиночках – все равно все свершается в свой черед. Приходит весна. Дышит распаренная черная земля. Беспощадно, безжалостно цветет сирень.
В то утро Русалка пришла на работу в белом платье, с открытыми, чуть тронутыми розовым загаром тонкими руками и шеей.
“Быстро зарастают у них душевные раны”, – с горечью подумал Человек, который как раз садился в машину, чтобы уезжать.
И конечно, был не прав.
Просто жизнь продолжалась. Просто Русалке было двадцать три года. Просто белому платью надоело висеть на плечиках в шкафу, необходимо было поразмяться.
А шрамы от глубоких душевных ранений не зарастают очень долго, часто остаются навсегда. Но они не видны, даже если надеть платье без рукавов и с большим вырезом.
Русалка смотрела вслед уехавшей машине, заслонив глаза ладонью. Конечно, ей не могло прийти в голову, что она видит Человека последний раз в жизни. Если бы кто-нибудь ей такое сказал, она бы, наверное, рассмеялась.
– Куда это он так рано?
– В академию. На заседание.
Шофер, с веточкой сирени за кокардой фуражки, добродушно-глупый, услужливый, был в то утро доволен собой и погодой, весел, ему хотелось поговорить на какие-нибудь интересные темы.
– Газетку вчерашнюю читали? Женщина родила младенца с двумя головами. Куда же его теперь, в науку? Или населению будут показывать? И как считаете, он один, младенец, или их, с позволения сказать, двое? И опять насчет имени – одно давать? Или, скажем, два – через тире? И как насчет метрики…
Материал о двухголовом ребенке был напечатан на первой странице пухлого многокрасочного воскресного выпуска – крупно, жирно, с фотографиями. А где-то на восемнадцатой – последние сообщения из южных районов страны. На юге карательные отряды сжигали целые деревни. Всех подряд: женщин, детей, стариков. Распарывали активистам животы, засыпали туда горстями землю – ты хотел чужой земли, так на, получай, жри…
Избрание нового академика всегда происходило в Актовом зале – так было заведено с первого дня существования академии Наук и Искусств.
Здесь, в академии, царила Госпожа Традиция. Здесь были все те же неизменные стулья с тонкими гнутыми золочеными ножками, и обивка на них всегда была истершаяся, полинялая – ее старались менять возможно реже. Здесь были темные гобелены с неразборчивыми пасторальными сюжетами, темные, почти черные портреты в рост основателей академии – “первых шестнадцати”, темные, пятнистые, как будто шелушащиеся после тяжелой болезни старинные зеркала, в которые нельзя было смотреться, канделябры со свечами, которых не зажигали уже сто лет, но подле которых неизменно, незыблемо лежали щипцы для снятия нагара.
Академики медленно, неохотно съезжались на торжественное собрание. Согласно традиции на этот раз они были не в парадных академических сюртуках, а в том виде, в каком посещали ассамблеи академии ее основатели, “шестнадцать великих” – длинный, темный, низко свисающий на плечи парик с крупными буклями тщательно завитых кудрей, латы, черные, вороненой стали, отливающие синевой, и кружевное жабо у шеи.
Лица, почти у всех собравшихся будничные, озабоченноделовые, странно контрастировали с кружевом и сталью, с условными кинжалами в ножнах и выложенными в строгом беспорядке театральными букаями. Некоторые были положительно смешны – особенно толстые старые люди, в которых не было ничего героического, романтического.
В таком виде, как тени прошлого, как пржвидения из старого добропорядочного романа, ходили по огромному фойе лучшие ученые страны, тихо переговариваясь, немного стесняясь звона своих лат. Внизу одна за другой, фырча, отъезжали ультрасовременные автомашины последних марок.
Человек чуть не опоздал – он искал этот чертов парик, а его, оказывается, Ученик отнес к своей матери, потому что в локонах завелась моль. Насилу нашлись перчатки и жезл, который каждый из них обязан был держать в руках.
На широком разливе входной лестницы его догнал астроном, спросил:
– Значит, будем выбирать его академиком? – и беспомощно развел руками. Астроном был стар, очень стар, почти как звезды, которые он любил, его опушенная белым редким облачком волос голова тряслась на тонкой худой шее. – Что ж… Политика – это всегда грязь, от Цезаря и до наших дней. Так было, так будет. Скажу свое “да”, сплюну, если во рту будет слишком горько, и вернусь обратно к звездам. – И стал с увлечением рассказывать о неприличных повадках одной маленькой звездочки из созвездия Волосы Вероники, о ее капризах, об отклонениях от положенного. Он говорил добро, мудро и снисходительно, как говорит о простительных заблуждениях молоденькой балеринки много повидавший на своем веку директор труппы.
Человек вошел в фойе и стал к стенке, хмурясь, дергая плечом. Его раздражала эта нелепая палка в руке, раздражали длинные крылья парика, мотающиеся, как уши у собаки. Он не любил бессмысленного, бесполезного.
Рядом остановился Философ, великолепный, презрительный, с ироническим прищуром глаз. Он смолоду играл в либерализм, даже написал левую книгу “Его величество народ”; теперь называл себя независимым и выпустил книгу: “А я – ни с кем”.
– Какие у него уже есть звания? Глава Государства. Командующий всеми сухопутными и морскими силами Республики. Отец церкви. Будет еще и членом академии.
– Да? – как-то уж очень нейтрально переспросил Человек.
– Мы-то с вами, конечно, знаем всему этому цену. Маскарад величия, горностай и пурпур. – Он высокомерно скривил губы. – Помню, когда я путешествовал по Египту, меня насмешила одна мастаба: гробница вельможи – этот вельможа умер от счастья, потому что фараон удостоил поставить ему ногу на голову. А имя этого фараона нигде больше не сохранилось, это единственное упоминание. Ученые даже не знают, как его правильно произнести. Забавно, да?
Человек упорно молчал. Он имел основания не доверять Философу.
– Но сильная фигура, этого у него не отнимешь. А сила всегда притягивает, покоряет. Что ни говори, с сильного другой спрос, ему многое прощаешь.
Последние аресты в университете среди студентов и преподавателей молва связывала с именем Философа.
Мимо прошел Физик, наклонив красивую львиную голову, не поднимая глаз. Ему было стыдно.
Он как-то давно еще, сразу после прошлогоднего июльского уличного разгрома, говорил Человеку: “Кажется, если бы не мальчики, не выдержал бы этой мерзости, встал и…” У Физика были четыре сына, погодки, очень умные, талантливые, блестящие, многообещающие. Они много значили в его жизни.
На мраморных столах были разложены труды того, кого предстояло сегодня выбирать – оттиски его богословских статей, изящно переплетенные в черный сафьян. Сунув жезл под мышку, Человек взял одну такую тоненькую книжицу, больше похожую на тетрадку, раскрыл ее. “Наука не зачеркивает библию, как это думают некоторые. Просто теперь, когда человечество стало старше, оно должно читать библейские тексты по-иному, понимать их не так буквально и наивно, как люди времен крестовых походов, но истолковывать аллегорически, иносказательно. Если в Библии сказано, что бог сотворил вселенную в шесть дней, то, собственно говоря, что нам мешает эти дни понимать, как шесть исторических эпох, каждая из которых могла длиться миллиарды лет? Легенда о сотворении Адама и Евы также требует символического переосмысления. До Адама и Евы на земле, возможно, существовали не одушевленные богом человекообезьяны, и сотворение богом первых людей заключалось только в том, что он вызвал в одной паре человекообезьян мутацию, мгновенную перестройку, в результате которой они были одухотворены, очеловечены и превратились в Адама и Еву”.
Человек читал, а кругом переговаривались:
– А где наш дорогой президент?
– Не приедет. Тяжелый приступ подагры. И как всегда, совершенно неожиданно, – ответил Геолог с тонкой улыбкой.
– Кого же нам выдадут по такому случаю в председатели?
– Вице-президента. Вон он идет.
Человеку хотелось избежать встречи с вице-президентом, но не получилось. Тот остановился, поздоровался с ним за РУКУ.
– Рад вас видеть. Очень рад. – Маленький хилый человечек в очках, с тихим ласковым голосом, он походил на провинциального священника или учителя чистописания. – Как состояние здоровья?
Вокруг вице-президента шныряли какие-то просительные фигуры, стремясь привлечь его внимание. Но он решительно повернулся ко всем спиной, взял Человека под руку – железо звякнуло о железо.
Человек и человечек отошли в сторону.
– Как последние испытания? Глава Государства очень интересуется. Я все собираюсь к вам заехать посмотреть. – Вице-президент тоже был конструктором, работал в смежной области. – Эпоха нас торопит. Могут появиться в других странах подземные самодвижущиеся системы разных типов, и никто не в силах этому воспрепятствовать. До чего додумался один Homo Sapiens, додумается и другой. Ну сначала, естественно, это будут безобидные научные эксперименты. Но когда-нибудь… со временем… Вы, очевидно, понимаете не хуже меня…
“Я создал его не для войны, – думал Человек, разглядывая восьмигранники старинного дубового паркета у своих ног. – Я создал его безоружным, беззащитным. Я создал его для науки, для познания, для расширения сферы познания”.
Вице-президент продолжал четко и бесстрастно развивать свою мысль:
– Для меня абсолютно ясно, что будет дальше. На смену опытным экземплярам, зверюшкам-игрушкам, – он позволил себе улыбнуться, – придут крупногабаритные мощные Звери периода массового выпуска, с дальним радиусом действия, большой грузоподъемностью…
“Я создал его безоружным, беззащитным. Я создал его другом людей. Но в глубине души я знал – да, я всегда знал…
Неужели начинается? Неужели уже начинается? Я считал, что имею в запасе еще добрый десяток лет для нормальной спокойной работы. Я не хотел об этом думать раньше времени. Мне казалось – успеется. Я все откладывал самую мысль об этом… Да и обстановка в стране никогда не была…” – Все верхние пути они, естественно, заминируют.
– Они?
– Ну, они, мы, – сказал человечек тихим пасторским голосом, поправляя очки. – Каждая страна создаст линии минных заграждений, подземные кордоны, которые будут повторять линии ее наземных границ. Это же так понятно.
– Да, понятно, – повторил Человек без всякого выражения.
– Практически верхние горизонты очень скоро станут непроходимыми. Пойдет борьба за глубину. И Глава Государства надеется…
Зазвучал колокол, призывающий в Актовый зал.
– Хотелось бы в самое ближайшее время показать вашего Зверя армии. Возможно, где-нибудь на юге. – Это было сказано осторожно, между прочим. – Маневры… Разумеется, это не может иметь серьезного практического значения. Но психологический эффект… “Пора творить легенду”, – как выразился Глава Государства. – Он почтительно склонил голову, совсем по-пасторски соединил ладони. – Словом, на этих днях вам будут даны большие, очень большие полномочия и ассигнования. Форсируйте работы. – Человечек улыбнулся Человеку ласковой замороженной улыбкой. – Да благословит вас бог.
И ушел, а искательно согнутые, неотступные фигуры последовали за ним на некотором расстоянии, как следуют рыбешки-лоцманы за акулой или другим хищником: а вдруг что-то перепадет.
Поток людей втягивался в зал. Самый молодой академик, загорелый белозубый Океанограф, весело приветствовал Человека, пробираясь к нему в толпе.
– Как дела? А я еду на военном корабле в кругосветное путешествие. На два года! – Человек повернулся к нему, взглянул в лицо, и Океанограф погасил улыбку, как гасят папиросу, стал сумрачно-серьезным. – Да, гнусно, я с вами согласен. А что сделаешь? Я хотел сегодня не прийти, как позволяет себе наш президент. Но что можно Юпитеру, то нельзя быку. Полетела бы к чертям моя поездка. А я так долго за это бился, меня с таким трудом утвердили – вы ведь знаете, мой отец сотрудничал в свое время в социалистических газетах, был близок к рабочей партии до ее запрещения. Этих вещей у нас не забывают. Подумать только! – Опять блеснула его славная мужественная улыбка. – Такое путешествие, это же моя старая мечта, мой мальчишеский сон. И потом от этого зависит моя работа. У меня ведь работа…
“У всех работа”, – хотел сказать Человек, но промолчал и отстал от Океанографа, потерял его из виду. Позднее вспоминали, что в то утро он был очень молчалив – еще молчаливее обычного. Мало кто в то утро слышал его голос.
Тяжелая рука хлопнула Человека по плечу – так, что зазвенели латы. Это был Писатель с его лохматыми бровями и толстым носом, с неизменной сигаретой в зубах.
– Нечего толкаться. Постоим, сосед.
Жабо сидело на нем косо, кое-как, локоны парика спутались.
– Хоть докурить… – Он жадно, часто затягивался. – Вот вы стоите, прямой, как солдат, в панцире… с бородкой… Был такой великий однорукий – Мигуэль Сервантес де Сааведра. Однорукий солдат. Вы на него похожи.
Человек, смущаясь, неловко пожал плечами.
Писатель неожиданно рассердился.
– Прямой. Это только кажется. Вы прямой. Я прямой. Иллюзия! Так или иначе все мы изгибаемся, склоняемся, применяясь к изгибу подлости века. – Он сыпал пепел на обивку золоченого диванчика, на паркет. – Нельзя оставаться прямым. Тебе кажется, что ты прямой. Но позвоночник уже изогнут, необратимо изогнут…
– Сколиоз, – обронил на ходу Медик с понимающей усмешкой.
Писатель сплющил сигарету о каблук и сунул ее в вазу.
– А изгиб подлости века очень крут – и становится все круче. Надо уже выламываться вот так. – Он весь перекосился с шутовской гримасой боли. – Выламываться, ломаться.
– Что тут у вас? – тихим ласковым голосом спросил вице-президент, проходя в зал.
– Рассказывают похабный анекдот, – грубо ответил Писатель. – Как одна публичная девка…
Зал был полон. Человек и Писатель сели на свои места – кресло номер 202 и кресло номер 203. За красным бархатным барьером правительственной ложи, ближайшей к сцене, появился Глава Государства. В темнокудрявом парике и вороненых парадных латах, с белым отложным широким воротником вместо кружева, уперши в бок руку с жезлом, он выглядел отлично, как будто только что сошел со старинной батальной картины. Его тонкие жестокие губы, впалые щеки и пустые глаза удивительно подходили к этому костюму Черного Воина, Воина Зла, превращали маскарад во что-то гораздо более серьезное.
На сцену вышел вице-президент и сел в резное потемневшее кресло, на котором согласно традиции лежал толстенный том в переплете из ослиной кежи (туда испокон веку заносились имена всех избранных академиками). Переплет должен был напоминать о том, что один из основателей академии прославился памфлетом: “О пользе ослов”.
Длинный лысый человек начал монотонно читать протокол последнего заседания. Его предстояло утвердить. В зале не слушали, переговаривались.
– Идиотизмы, ослизмы, – сказал Писатель сердито. – А закурить нельзя. Выпить тоже. Кланяйтесь, изгибайтесь, де Сааведра. Ослиному заду, сидящему на ослином томе, кланяется – кто? Человек. Достойно кисти Гойи!
– А если Человек не хочет кланяться?
– Э, бросьте. Все на свете так относительно. – Лицо Писателя задергалось. – Я сейчас изучаю кое-какие материалы по религиозным войнам. Хочу написать… думаю начать… – Он махнул рукой. – Бедная многострадальная наша родина! Читаешь – и страшно. И там и там – заблуждения. Из-за одного слова, искаженного неграмотным переводчиком, лились реки крови… люди шли на смерть, на подвиг. Не знаю, кто страшнее, кто дурее – те, что жгли во имя бога, говорящего “Не убий” на языке древних латинян, или те, кто радостно, с псалмами всходили на костер во имя бога, говорящего “Не убий” на грубом, тогда еще совершенно неразвитом крестьянском диалекте наших предков, с этими отвратительными флексиями… Сейчас смешно думать и о тех и о тех.
– Мне не смешно.
– Врете, дон Мигуэль. Смешно! Так же смешны будут наши распри потомкам. Да они даже не сумеют понять, что мы там проповедовали. Кто был в черных латах, а кто в белых ризах. Белых с кровью… Нет, прав Эклезиаст: “Видел я все “О дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа!” Человек спросил, отчего же он, придерживаясь таких взглядов, подписал в свое время протест против ареста восьмидесяти.
Писатель насупился, сердито фыркнул.
– Просто дурная привычка быть чистоплотным. Подтираться пипифаксом после испражнения. Немодно, устарело. Пора бы отвыкнуть…
Протокол утвердили и перешли к следующему вопросу.
Вице-президент стал тоном проповедника излагать, как много сделал для отечественной науки Глава Государства, каким чистым и прозрачным медом мудрости напоены труды его, как он прост, человечен и скромен, как глубок и гибок в своих обобщениях, как поражает, почти сокрушает непреодолимая сила его логики и кристальная ясность ума…
На пюпитре перед каждым креслом лежала все та же тоненькая чернокожаная книжица. Писатель потянулся за ней.
– Хм. Гибкости, действительно, хоть отбавляй. “Описанное в евангелиях чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами легко объяснимо: конечно же, Иисус утолял духовный голод людей хлебом своего учения”. – Он резко захлопнул книжицу. Устало обмяк в кресле. – Напиться бы до полного скотинства…
Началась церемония голосования.
– Кресло номер 1.
Встал толстый академик, похожий в своих латах на вспучившуюся от долгого хранения консервную банку, поднял жезл над головой и произнес:
– Да, согласен.
– Кресло номер 2.
Встал Астроном. Одуванчик его головы мелко трясся: казалось, сейчас облетит последний пух.
– Да, согласен.
“У одного старость, – думал Человек. – У другого дети. У третьего дело, благородная забота о своем деле. Или о своем теле? Получается, что всем нельзя. Кому же можно? И мы еще удивляемся, как в темные эпохи, эпохи подлости…”
– Кресло номер 56.
Встал Философ и сказал со вкусом, приятным глубоким басом, непринужденно отставив руку с жезлом:
– Да, согласен.
У Писателя поза равнодушия, неверия. Или просто пьянства? Медик знает одно – он приносит пользу людям, спасает их, а до всего прочего…
– Кресло номер 91.
Встал Физик и буркнул, не поднимая головы, нахохлив плечи:
– Да. Согла…
Чей-то голос, казалось, говорил над ухом: “Ты лично должен быть чист. Не пачкать рук кровью. Остальное – не в твоих силах. Общий ход вещей изменить невозможно. Это не по силам отдельной личности. В этом марксисты правы”.
Чей это юлос? Президента с его спасительной подагрой? Или Писателя?
“Не то грядет, что прекрасно, а то грядет, что грядет. Понять необходимость и простить оной в душе своей”.
– Кресло номер 116.
Встал Актер, сказал положенное и попросил разрешения прочитать стихи.
Он добр, он мудр, и разуму его Потомки будут удивляться…
Чей-то голос говорил в самое ухо: “Заблуждения человечества удручающи. Оно не заслуживает того, чтобы мы о нем заботились, думали, чем-то для него жертвовали. Люди лживы, неблагодарны, забывчивы. Сколько героев отдали свою кровь – а мир не стал ни на грош лучше…” И другой голос бубнил: “Эй, глупый баран, не ходи по горам…” Детская присказочка. Откуда это? Из какой дали? Голос старухи няньки, которая умерла добрых тридцать лет назад. “Эй, глупый баран, не ходи по горам, там волки живут, тебе лоб разобьют!” Встал в свой черед Океанограф и сказал медленно, трудно, с усилием:
– Да. Согласен.
Не делать зла человеку – определенному человеку. А зло людям – как с этим быть?
У кого сыны. У кого чEрные лебеди. Сколько уважительных причин.
Но ведь кто-то должен… Почему должен? И почему…
– Кресло номер 199.
Нет! С какой стати? Да почему именно я?… Ни в коем случае. Потому что нет семьи? Есть мои ученики. Есть моя незаконченная книга. Есть мой Зверь. Да я даже и не думаю об этом. Скажу, как все… Уши бы залить воском, как гребцы Улисса, когда не хотели слышать пения сирен. Себя не слышать.
– Кресло номер 202.
Изгиб подлости. Неужели и вправду так может быть – позвоночник уже изуродован, не распрямляется, а ты этого не замечаешь, привык, прижился в согнутом, искривленном положении?
– Да, согласен, – монотонно сказал Писатель, кажется даже не вдумываясь.
“Нет, ни за что. Никогда. Я хочу жить. Жить, дышать, работать. Как все. Как последний…”
– Кресло номер 203.
Человек встал, поднял жезл над головой, твердо, отчетливо сказал:
– Не согласен.
И сел, такой же, как всегда, может быть, еще немного бледнее. Наступило замешательство. Некоторые переспрашивали у соседей: “Что? Что он сказал?” Монотонная процедура укачала многих, они не вслушивались в вопросы и ответы.
Хилый человечек на сцене со съехавшими очками повернул свое искаженное гримасой лицо в сторону правительственной ложи. Пауза тянулась и тянулась. Стояло тяжелое неловкое молчание.
Глава Государства, чуть поморщась, сделал легкое движение кистью руки. Это надо было понимать так: “В чем дело? Продолжайте, ничего особенного не случилось”. Потом приближенные к нему люди утверждали, что Глава Государства пробормотал сквозь зубы что-то вроде: “Дурак”, – очевидно, в адрес растерявшегося председателя.
Он бросил короткий взгляд в зал, и глаза их встретились – Главы Государства и Человека. Встретились на одну малую секунду. Глава Государства отвернулся, оперся на жезл и продолжал сидеть с незаинтересованным, совершенно спокойным лицом, в позе изящной скуки – сильный и опасный враг, Черный Принц Зла.
– Кресло номер 204, – сказал человечек, точно возвращаясь с того света, поправляя очки.
10. НАДО СПЕШИТЬ
Человек ехал в машине обратно с заседания, возвращался к себе.
Цвела сирень. Сирень была всюду: на дешевой кофточке простоволосой огненно-рыжей девчонки, на берете ее паренька, в промчавшейся навстречу машине, в окне, распахнутом ветром, умытом ливнем.
Да, в этом было что-то жестокое. Мертвые пусть спят, узники пусть томятся в каменных мешках – сирени ни до чего нет дела. Она цветет…
Человеку хотелось попросить шофера свернуть в сторону, на старое кладбище, хотелось посидеть с полчаса на могиле учителя, успокоиться. Но этого нельзя было делать. Он должен был спешить, если хотел закончить все свои дела.
Низкое небо уже прогибалось, нависало над головой, обещая очередной ливень. Первые пятна зарябили на асфальте.
Начали раскрываться зонтики. По стене сирени с разбойничьим посвистом пробежал ветер, точно шаря грубыми руками в поисках цветка счастья, цветка с пятью лепестками.
Когда Человек вошел к себе в комнату, звонил телефон, и, видна, давно уже звонил.
– Да, слушаю.
Говорил президент – со своей загородной виллы, той самой, где водились черные лебеди и цвели черные тюльпаны.
– Ну, натворил дел!
– Я не мог…
– Оставь декламацию для любителей декламации. Зачем полез? Давно сказано – не поддавайтесь первому движению души, оно всегда благородно. Ладно, все уладим. Переработался, тяжелое мозговое переутомление… полная невменяемость…
– Позволь…
– Нет уж, не позволю. Дам команду Медику, они подберут соответствующую терминологию… Подашь прошение о помиловании в почтительных выражениях. Это придется сделать. Шефу это будет приятно. Может быть, даже обойдется дело без изоляции. Или на самый короткий срок. Но одного ты добился, умник, – у тебя отнимают… твоего ребенка. Ты меня понимаешь?
– Понимаю.
– Придется расстаться. Теоретическую часть, возможно, со временем удастся отвоевать, оставить за тобой, а вот мастерские и этот самый… твое детище…
– Кому же? Ученику?
– Зелен еще. Нет, вице… Ясно?
– Ясно.
– Эта лиса давно подбиралась к винограду. Надо отдать тебе справедливость, ты ему сильно облегчил задачу. Словом, оставайся дома, лучше всего ляг, лед на голову. Кто приедет – ты в забытьи. Без меня – ни одного слова! Ну, не падай духом. Неужели ты думал, что я могу тебя покинуть в беде? Не такая я свинья. Ложись!
Человек опустил трубку на рычаг и пошел вниз к Зверю.
Так, так. Значит, президент уже знает. Быстро. Или у него свои источники информации?
Перед алюминиевой вертушкой, где стоял охранник и проверял пропуска, Человек чуть замедлил шаги, сердце его сжалось – вдруг уже сообщили? Вдруг есть рапоряжение не пускать?
Охранник, белокурый солдат, даже не взглянул на пропуск и почтительно, как обычно, приложил руку к каскетке. Он был молод. Его глаза восторженно смотрели на знаменитого конструктора, ученого в расцвете славы, первооткрывателя подземных путей. Вот это жизнь, вот это настоящее счастье.
Дежурным по ангару и стартовому полю Человек сообщил, что хочет вывести Зверя в небольшую непредусмотренную прогулку, просто так, без заданной цели. У него свои соображения. Маршрут он фиксировать не будет. И в диспетчерском журнале в графе “Маршрут” написал: “Произвольный, с выключенным Большим Ориентиром”. Это означало, что маршрут потом невозможно установить, воспроизвести.
Зверь ни о чем не спросил.
Они погрузились. Приборы работали как положено. Ход был чистый.
– Тебе надо научиться новому, – сказал Человек.
Щелкнуло реле, и неторопливый металлический голос ответил с педантичной серьезностью:
– Я рад научиться новому.
– Надо забыть. Тебе надо забыть то, что я сейчас сделаю.
После паузы голос Зверя ответил так же четко, бесстрастно, как всегда:
– Но я не умею забывать. Мне это не дано. Ты должен знать – я не умею ни забывать, ни ошибаться. – Что-то шумно вздохнуло внутри Зверя. – Я несовершенен по сравнению с человеком.
– Ты умеешь страдать. Кто наделен страданием, тот может все. – Человек нагнулся к микрофону, сказал настойчиво, тревожно: – Ты можешь научиться… ты должен научиться лгать. Помоги мне.
Зверь долго молчал. В боковых иллюминаторах мелькали рыжие глиняные срезы. В передней смотровой щели фиолетовое круглое пятно луча вибрации плясало на такой же рыжей стене – она поддавалась, оседала под действием луча, давала трещины.
Раздался щелк реле.
– Мне это очень трудно. Ты не заложил в меня это.
Человек сказал совсем тихо, как бы про себя: – Мне тоже многое… трудно.
– Я постараюсь. – Опять глубокий протяжный вздох родился где-то во внутренностях Зверя, поднялся до высшей точки и угас. – Хорошо, я научусь.
– Я сейчас выйду. Выйду и спрячу одну вещь. Помни, если тебя будут спрашивать – ты ни о чем не знаешь, ничего не видел. В эту последнюю нашу с тобой проходку… – Прозвучали эти слова не особенно твердо, и Человек повторил: – В последнюю нашу проходку я не останавливал тебя, нигде не выходил, ничего не прятал в районе сброса. Вообще ходили мы ве в район сброса, а в противоположную сторону. Ты запомнил?
Через час с четвертью они вернулись на поверхность. Ученик, как обычно, ждал у стартовой воронки, хотя погружение было внеочередное, неожиданное.
– Мне сказали… Я прибежал…
Он привычно осмотрел лапы Зверя, его веки, вошел в кабину и взглянул на показания приборов.
– Ходили больше часа. А километраж небольшой. Неполадки были? Останавливались?
– Нет, – нехотя сказал Человек.
– Как кожуха перегрелись. Как будто Зверь шел без фиолетового луча, своими силами…
Зверя отвели в ангар. Человек зашел к нему, как был, в своем алом рабочем комбинезоне, их оставили одних.
– Устал на обратном пути? Без луча вибрации?
– Нет.
На грубом панцирпом кожном покрове Зверя выделялись более светлые участки, свежие, подсаженные взамен поврежденных. Вот это большое пятно – Зверь ободрал себе бок, когда они вместе продирались сквозь габбро и чуть не– погибли оба, когда Человек лишился левой руки. Эта серия мелких пятен – проводили испытания на большую глубинность погружения, Зверь страдал, но терпел, не жаловался. Эта царапина – Человек еще только учился водить Зверя с помощью одной руки, сделал неверное, неточное движение…
– Вот так, – Человек прижался лбом к плечу Зверя, к жесткой медно-бурой коже. – Вот так.
И тишина наступила в ангаре, никто не шевелился: ни Человек, ни Зверь. Обоим было больно.
Косые лучи солнца, проникая сквозь стеклянный потолон ангара, освещали что-то большое, грубо очерченное, неразборчивое, не то спящего носорога, увеличенного во много раз, не то просто огромную кучу кож, наваленных для просушки, а рядом с этой кучей, притулившись к ней, прижавшвсь лицом, плакал человек в алом комбинезоне. Однорукий седеющий человек, уже немолодой, очень одинокий, теряющий все лучшее, что было в жизни. Плечи его тряслись от рыданий, но ни звука не было слышно.







