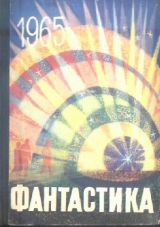
Текст книги "Фантастика 1965. Выпуск 3"
Автор книги: Михаил Анчаров
Соавторы: Всеволод Ревич,Натан Эйдельман,Герман Максимов,Римма Казакова,Наталья Соколова,Юлий Кагарлицкий
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Римма КАЗАКОВА Эксперимент 4
– Андреев Аркадий, рад познакомиться! К вам командирован для проведения эксперимента.
– Какого? – неторопливо, но настойчиво осведомилась Марьяна.
– Ого, рука у вас командирская!… Вот этого я вам сказать не могу.
– Мило, но непонятно.
Андреев улыбнулся обворожительно.
– Поверьте!
– Верю.
– Денег дадите?
– Нет.
Андреев расхохотался.
– Весело?
– Очень!
– Мне кажется, мы познакомились?…
– Гоните?
– Могу угостить чаем.
Размешивая ложечкой сахар, Аркадий сказал задумчиво:
– Мне очень нравится ваш город. Жалко, что сразу после проведения эксперимента придется уехать.
Марьяна вежливо промолчала.
– Переоборудование института заканчивается через неделю. У меня, как видите, всего неделя…
– Считать я умею.
– Денег дадите?
– Нет. И разрешения не дам.
– Сколько вам лет?
– Двадцать два. Лабораторией руковожу два года. Налить еще?
– Марьяна, – сказал он серьезно и просто. – Попробую быть откровенным. Дело не в переоборудовании института. Я придумал любопытнейшую вещь. Хочу сделать подарок шефу. Старик чертовски обрадуется! Мне…
Марьяна резко выдвинула ящик стола, шлепнула на стол инструкции.
– Занятные книжечки. Читали?
Аркадий потускнел, поскучнел.
– Прошу простить меня. В седьмом отделе у ребят моя тема, пойду потолкаюсь…
– И вы извините за некоторую нелюбезность. Я искренне сожалею.
У него был крепкий светлый затылок. Дверь бесшумно закрылась за ним.
Ночью Аркадий приснился Марьяне. Через весь сон – как тень от парохода по реке – его грустное полузнакомое лицо:серые с голубинкой глаза, твердые губы, жестковатые светлые волосы, улыбка киногероя. Сперва его вроде бы даже не было, а было только ощущение чего-то знакомого, похожего на него, и смутное раздражение от этого: он вызывал у Марьяны одновременно и симпатию и неприязнь. Ее злило его открытое желание расположить к себе ради неведомого ей эксперимента.
Сон колебался, дрожал водяной рябью, лицо Аркадия являлось ей то вытянутым, перекошенным, неприятным, то спокойным и сосредоточенным.
Придя в лабораторию, Марьяна первым делом вызвала Аркадия.
– Вчера я не очень хорошо поняла вас. В чем дело? Почему вы не хотите подать докладную? Может, это шутка?
– Нет, я не шутил.
– Как? Да вы что в самом деле! А вы знаете, что вы мне предлагаете?
– Знаю.
– Чего же вы хотите в таком случае?
– Чтобы вы нарушили инструкции.
– Послушайте, Андреев. Дело не в формальностях, поймите это. Я совсем не хочу, чтобы вы считали меня бессердечной бюрократкой. Перестаньте морочить мне голову, вы не влюбленная барышня, а ученый. Вот вам форма, берите диктофон, сочиняйте. Обсудим…
– Ну да, а вечером Липягин будет знать все до крошечной формулки! Благодарю покорно.
– Интересно, откуда это он узнает?
– Не знаю! Через стены просочится. Мой шеф – гений. Ему хватит намека. Он отпустил меня порезвиться, поболтаться со сверстниками – вы же знаете, у нас моложе пятидесяти – единицы…
– Аркадий, я эксперимента не разрешу. И точка!
– Вот я и надеялся -сдвинуть точку, а оказывается, точка – такая крохотная чепуховинка – тяжелей надгробной плиты.
– Не будем больше возвращаться к этому разговору. Мне нравится ваша привязанность к шефу, и вообще что-то есть в вашем сумасбродстве… Однако после катастрофы в Карае…
– Да, да… Ну что ж, пусть так.
– Как ребята из седьмого?
– Прелесть. Наивны и талантливы, как древнегреческие боги.
– Я улетаю до вечера, – сказала Марьяна, шагнув на круглую площадку подъемника. – Желаю вам хорошего дня.
И она нажала кнопку.
А ночью ей опять приснился Аркадий. Они шли по лугу, поросшему ромашками. Аркадий щипал цветок и что-то приговаривал. “О чем это вы?” – “Старинная считалка, бабка научила”. – “Ну-ка, ну-ка…” – “Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет – к черту пошлет…” – “Очаровательно! Как это, как?… Любит – не любит…” Было тихо и тепло, ромашки пахли тонко, как пыльца на крыльях бабочки, они сели на мягкую нагретую землю, Аркадий вдруг отбросил цветок. “Марьяна, мне хочется поговорить с вами всерьез о самом главном. Попробуйте понять меня. Ну катастрофа в Карае… Неужели вы думаете, что человечество навсегда гарантировано от жертв? Конечно, лучше, чтобы их не было, кто спорит! Но ведь мы все ходим по краю, мы вторгаемся в такое святая святых природы, что никаких гарантий нашей безопасности нет…” Лицо его было милым, искренним, слова, немые во сне, не звучали, а входили в нее просто тая, как входит солнце в кожу, и вместе с ними возникали сочувствие и непонятная радость. “А эти инструкции… Уже два века мы твердим, что человечество отвечает за каждого и каждый за человечество. В этом смысле нет разницы между мной и ученым советом. Так почему же я не могу сам решить судьбу эксперимента? Откуда такое недоверие? Если бы я был неграмотным ремесленником, мне бы не выдали диплома. А так… Я сказал вам неправду о шефе. Шеф очень культурно и талантливо скрывает от нас свое желание возвышаться недосягаемой вершиной, наша смелость его пугает, и тут инструкции за него…” Марьяна слушала, теребя лепестки, и его слова обволакивались смутным и резким, как толчки крови: “Любит – не любит, любит – не любит…” “Марьяна, а вы сами? Вы умница, ребята вас обожают, но ведь не одно чаепитие и руководящие указания составляют смысл вашего существования? А что вы можете?…” “Любит – не любит, любит – не любит… А как там дальше?… Плюнет… поцелует…” “Вы тоже раба инструкций, раба совета и еще двух советов. Между вами и человечеством – три совета, и это считается благоразумным, такая цензура мысли, души!…” “К сердцу прижмет – к черту пошлет… своей назовет… Смешной мальчик,, ужасно смешной ребенок. Кому он это говорит! Будто я думаю иначе. Помочь ему… Только я еще не готова. Не все ясно. В советах, конечно, полно старых дураков. Но безнадзорные молодые сумасброды… Вроде меня… Не такие уж мы сумасброды… Нет, не могу. Это слишком серьезно. Что-то мешает. Может, мы не доросли еще до всего этого…” “Может, мы не доросли еще до всего этого? Чепуха! Катастрофа в Карае произошла после того, как все планы были трижды утверждены и выверены. Ложные выводы из естественных событий…” Он взял ее за руку, она не отняла руки. “Марьяна! Мне так хотелось, чтобы вы поняли меня! Я уверен, вы согласитесь со мной! Разрешите мне эксперимент. Вы для этого знаете меня достаточно. А риск? Что ж риск! Я могу вам только сказать, что для жизни это не опасно. Если все получится…” – “А если не получится?” – “Получится! Да и не в этом дело. У меня не выйдет, выйдет у других. Важен принцип. К черту рутину! Марьяна, скажите, что вы согласны. Ну, Марьяна!…” Когда она проснулась, ее поразило только одно: никогда раньше она не слышала этого “любит – не любит…”.
Среду Марьяна провела в экспедиции в горах. Устала, слать легла поздно, ночью ей не снилось ничего.
На следующий день было совещание в седьмом отделе. Марьяна поздоровалась со всеми общим поклоном, но обрадовалась, увидев Аркадия около вакуум-камеры. Он стоял к ней спиной и что-то говорил монтажеру. Совещание закончилось быстро, под свист подъемников Марьяна весело прокричала Аркадию:
– Ну что, хорошо руковожу? Всех разогнала. Ребята из седьмого отдела отправились на два дня в горы.
Аркадий, покручивая цепочку с ключом от кара, проводил Марьяну до ее кабинета.
– В город? – спросила Марьяна.
– Да, в город. Может, составите компанию?
– Очень бы хотелось, но не могу. Через полчаса лечу в экспедицию. Если уж очень заскучаете, присоединяйтесь, но в общем-то не стоит, демонтаж… Вы знаете, Аркадий…
– Что? – спросил он напряженно, почувствовав в ее голосе что-то новое.
– Хочу вам сказать, что наш последний разговор меня как-то… В общем мне очень жалко, что ничем не могу помочь вам…
– Дайте красную полоску – и перестанете жалеть.
– Нет, об этом мы договорились твердо, исключено! Я не могу этого сделать. Хотя сердце мне подсказывает…
– А вы послушайтесь сердца.
Марьяна смутилась. Он смотрел на нее хорошо, открыто и немного грустно.
– Послушаюсь… После того, как вы напишете трактат “Физика и сердце”.
– Люди только этим и занимаются из века в век…
– Ладно, надо работать.
Марьяна вскочила на ступеньку эскалатора, отыскала пальцем знакомую до каждой выщерблинки кнопку, но вдруг, чтото вспомнив, окликнула Аркадия. Он медленно вернулся.
– Послушайте, вы случайно не знаете такого старого-старого стишка: “Любит – не любит…” – “Плюнет – поцелует, к сердцу прижмет…” Знаю, а что?
– Так, ничего, привязалось. Услышала где-то, а где – не могу вспомнить…
Она надавила на кнопку.
Ей хотелось, чтобы снова был сон. Она легла в постель с ожиданием этого, она внушала себе, чтобы сон приснился.
И приснился. На этот раз совсем беззвучный, безразговорный.
Сон был как кино: Марьяна отчетливо видела все, что происходило во сне, и вместе с тем она понимала, что это всего лишь сон, созданный ее собственным желанием, и, если ей очень захочется, он может вообще прекратиться или пойти как-нибудь иначе. Сон. был ее собственный, такой, какого она хотела, и потому очень славный, приятный сон.
Марьяна и Аркадий сидели на лавочке перед окнами лаборатории, слетали желтые осенние листья, пахло прелью и сыроватой землей. Окна были зашторены и еще загорожены ветками деревьев. Вечерело, солнце грело несильно, но ласково. Марьяна ощущала ладонью правой руки прохладную и твердую ладонь Аркадия. Все ликовало в ней. Так они сидели долго-долго, потом он обнял Марьяну и поцеловал тоже долгим, бесконечно долгим поцелуем. Ей трудно было оторваться от него, она боялась оторваться, потому что знала, чувствовала: сон сразу кончится. Сколько это длилось? Минуту? Час? Ночь? Трепетали падающие листья, колебался теплый воздух, подрагивали теплые губы, нежно и некрепко прижатые к губам.
Когда днем Аркадий, попросив по видеофону принять его, вошел в кабинет, Марьяна встретила его, сияя.
– Хорошее настроение?
– Отличное.
– А у меня вот наоборот.
– Ничего, сейчас переменится…
– Да нет… Завтра мне уезжать.
– Ну, вот видите, времени для эксперимента все равно нет.
– Будет, если вы разрешите! Позвоню в институт, вымолю, ну… ногу сломаю, черт возьми! Придумаю что-нибудь.
– Вы действительно уверены, что эксперимент ничем не грозит вам?
– Абсолютно.
– Разве что меня снимут с работы…
– Ну и черт с ней!… То есть, извините, я хотел сказать… Ну что вам эта механизированная кастрюлька? Поедем в Тулави, я читал ваш проспект, вы же практик, вам нужны масштабы, машины…
– Аркадий, дайте мне подумать до завтра.
– Идет!
– Я ничего не обещаю.
– Я надеюсь.
Они расстались, но чувство приподнятости, праздничности не проходило.
Ночью их разговор повторился с совершенной точностью.
Разница состояла лишь в том, что она согласилась. Когда он уже собирался растаять, Марьяна притянула его за руку и сама поцеловала.
Наступила суббота. Покончив до десяти с делами, Марьяна решительно нажала кнопку пульта внутренних связей и вызвала Аркадия. Ей ответил дежурный: Аркадия нет, еще не приходил, готовится к отъезду. “Странно”, – подумала Марьяна. Дежурный, не услышав никакого ответа на свое сообщение, стал нахваливать Аркадия:
– Ну и башка, нам бы такого парня! Нельзя ли его уговорить остаться? Хотя бы на месяц…
Но тут звякнул колокольчик, Марьяна кивнула, и вошел Аркадий.
– Здравствуйте. Скажу вам сразу: я согласна. Честно говоря, я сама давно об этом думала. Пусть все летит вверх тормашками, вы правы! Сколько вам надо денег?
– Марьяна, – сказал он, осторожно и как бы через силу опускаясь в кресло, – я от всего сердца благодарю вас, но мне ничего не нужно. Я пришел проститься.
– Как? А эксперимент?
– Состоялся. Все в порядке.
– Каким образом?
– Видите ли… Не сердитесь только, пожалуйста. Наш институт проверяет прибор для воздействия на человека в процессе сна…
– Что?!
– Только не подумайте ничего плохого! Программа была разработана и утверждена всеми… – Он усмехнулся. – Всемн тремя советами, и действовал я точно по программе. В мою задачу входило убедить вас дать вопреки инструкциям согласие на эксперимент… Вот. И точно по инструкции…
– Точно по инструкции?
– Да, разумеется. Пяткин и Селко были на контроле. Кстати, я должен поблагодарить вас от имени Ассоциации за зашу очередную огромную помощь науке. На состоянии здоровья это, думаю, никак не отразится, но в сентябре вас и еще группу участников эксперимента – он проводился одновременно в семи объектах – пригласят в Тулави на конгресс. Это, если не ошибаюсь, ваша третья работа для Ассоциации?
– Да, – рассеянно сказала Марьяна, – третья. Все это очень интересно…
Она еще не могла прийти в себя.
– Научное описание я вам оставляю, через пару дней пришлю техника и еще материал для ознакомления. Марьяна, милая, поверьте, что, хотя все законно и вы сами отдавали себе отчет, на что идете, вступая в Ассоциацию, но я чувствую себя по-идиотски! Сложна еще наша жизнь…
Марьяна в это время о чем-то думала.
– Марьяна, ну что вы? Скажите что-нибудь!
– Скажите, Аркадий, это вы мне набормотали “любит – не любит”?
– Я, и очень обрадовался, что сигнал дошел. Иначе до конца недели я находился бы в полном неведении…
Марьяна покраснела.
– Но вы не подумайте, что это мое собственное творчество! Считалку откопал шеф, вы найдете ее в описании… А любопытная штучка, из дремучего времени гаданий и верований невесть во что, но любопытная… Мало мы еще знаем о человеке.
Марьяна, наконец, решилась.
– Вы, наверное, очень устали, я не знаю технологии, но каждую ночь…
– Что вы, не каждую ночь! Сеансы велись три раза.
– В понедельник, вторник, пятницу?
– Вот видите, эксперимент действительно удался!
– Удался… Но о человеке – вы правы – мы еще, ох, как мало знаем! Немногим больше тех, с ромашками: “Любит – не любит…” Еще один вопрос. Вы внушали мне во сие решимость пренебречь инструкциями. Но, насколько мне помнится, речь шла об этом и наяву?
– Я действовал по программе, в мою задачу входило лишь усиление, на других участках эксперимент проводился несколько иначе, в двух случаях, насколько мне известно, прямое внушение, без какого-либо непосредственного контакта с объектом…
– Ну, а чем объяснить такой странный выбор темы?
– Совет-2 знаком с вашей докладной о работе лабораторий класса “Б”. Мы как бы подтолкнули ваши мысли к окончательному выводу, на который вы все еще не отваживались.
– А… как там вообще насчет инструкций и трех советов?
– Ой, что вы, Марьяночка! Все это хорошо для эксперимента, – Аркадий доверительно склонился к Марьяне через стол, – но в жизни… Вы представляете, какой будет кавардак, если дать лабораториям красную полоску?!
Увидев, что Марьяна нахмурилась, Аркадий растолковал это по-своему.
– Вам лично, мне кажется, ничто не грозит, пришлют ответ на докладную, и на том все кончится. Никаких неприятностей не будет! Вы железная, я это могу подтвердить, и если бы не прибор… Да и Ассоциация вас защитит. Вы ей нужны… А теперь, как ни печально, я должен проститься, меня ждут.
Аркадий встал и протянул Марьяне руку.
– А как же…
– Что?
– Нет, ничего… До свидания, до сентября. Я давно не была в Тулави. А ведь и тут у нас неплохо, правда? Особенно сад. И скамейка под дубом – напротив моих окон…
– В сад не удосужился заскочить. Значит, обязательно еще вернусь сюда и на скамеечке вашей посижу… Извините еще раз и – спасибо!
– Ну, спокойного неба, коли так. Только еще одно. Я все это время была о вас лучшего мнения, чем сейчас. Знайте это.
Мне даже грустно. Тот парень, который посылал к черту инструкции и даже ногу готов был сломать… Тот парень нравился мне больше. Вот что я вам хотела сказать.
– Ах, Марьяночка, удивительный вы человек. Я бы сказал – не современный. Но это прелестно!
Когда за Аркадием захлопнулась дверь, Марьяна стала ругаться вполне современно.
Герман МАКСИМОВ Последний порог
“По приказу Лак-Иффар-ши Яста был воздвигнут
Дом смерти, который существовал полтора периода.
Если линз, носящий красный знак совершеннолетия,
желал прервать нить своей жизни, он приходил туда.
И больше его никто не видел…
Этот дом построил механик по имени Велт.
Он же его и разрушил”.
(“И с т о р и я планеты С им-Кри”, список 76, раздел 491)
“Окончательно ли твое решение?”
Надпись шла через всю дверь справа налево. Покрытые некогда желтым олином, буквы облупились и потемнели. Всепроникающая пыль осела на них тонкой коростой. Одетые в пластик металлические косяки были испещрены торопливыми надписями. Их оставили те, кто вошел в эту дверь, чтобы никогда больше не вернуться. В углу громоздилась куча вещей, брошенных тысячами прошедших здесь: аппараты, показывающие время, браслеты, металлические коробочки для зерен кана. “Окончательно ли твое решение?” На вопрос нужно было ответить. Всего одним словом.
Велт секунду помедлил, пытаясь унять разбушевавшееся сердце, и чуть слышно выдохнул:
– Да.
Дверь не шелохнулась. Зеленый глаз объектива настороженно следил за каждым движением линга. В полутемном тоннеле пахло сыростью. Тускло светила заросшая паутиной лампа. В застоявшемся воздухе висела безжизненная тишина.
Только где-то далеко-далеко на кольцевой дороге погромыхивали одноместные хитоплатформы: трак, трак, трак… Помимо воли Велт, напрягая слух, ловил эти слабые звуки, пробившиеся в подземелье с поверхности. В них было движение, а значит – жизнь. Трак, трак, трак – словно кто-то безжалостный вбивал звуки-гвозди в голову, в грудь, в сердце. Велт стоял, слушал далекие звуки жизни и чувствовал, что в нем почти не осталось уверенности. Вот сейчас он попятится, повернется спиной к страшной двери и побежит. Побежит, подгоняемый ужасом. И будет бежать до тех пор, пока сердце не захлебнется кровью, пока он не почувствует запаха теплой земли, упав на обласканную солнцем траву.
А потом? Потом возврат к прошлому. Пока он здесь, угрызения совести, кошмары наяву, ночи, наполненные тяжелыми, как камни, думами, – это прошлое. Слезы матерей, холодная ненависть отцов и братьев, последние проклятия тех, перед кем открылись эта и двадцать других дверей Дома смерти, – это прошлое. Пока он здесь. Но вместе с дневным светом, вместе с жизнью вернется и все это. И родится новое – презрение к себе за минуту слабости.
Велт протянул руку и коснулся выпуклых облупившихся букв. Они были холодными и шероховатыми: “Окончательно ли твое решение?”
– Да! – четко и громко выговорил он, хотя каждая клеточка его тела, каждый нерв кричали “Нет!”. – Да!
Стальная плита бесшумно скользнула вверх, открывая проход. В тоннель выплеснулся холодный свет. Велт оторвал от земли непослушные ноги и вошел в светлый проем. За спиной тяжелая дверь мягко опустилась на место.
Размер помещения нельзя было угадать. Оно виделось одновременно и бесконечно огромным и бесконечно малым. Таким его делали зеркала. Пространство, спертое и многократно отраженное зеркальными гранями стен, плитами пола и потолка, воспринималось как иллюзия. Казалось, даже время, устав метаться от стены к стене, остановилось и загустело, отброшенное в центр комнаты Последней Исповеди. И отовсюду на Велта смотрели его отражения – тысячи Велтов с худыми лицами и растерянными глазами. Неуклюжими, бесплотными толпами теснились они за гладью стен; перегнувшись, свешивались с потолка; корчились под ногами, будто вплавленные в пол. Велт был один на один с собой. Зеркала раздробили его на множество осколков, и с каждым из них – он чувствовал это почти осязаемо – от него отделилась минута его жизни, капля его снов, мимолетность его надежд. В нем самом осталось так мало, что ни жалеть, ни бояться уже не стоило. И это ощущение пустоты, образовавшейся вдруг внутри, переросло в равнодушное спокойствие. Спокойствие обреченного. Велт прошел в угол и опустился в единственное кресло, стоящее у низкого металлического столика. Кресло было продавленное и потертое.
И сейчас же заговорила машина-исповедник:
– Жизнь уйдет, но не погаснет священный костер великого Чимпа, – произнесла машина ритуальную формулу. – Кто ты, переступивший последний порог?
Голос у нее был мягкий и тихий и такой знакомый, что Велт вздрогнул и невольно оглянулся, ища ту единственную, которой мог принадлежать этот голос. Чувства лгали – комната была пуста, лишь тысячи безмолвных отражений ловили его взгляд. Чувства лгали, но он не мог и не хотел противиться этому обману. Он откинулся на спинку кресла и нырнул в бездонный омут памяти. Холодные плиты пола рассыпались, превратившись в мягкую и теплую пыль проселочной дороги, а сам он стал совсем маленьким мальчишкой в коротеньком, до поцарапанных колен, ати; и мать звала его, и он бежал к дому вприпрыжку, взбивая фонтаны пыли.
– Кто ты?
Он подбежал, с размаху обнял ее и уткнулся лицом в теплый мягкий живот. А она гладила его по взъерошенной голове и что-то говорила. Он не мог вспомнить что, но слова были ласковые и немножко грустные.
– Кто ты?
Усилием воли он стряхнул оцепенение. Призраки прошлого растаяли и исчезли. Детство утонуло в омуте времени.
– Я – Велт-Нипра-ма Гуллит, механик, почетный линг Сим-Кри.
– Где и когда ты родился?
– В селении Ихт, что на седьмом узле Большого канала, в Год цветения голубой рэи. Это было четыре периода и семь оборотов назад.
Минуту машина молчала, будто взвешивая услышанное.
Потом в динамике, спрятанном под куполом потолка, что-то хрипнуло, задребезжало, и механический исповедник… запел.
У маленького линга Двенадцать бед.
Смеется он, Но вы ему не верьте…
Машина пела грубым старческим голосом, залихватски выкрикивая отдельные слова. Исступленность, животный страх, отчаяние, бесшабашность – все эти чувства смешались в хриплом потоке песни, рвущейся из механической глотки. В утробе машины хрустело, взвизгивало, скрипело, словно кто-то невидимый разъезжал на дорожном катке по битому стеклу.
Велта будто ударили в подбородок. Он вскочил и уставился в потолок расширившимися от ужаса глазами. Одновременно вскочили и задрали головы кверху тысячи его отражений. Машина пела. Это было неожиданно и дико. Это было как в бреду. Она может молиться вместе с готовящимся к смерти, плакать с ним, утешать его. Но петь она не должна. Он знал это хорошо.
У него другого дома нет,
Кроме Дома смерти…
Машина оборвала песню и официальным тоном чиновника спросила:
– Ты простился с теми, с кем связан кровью?
Велт не мог говорить, у него дрожали губы. Он стоял посреди комнаты и видел, как в этом зеркальном склепе мечутся обреченные, как, обезумев от ужаса, они бьют кулаками в стальную дверь, забыв, что она не может открыться, пока они живы. А взбесившаяся машина распевает уличные песенки вперемешку со священными псалмами. Исповедь, превращенная в пытку.
– Но как я мог узнать, что она испортилась? – словно оправдываясь перед глядящими на него отражениями, сказал он вслух. – Как я мог узнать?
Отражения молчали. Велт пошарил в кармане, вытащил наркотик и бросил в рот. Наркотик подействовал сразу; легкая пелена затуманила сознание, спало нервное напряжение, расслабились мышцы.
– Как я мог узнать? – повторил он, опускаясь в кресло.
– Ты простился с родными?
– У меня нет родных, – устало отозвался Велт, – я последний из рода Гуллит.
– С друзьями?
– Сим-Кри оскудела честными лингами.
– Друг, подруга, друзья, – сказала машина, – подружиться, дружить, дружба… Кому я должна послать извещение?
– Верховному Держателю. Он будет доволен.
Да, Верховный будет доволен. Он не умеет прощать оскорблений. А письмо, которое послал ему Велт, было требовательно и потому оскорбительно для деспота. Воображение, подстегнутое наркотиком, услужливо развернуло картину: толстый коротышка Лак-Иффар-ши Яст вертит в руках Квадратик черного картона с выбитым на нем знаком Дома смерти и его, Велта, именем. Потом поворачивается к сопровождающим его чиновникам и с деланной скорбью говорит: “Какая потеря, наш лучший механик Велт покончил с собой”. – “Этого следовало ожидать, – откликнется кто-нибудь из чиновников, скорей всего, это скажет долговязый Кут-Му, – последнее время он вел себя несколько странно”. И все улыбнутся.
Едва заметно, чтобы не нарушать приличий.
– Что сделал ты в жизни хорошего?
Машина-исповедник успокоилась, будто тоже пожевала красных зерен кана. Голос ее снова звучал мягко и проникновенно, хотя в нем все еще проскальзывали нотки скрытого беспокойства.
Велт пожал плечами, забыв, что машина не поймет этот жест. Сделал ли он что-то хорошее? Наверное, сделал. Трудно прожить четыре долгих периода, не сделав ничего стоящего.
Что же все-таки? Велт закрыл глаза – так легче вспоминать.
Ну, например, он сконструировал “жесткую тригу” – целую систему машин, позволившую добраться до богатств Второго материала. Это хорошо; иначе разве поставили бы его изваяние на берегу Белого озера рядом с изваяниями великих мыслителей и механиков Сим-Кри? Он открыл Закон волны. Его труд оценили – он стал триста семьдесят шестым почетным лингом Планеты. Он поставил колоссальный эксперимент с летающими дарнами и победил в споре с догматиками, заведшими в тупик науку о Вещах. Но главное не это. Он просто ходит вокруг, пытаясь обмануть себя. Главное…
– Я создал тебя!
– Меня?
– Да. Тебя и весь Дом смерти.
Молчание длилось целую вечность. Машина обдумывала услышанное.
– Ты говоришь правду?
– На исповеди не лгут.
– Лгут, – сказала машина убежденно.
– Но я говорю правду. Я, механик Велт из рода Гуллит, построил этот Дом.
– Хорошо, – примирительно сказала машина, – если это так, ты должен знать, что тебя ждет.
– Знаю.
– Расскажи.
Велт вяло усмехнулся: “Проверяет. Как учитель завравшегося школьника”.
– Когда кончится исповедь, ты откроешь дверь на Лестницу. Сорок две ступени. Одна из них – не знаю, какую ты выберешь на этот раз, – несет заряд энергии. Внезапный шок, и уже не живого, но еще и не мертвого ты сбросишь меня в бассейн с раствором куатра. Через семь секунд от почетного линга ничего не останется.
– Останутся пуговицы из пластика, – огорченно, как показалось Велту, сказала машина, – они не растворяются. Из-за этого я уже трижды чистила отводные трубы.
Велту вдруг стало весело. Ему стало так весело, как никогда в жизни. Его просто распирало от веселья. Он чувствовал, как из груди к горлу, из горла к губам катится щекочущий клубок смеха. У нее, оказывается, есть заботы! Пуговицы из пластика. Она чистит трубы и при этом, наверное, ворчит, как старуха, латающая старое эти внука. Ей плевать на судьбы тех, кто ежедневно стучится в двери дома, ей нет до них никакого дела… Если только пуговицы у них не из пластика.
– Ты смеешься, – сказала машина, – это бывает со многими. Я понимаю – нервы.
В динамике снова что-то всхлипнуло. Там, внутри, шла какая-то непонятная борьба. Неясные звуки – бормотание, присвистывание, сипение – рвались наружу. Следующий вопрос машина почти выкрикнула, стараясь пересилить шум.
– А теперь скажи, что сделал ты в жизни плохого?
Шум нарастал. Звуки накатывались волнами и, наконец, выплеснулись в комнату. Они заполнили ее до отказа, они кричали о чем-то своем и бились о зеркальный лед стен.
И вдруг наступила тишина. Звуки умерли мгновенно. Только одинокий гонг отсчитывал медные удары.
– Они всегда так, – сказала машина, – им не лежится в Хранилище.
– Кому? – недоуменно спросил Велт.
– Схемам, которые я снимаю с каждого после исповеди. Их накопилось слишком много, и они всегда стараются проскочить в речевой контур. Иногда я даже не могу с ними справиться, и они кричат через динамик. Но ты не ответил на вопрос.
– Да, – сказал Велт, – плохое я тоже сделал.
– Что?
– Создал тебя.
– Не понимаю, – сказала машина, – ты противоречишь себе. Только что ты назвал это дело хорошим.
– Хорошее может быть плохим, а плохое – хорошим.
– Это противно логике.
– Но это так.
– Я не могу понять, – сказала машина. – Я устала. Каждый линг – это задача, а у меня отказали два блока в решающем устройстве.
– Ты не поймешь, если даже у тебя будет тысяча исправных блоков вместо шести.
– Но я хочу понять.
Велт нащупал в кармане последнее зернышко кана. Глупая машина. Что она, собственно, хочет понять? Жизнь?
Но жизнь выше логики. Любовь и ненависть, радость и горе, счастье и разочарование – разве можно решить эти уравнения без ошибки? Кто определит, где кончается одно и начинается другое? В дебрях чувств и мыслей так же легко заблудиться, как в лесах Катоны. И блуждать всю жизнь. Как он, Велт. И выйти, наконец, на дорогу и понять, что она ведет к Дому смерти. Глупая машина.
– Я хочу понять, – повторила машина.
– Что? – спросил Велт.
Он нагнулся над столом и нажал кнопку, торчащую сбоку желтым бугорком. В центре стола откинулась круглая крышка, и но трубе-ножке автомат подал кверху высокую узкую чашу, до краев наполненную соком винных плодов и дерева тук.
– Почему ты сказал, что, создав меня, ты поступил хорошо?
Велт сделал первый глоток и прислушался к себе, ожидая того момента, когда приятное тепло опьянения начнет разливаться по телу.
– Я был убежден, что делаю нужное и хорошее. Я считал, что дом поможет лингам…, – Умирать?
– …жить.
– Не понимаю.
Ну, конечно. Бесполезно объяснять это машине. Разве она поймет, что истинная свобода – это прежде всего свобода распоряжаться своей жизнью? Почему линг должен жить, если он этого уже не хочет? Разве нельзя последовать примеру святого Чимпо, который, окончив свои дела и видя, что его жизнь больше никому не нужна, взошел на костер? Так считал он, лучший механик Планеты, когда вынашивал проект, так он считал и некоторое время после того, как Дом был построен. И его постоянно поддерживали и укрепляли в этой мысли. Сам Верховный Держатель много раз беседовал с Велтом на эту тему. Он говорил о кризисе, вот уже шестой период подтачивающем экономику Планеты. Он говорил о миллионах безработных, которые хотели бы покончить самоубийством, но не решаются на это, опасаясь, что похороны будут стоить слишком дорого. Для таких Дом смерти – благодеяние.
А старики? Те беспомощные старики с трясущимися руками и ничего не выражающим взглядом? Они камень на шее своей семьи, лишние рты, объедающие общество. “Когда я стану стар, – говорил Лак-Иффар, – и мои руки устанут держать Священный жезл, я сам приду в Дом смерти”. И еще он говорил: “Линг, потерявший интерес к жизни, но продолжающий жить, не только бесполезен, но и вреден для общества. Такие – основа беспорядка: им не дорога своя жизнь, и потому они не ценят чужие. Сорок два сословия, на которые разделено наше разумно устроенное общество, – это лестница, по ступеням которой поколения входят в историю. И каждая последующая ступень этой лестницы опирается на предыдущую. Потерявшие интерес расшатывают основы нашего строя, надеясь, что лестница рухнет им на голову. Они хотят умереть, и мы должны им помочь”. Велт согласно кивал головой и удивлялся мудрости и гуманности Держателя.







