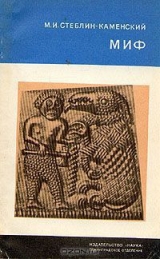
Текст книги "Миф"
Автор книги: Михаил Стеблин-Каменский
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
М. И. Стеблин – Каменский
Миф
Источник: М. И. Стеблин – Каменский. Миф. – Ленинград, «Наука», 1976. – Академия Наук СССР. Серия «Из истории мировой культуры». Тираж 40000
Предисловие
Что такое миф? Автор начинает с рассмотрения известных ему теорий мифа и приходит к выводу, что нельзя ответить на этот вопрос, не определив предварительно место мифа в истории человеческого сознания, и что, следовательно, мифы надо изучать с точки зрения отражения в них этого сознания (глава Теории мифа). В соответствии с этим выводом автор обращается к некоторым частным аспектам сознания – представлениям о пространстве и времени и представлениям о личности – и их отражениям в некоторых конкретных, а именно в эддических, т. е. древнеисландских, мифах (главы Пространство и время в эддических мифах и Личность в эддических мифах). Однако в заключение автор решается обратиться и к общему вопросу – месту мифа в истории человеческого сознания и, следовательно, к самой этой истории (глава Миф и становление личности). Этот краткий обзор содержания книжки объяснит читателю, почему она состоит из названных выше частей.
Автор обращается к широкому кругу читателей. В книжке нет сносок, или, вернее, все они отнесены в конец, в примечания. Это сделано для удобства тех ученых специалистов, которых интересуют в первую очередь именно библиографические сведения.
Теории мифа[1]
Нет такой нелепости или такого абсурда, о которых те или иные философы не утверждали бы, что это – истина.
Джонатан Свифт
Несмотря на то что исследованием мифов занимается целый ряд наук – литературоведение и фольклористика, этнография и антропология, наука о мифах и наука о религии – и что существует обширнейшая литература о мифе, основное в нем остается загадочным. Бесспорно в отношении мифа только одно: миф – это повествование, которое там, где оно возникало и бытовало, принималось за правду, как бы оно ни было неправдоподобно. Почему же, однако, раз то, о чем рассказывалось в этом повествовании, было явно неправдоподобно, оно принималось за правду? На этот вопрос, в сущности основной для понимания того, что такое миф, до сих пор не было найдено сколько–нибудь удовлетворительного ответа. Между тем если неизвестно, почему то, о чем рассказывалось в мифе, принималось за реальные факты, то неизвестно, и почему возникали мифы, что было их предпосылкой в сознании людей и т. д.
Но если для тех, среди кого миф возникал и бытовал, то, о чем рассказывалось в нем, было реальностью, если, следовательно, для них персонажи мифа или события, о которых в нем говорилось, были такими же реальными, как существа или события объективной действительности, то тогда существа или события, о которых рассказывалось, не могли, очевидно, «значить» что–то, т. е. быть условными обозначениями, знаками или символами чего–то. Ведь не может, например, существо, воспринимаемое как реально существующее, в то же время восприниматься как существующее только в качестве обозначения, знака или символа чего–то, т. е. как что–то придуманное. Так, не может живой человек быть аллегорией справедливости, художественным воплощением идеи долга, символом чувства ответственности и т. п. Вернее, он может стать всем этим только как персонаж художественного произведения. Но тогда он – продукт художественного творчества, осознаваемый как таковой, а не живой человек.
Тем не менее до сих пор изучение мифов сплошь и рядом сводится к попыткам установить, что тот или иной миф «значит», т. е. к толкованиям мифических персонажей или мифических событий как условных обозначений, знаков или символов чего–то. Спрашивается, неужели же тем, кто изучает мифы, неизвестно, что то, о чем рассказывалось в мифах, принималось за реальность, т. е., попросту говоря, что в мифы верили? Неужели же те, кто изучает мифы, не понимают, что толковать мифических персонажей или мифические события как условные обозначения, знаки или символы можно, только если игнорировать основное в мифе – то, что он принимался за повествование вполне достоверное?
Дело тут, по–видимому, вот в чем. Тот, кто изучает мифы, в них, конечно, не верит. Он поэтому не может не воспринимать их как вымысел. Но тем самым он подставляет свое собственное сознание, т. о. сознание, для которого миф – это только вымысел, на место сознания, для которого содержание мифа было реальностью. Другими словами, тот, кто изучает мифы, всегда имеет дело не с мифами, т. е. вымыслом, который осознается как реальность и поэтому пе может ничего «значить», а только с тем, что было когда–то мифами, но в результате подстановки современного сознания на место мифического превратилось в нечто совершенно отличное от мифа и даже противоположное ему, а именно – в вымысел, который осознается как вымысел и поэтому вполне может что–то «значить». По–видимому, понять миф, т. е. воспринять его так, как его воспринимали те, среди кого он возникал и бытовал, в современном обществе может только ребенок, да и то только такой, который свои фантазии принимает за реальность. Одно дело – изучать, другое – понимать.
В то время, к которому относятся древнейшие толкования мифов, т. е. толкования греческих мифов греческими философами, мифы уже не считались повествованиями достоверными. Мало того, казалось невозможным, чтобы они когда–либо принимались за таковые: слишком много было в них неправдоподобного и несообразного. Они поэтому казались просто вымыслом, сочиненным каким–то автором с той или иной целью. Таким образом, сущность мифа – то, что пока он был мифом в собственном смысле слова, он принимался за правду, как бы он ни был неправдоподобен, – оставалась непонятой. Она оставалась непонятой на протяжении всей античности, а также и в новое время вплоть до эпохи романтизма. Непонятым оставалось и то, что возможно творчество – в эпоху романтизма оно получило название «народного», – которое подразумевает неосознанное авторство, и что, таким образом, возможны произведения, за которыми не стоит никакой индивидуальный автор.
Неудивительно поэтому, что греческие философы толковали мифы как аллегории, придуманные какими–то авторами, пожелавшими прибегнуть к иносказанию. Так, Эмпедокл – он жил в V в. до н. э. – утверждал, что Зевс – это аллегория огня, Гера – воздуха, Гадес – земли, а Нестис (местная сицилийская богиня) – влаги. Множество аналогичных толкований гомеровских богов и богинь было предложено другими греческими философами. Зевс также толковался как небо, Посейдон – как море, Артемида – как луна, Аполлон и Гефест – как огонь и т. п. Боги и богини толковались также как качества или отвлеченные понятия. Так, Анаксагор толковал Зевса как разум, Афину – как искусство и т. п. Аллегорические толкования давались и целым мифам. Например, миф о Кроносе (титане, который проглатывал своих детей тотчас после их рождения) и его жене Рее толковался так: Кронос – это время, а Рея – это земля, она может рожать только с помощью времени, но то, что она рожает, сразу же проглатывается всепожирающим временем. Мифы толковались также как иносказательные нравоучения. Например, мифы, в которых бог или богиня нарушают супружескую верность, толковались как поучения в том, что нарушать ее не следует. Аналогичные толкования мифов Илиады и Одиссеи есть у Плутарха. В мифы вчитывались также аллегории философских концепций. Так, неоплатоники вчитывали в мифы аллегории учения о переселении душ.[2]
К аллегорическим толкованиям античных мифов прибегали и в последующие века. В средние века к ним прибегали в связи с интересом к Овидию и Вергилию, латинским авторам, произведения которых изобилуют мифологическими именами. Боккаччо занимался аллегорическим толкованием античных мифов в своей книге «Генеалогия богов». В эпоху гуманизма было принято толковать античные мифы как моральные аллегории или иносказательные изображения человеческих чувств. Бэкон в своей книге «Мудрость древних» дал ряд толкований античных мифов как аллегорий философских истин. Аналогичные толкования античных мифов предлагались и позднее. Однако ничего принципиально нового не было внесено в понимание мифов вплоть до эпохи романтизма: сущность мифа, т. е. то, что, пока он был мифом в собственном смысле слова, он принимался за правду, как бы он ни был неправдоподобен, оставалась все так же непонятой.
Почти одновременно с толкованиями мифов как аллегорий или иносказаний появились и их «эвгемеристические» толкования, как они обычно называются по имени Эвгемера, греческого автора IV–III вв. до н. э. Эвгемер в своем несохранившемся произведении толковал богов как древних правителей, которые сами себя обожествили или были обожествлены своими современниками или потомками. Эвгемеристические толкования мифов появились еще до Эвгемера: Геродот толковал богов как обожествленных исторических лиц, а мифы – как отражения исторических событий. Эвгемеристические толкования античных мифов стали впоследствии обычными у христианских авторов и широко применялись на протяжении всех средних веков. Эвгемеристические толкования были применены, в частности, и к древнескандинавским мифам, когда они попали в поле зрения христианских авторов. Саксон Грамматик, датский клирик, живший во второй половине XII – начале XIII в., в своем знаменитом произведении «Деяния датчан» трактует древнескандинавских богов Бальдра и Хёда как персонажей героического романа. У Саксона Хёд (он называет его Хотерус) – сын шведского короля, а Нанна – дочь норвежского короля (в мифе она жена Бальдра) и т. д. Еще в конце XVIII в. датский историк Сум трактует древнескандинавских богов как военачальников, пришедших с Востока в Данию и там обожествленных. Эвгемеристически толкуются языческие боги и в «Младшей Эдде». Однако, несмотря на то что христианство было принято в Исландии как официальная религия за два с четвертью века до того, как была написана «Младшая Эдда» (она датируется ок. 1225 г.), сквозь эвгемеристическую трактовку языческих богов здесь все же просвечивает вера в их реальность.
Как и во многих других областях духовной жизни, в изучении мифа романтизм открыл новую страницу. И как во многих других областях, в изучении мифа до сих пор разрабатывается многое из того, что начали разрабатывать романтики. Сущность романтического открытия мифа заключалась в том, что несостоятельность всех старых толкований мифов вдруг стала очевидной. Мифы были осознаны как Правда (с большой буквы) и как создание Народа (тоже с большой буквы) и в силу этого стали объектом восхищения и поклонения. Но что такое «Правда» в понимании романтиков? Окутанное романтическим туманом, это понятие (так же как и понятие «Народ») было крайне нечетко. С одной стороны, было понято, наконец, что мифы – это правда в том смысле, что их принимали за правду те, кто их создавал и среди кого они бытовали. Такое понимание было большим прогрессом по сравнению с доромантическим. С другой стороны, однако, казалось, что мифы – это правда в том смысле, что они – поэзия (а в понимании многих романтиков поэзия – это и есть Правда) или религия (а в понимании многих романтиков религия – это и есть Правда, точно так же как природа, – это и есть бог). Но такое понимание мифов было в сущности возвратом к доромантическому: если мифы – это поэтические образы, то надо искать, что эти образы изображают или что они значат, а если мифы – это религия, то надо искать религиозные истины, скрытые в них. Но таким образом игнорировалось, что для тех, кто создавал мифы и среди кого они бытовали, содержание мифов было самой реальностью, а не поэтическим изображением какой–то реальности или символами каких–то истин.
Из всех романтиков только Шеллинг, знаменитый предшественник Гегеля, толковал сущность мифа непротиворечиво. Развивая в «Философии мифологии» свою грандиозную, но совершенно фантастическую концепцию происхождения всякой мифологии из абсолютного тождества божества, т. е. из монотеизма, он вместе с тем был первым, кто отверг понимание мифологии как поэтического или философского вымысла. Он настаивал на необходимости понимания мифологии «изнутри», т. е. как самостоятельного мира, который должен быть понят в соответствии с его собственными внутренними законами.[3] Эту концепцию Шеллинга развил в нашем веке философ–неокантианец Кассирер, много писавший о мифе (правда, в понимании Кассирера миф – это не только миф в собственном смысле слова, но также и религия, магия и т. д.). Кассирер тоже отвергает понимание мифа как аллегории, символа, образа или знака и утверждает, что поскольку миф является сознанию как «полностью объективная реальность», он, следовательно, исключает различие знака и его значения, образа и вещи, которую образ изображает, т. е., в терминах языкознания, – различие означающего и означаемого. Однако посредством явного софизма из отсутствия этого различия Кассирер тут же выводит его наличие: в мифе, говорит он, образ не изображает вещь, он и есть вещь, знак и значение образуют «непосредственное единство», т. е. знак и есть значение, означающее и есть означаемое.[4] Какие же они, однако, означающее и означаемое, если между ними нет различия?
Наличие знака и значения, означающего и означаемого в мифе нужно Кассиреру для того, чтобы сохранялась аналогия мифа с языком, на которой Кассирер, слепо следуя идее Канта, настаивает. Эта аналогия поддерживается в изложении Кассирера тем, что на поздних стадиях развития религии мифы действительно могут истолковываться как символы и тем самым распадаться на означающее и означаемое. Этот процесс вырождения мифа особенно очевиден в средневековом христианском богословии. В нем не только религиозные мифы, но и вся объективная действительность толковалась символически. Но ведь в том–то и дело, что миф, толкуемый символически, утрачивает то, что делает миф мифом, – осознание его содержания как полностью объективной реальности. Так что аналогия мифа с языком, на которой настаивает Кассирер, приобретает смысл только в той мере, в какой миф перестает быть в собственном смысле слова мифом. Характерное для средневекового богословия постулирование «внутренней», «высшей», «божественной» реальности, скрывающейся за «внешней» реальностью, в частности, и за внешней реальностью христианского мифа, – это, таким образом, как бы попытка спасти для мифа утраченную им реальность.
Более последовательно, чем Кассирер, толковал отношение мифа и символа Вундт, известный немецкий психолог и философ: миф и символ, говорит он, это начало и конец религиозного развития, ибо пока миф жив, он – действительность, а не символ религиозной идеи.[5]
Попытки некоторых романтиков вскрыть в древних мифах религиозные или философские концепции не имели успеха и не оказали заметного влияния на дальнейшее развитие науки о мифах. Но романтические толкования мифов как поэзии оказали огромное влияние на дальнейшее развитие науки о мифах и вообще на понимание того, что такое миф. Конечно, романтики просто вчитывали в древние мифы свое собственное восприятие, подставляли сознание поэта–романтика на место древнего сознания. Их толкования мифов и были в сущности вовсе не толкованиями в собственном смысле этого слова, а просто поэтическими описаниями природы с помощью мифов. «Мифы могут быть правильно поняты только поэтом», – сказал немецкий поэт–романтик Уланд в своей вдохновенной книге о древнескандинавском боге Торе.[6] Действительно, когда не поэты, а ученые стали толковать мифы как поэтические описания природы, а древних богов как олицетворения небесных светил, то эти толкования (так называемая «натурмифология») были, как правило, просто бездарной поэзией, выдаваемой за науку. Натурмифология получила наибольшее распространение в Германии. Но самой влиятельной фигурой натурмифологической школы был Макс Мюллер, немецкий профессор, обосновавшийся на всю жизнь в Оксфордском университете. Макс Мюллер был набожным и сентиментальным лютеранином, и древние мифы его очень шокировали. «Можно ли представить себе нечто глупее, грубее, бессмысленнее, нечто более нестоящее того, чтобы привлечь наше внимание хоть на одно мгновение?» – говорит он по поводу уже упоминавшегося греческого мифа о Кроносе (Кронос оскопляет своего отца, чтобы выйти из чрева матери, а потом проглатывает своих собственных детей тотчас после их рождения). Но, говорит Мюллер дальше, мифология, «конечно, не значит того, что она как будто значит». И для установления того, что миф «значит», Мюллер сочетает натурмифологическое толкование с теорией, согласно которой миф – это своего рода болезнь языка (Мюллер был очень эрудированным лингвистом и переносил лингвистические методы в науку о мифах). Так, толкуя греческий миф о Дафне, девушке, превращенной в лавровый куст (Дафна – греческое слово, которое и значит «лавровый куст»), когда она спасалась от преследований влюбившегося в нее Аполлона, Мюллер привлекает санскритское слово, этимологически соответствующее греческому, но со значением «утренняя заря». Первоначально, заключает Мюллер, это было значением и греческого слова, и, следовательно, Дафна – это олицетворение утренней зари. Получается красивая картина природы: появление утренней зари (Дафны), потом – солнца (Аполлона) и, наконец, исчезновение зари в земле (превращение Дафны в лавровый куст).[7]
Картины природы и мюллеровских толкованиях мифов получались всегда вполне благопристойными, но довольно однообразными. Дело в том, что он принадлежал к солярной ветви натурмифологической школы, т. е. он сводил все мифы к олицетворениям солнца. Была также лунарная ветвь этой школы. Натурмифологи этой ветви сводили все мифы к олицетворениям луны. Были и другие ветви: мифы сводились к олицетворениям облаков, бурь, грома и молния и т. д. Натурмифологические теории исповедовались некоторыми учеными еще и в нашем веке. В 1900 г. в Берлине было основано общество для изучения мифов с точки зрения лунарной теории. Одним из последователей этой теории в 1910 г. была опубликована капитальная монография под названием «Всеобщая мифология и ее этнологические основы»,[8] в которой с огромной эрудицией обосновывается лунарная теория и соответственно толкуются мифы всех народов. Оказывается, например, что Пенелопа со своими женихами – это луна среди звезд; Гиацинт, убитый Аполлоном, – это луна, затемненная солнцем; ящик Пандоры – «лунный ящик» и т. д. и т. п. Однако автор названной монографии был умеренным лунаристом. Он признавал, что иногда встречаются и нелунные мифы, и высказывал свое несогласие с теми лунаристами, которые категорически утверждали что не существует мифа, относительно которого можно было бы доказать, что он не лунный.
Среди тех, кто занимается мифами, натурмифологические штудии и сам Макс Мюллер давно стали излюбленным объектом насмешек. Автор настоящей книжки боится, что не избежал влияния этой тенденции, и сожалеет, если в его трактовке натурмифологов проскользнула ироническая нота. Дело в том, что мифологи, пришедшие на смену натурмифологам и занявшие критическую позицию по отношению к ним, продолжали заниматься в сущности абсолютно тем же, чем занимались натурмифологи, а именно старались определить, что тот или иной миф «значит», вскрыть его «смысл», т. е. вчитать в него свое понимание, тем самым игнорируя то, что пока миф был мифом в собственном смысле слова, его персонажи были просто реальностями, а не обозначениями каких–то реальностей. Очень многие мифологи и теперь продолжают заниматься такими толкованиями. Но тем, что персонажи мифа «значат», у преемников натур–мифологов могут быть не только небесные тела или явления природы, но и те или иные качества, силы, идеи и вообще все что угодно, например тот или иной социальный статус. Впрочем, такие толкования позволяли себе иногда и натурмифологи. Так, согласно одному старинному натурмифологическому «Ключу к Эдде», три древнескандинавских бога – Один, Вили и Ве – это три мировых закона, а именно законы тяжести, движения и сродства.[9] Это толкование давно забыто, и если его и вспоминают иногда, то только для того, чтобы его осмеять. Но чем оно хуже одного современного толкования, которое считается одним из крупнейших достижений современной науки о мифах и состоит в том, что три других древнескандинавских бога – Один, Тор и Фрейр – это три социальных статуса, а именно статусы жреца, воина и земледельца?[10]
Натурмифологи ставили жесткие границы своим толкованиям, стремились к методологической последовательности (если уж нашел солнце, то находи его всюду; если уж нашел луну, то находи ее всюду, и т. д.). Их преемники были менее последовательны и не стремились к методологической строгости – вот и вся разница. В сущности в своем стремлении к строгости метода натурмифологи предвосхищали структуралистов, которые тоже большое значение придают строгости метода (если уж нашел структуру, то находи ее всюду, и т. д.). В частности, Макс Мюллер, перенося лингвистические методы в науку о мифах, явно предвосхищал Леви – Стросса, самого выдающегося из современных мифологов. Разница между Максом Мюллером и Леви – Строссом в основном в том, что первый превосходно знал языки, на которых сохранились древние мифы, и в совершенстве владел лингвистическими методами своего времени, между тем как второй работает с мифами не в оригинале, а в переводе, и хотя он очень широко использует лингвистические термины, но обычно не в их собственном значении (ср. ниже).
Толкование мифов издавна заключалось не только в попытках установить, что данный миф значит, но также и в попытках найти параллель к данному мифу или данному мифологическому мотиву в мифологии другого народа и таким образом установить, откуда этот миф или этот мотив мог быть заимствован. Еще Геродот на основании обнаруженных им сходств выводил Посейдона из Ливии, Вакха – из Египта и т. д. Геродот, таким образом, заложил основы сравнительного метода в мифологии. И в сущности основы этого метода с тех пор не претерпели существенных изменений.
Гипотезы Геродота о происхождении греческих богов не получили подтверждения. Но точно так же, как правило, оставались недоказанными и гипотезы о заимствованиях или миграциях мифов, выдвигавшиеся в новое время. Тому, кто обладает достаточной эрудицией, обычно не представляет большого труда найти параллель к данному мифу или данному мифологическому мотиву в мифологии другого народа. И если между данными народами мыслимы исторические связи, то можно выдвинуть гипотезу о заимствовании или миграции соответствующего мифа или соответствующего мотива. Однако, обладая еще большей эрудицией, нередко можно найти параллель к соответствующему мифу или соответствующему мотиву и у такого народа, исторические связи которого с данным народом немыслимы. В таком случае приходится отказываться от гипотезы о заимствовании или миграции и предполагать параллельное развитие или стадиальное сходство. Однако доказать, что действительно имеет место стадиальное сходство, а не заимствование, миграция или случайность, можно, только показав, что возникновение данного мифа или данного мотива с необходимостью должно произойти на данной стадии развития сознания. Но для доказательства этого сравнительный материал совершенно не нужен. Поэтому, вероятно, нет науки, которая требовала бы большей эрудиции, чем сравнительная мифология. Но в сущности нет и науки более бесплодной. Тем не менее сравнительная мифология до сих пор остается основным направлением исследования отдельных мифов.
Одним из удивительных порождений сравнительного метода в мифологии была нашумевшая в свое время, но вскоре высмеянная как абсурдная теория, которая получила название панвавилонизма. Согласно этой теории – она была изложена в ряде трудов нескольких очень солидных ученых – основой мифов всего мира послужили космогония и астрономия вавилонян, особенно их звездные мифы (панвавилонисты сочетали сравнительный метод с натурмифологией).[11]
Не менее удивительным порождением сравнительного метода в мифологии была знаменитая теория Суфуса Бюгге, крупнейшего норвежского лингвиста, литературоведа–медиевиста, текстолога, фольклориста, рунолога и мифолога, ученого огромной эрудиции и необыкновенного комбинационного дара. Благодаря этим свойствам Бюгге мог, как рассказывают те, кто слушали его лекции, доказать все что угодно и тут же опровергнуть доказанное. Его теория происхождения эддических мифов из различных христианских и позднеантичных повествований, якобы усвоенных викингами во время их походов на Британские острова, имела большой успех, и ее абсурдность далеко не сразу была замечена (теория Бюгге предполагала, как потом стало ясно, что викинги, ворвавшись в тот или иной монастырь, сразу же, вместо того чтобы заняться грабежом, бросались в монастырский скрипторий и там взахлеб читали латинские рукописи редчайших памятников и потом сочиняли мифы, в которых использовали приобретенную эрудицию).[12]
Огромный этнографический материал, который был накоплен за прошлый век, и, в частности, материал по мифам и обрядам культурно отсталых народов был основной предпосылкой теории, которая вскоре стала господствующей в изучении мифов, а именно обрядовой теории. Решающую роль в возникновении этой теории сыграла «Золотая ветвь» Фрейзера,[13] одно из самых грандиозных созданий научной мысли нового времени. «Золотая ветвь» – это исследование, в котором возведение одного конкретного мифа к одному конкретному обряду служит связующей нитью для описания целого монблана обрядов всех времен и народов (в последнем издании произведение достигло двенадцати томов). Колоссальное богатство материала, мастерская композиция и великолепное изложение сочетаются в «Золотой ветви», однако, с довольно скудным теоретическим содержанием: оно все сводится к гипотезе о том, что магия предшествовала религии (гипотеза эта, по–видимому, не подтверждается фактами или во всяком случае сильно упрощает их).[14]
Фрейзер исходил в «Золотой ветви» из представления, что мифы – это примитивная наука (он и магию считал примитивной наукой), что их основная функция – объяснительная и что, в частности, есть мифы, которые придуманы для объяснения обряда. Положение, что миф – это примитивная наука, не раз высказывалось в прошлом веке. Однако, как ни приятно было ученому, изучающему первобытную культуру, думать, что объект его науки, т. е. первобытный человек, в сущности тоже был ученым, однако уже давно стало очевидным, что так называемые этиологические мифы, т. е. мифы, объясняющие происхождение или сущность чего–либо, – это только одна из разновидностей мифов, в некоторых мифологиях представленная очень скудно (например, в эддической мифологии), и что этиологические объяснения в мифах (они блестяще спародированы Киплингом в его сказках «Откуда у кита такая глотка», «Отчего у верблюда горб» и т. д.) – как правило, просто привески, долженствующие доказать правдивость рассказываемого.
Однако то положение, что миф может быть чем–то вторичным по отношению к обряду (впервые оно было высказано ещё до Фрейзера), получило уже в нашем веке мощное развитие. Появилось множество исследований, выводы которых сводились к тому, что обряд предшествует мифу. Миф рассматривался в этих исследованиях, как нечто, возникшее из обряда, как своего рода текст к обряду. Новый подход имел огромный успех. Он был сначала применён к греческим мифам, потом распространён на всю греческую культуру – литературу, искусство, философию. Затем новый метод был применён и к другим культурам. Вскоре выяснилось, что обрядовое происхождение можно найти вообще у чего угодно. Обрядовые объяснения стали поветрием. Все возводилось к обрядам инициации, священному браку, принесению в жертву божественного короля и т. п. Особенно популярны стали обряды инициации. Обрядовое происхождение обнаруживали у священных литератур разных народов, у легенд, у сказок, у эпических произведений, у детских игр, у комедий и трагедий Шекспира, даже у реалистических романов. Одному автору удалось обнаружить обрядовое происхождение у основных фактов истории Англии в средние века. Что же касается мифов, области, в которой новая теория возникла, то обрядовая теория становилась все более категоричной. Один поборник этой теории утверждал даже, что не только все мифы – это обрядовые тексты, по и все обряды – это преобразования одного «праобряда» – принесения в жертву божественного короля.[15]
Необыкновенный успех обрядовой теории объясняется, с одной стороны, тем, что новый этнографический материал, ставший достоянием науки, сделал очевидным наличие тесной связи между разными элементами культуры в примитивных обществах, в частности между мифами и обрядами. С другой стороны, благодаря тому, что этот этнографический материал неисчерпаемо огромен, стало всегда возможным найти среди обрядов, известных науке, что–либо, напоминающее тематику мифа, подлежащего толкованию (соответственно – не только мифа, но и любого литературного произведения). Вместе с тем популярность обрядовой теории мифа – это результат того, что в связи с освоением нового этнографического материала повышенный интерес стали вызывать функции мифа в примитивном обществе и этот интерес в значительной степени заслонил интерес к мифу как форме духовного творчества, т. е. к сущности мифа.
Своеобразие функций мифа в примитивном обществе было всего обстоятельней, освещено английским этнографом Брониславом Малиновским, проведшим много лет среди аборигенов одного из островов Меланезии. Миф, как показал Малиновский, – это важная социальная сила. Он обосновывает устройство общества, его законы, его моральные ценности. Он выражает и кодифицирует верования, придает престиж традиции, руководит в практической деятельности, учит правилам поведения. Он тесно связан со всеми сторонами народной жизни, в частности, конечно, и с обрядами.[16]
По–видимому, однако, миф может выполнять самые разные функции, а не только те, на которых настаивал Малиновский. Например, как уже было сказано, миф может выполнять объяснительные функции, т. е. быть примитивной наукой. Вместе с тем из того, что миф связан с обрядом, отнюдь не следует, конечно, что обряд должен непременно предшествовать мифу. По–видимому, между мифом и обрядом возможны самые различные отношения. Изучение мифов и обрядов культурно отсталых народов показало, что дело обстоит гораздо сложнее, чем это предполагает обрядовая теория мифа. Хотя многие обрядовые объяснения мифов, предложенные последователями обрядо–мифовой теории, были опровергнуты, несомненно, что существуют мифы, описывающие обряд или объясняющие его. Но существуют и мифы, связь которых с обрядом совершенно неправдоподобна (таковы, например, многие эддические мифы). В самых примитивных обществах существуют мифы, не сопровождаемые никакими обрядами и никак с ними не связанные. У некоторых народов много мифов, но очень мало обрядов (например, у бушменов). Бывает, что обряд не находит никакого отражения в мифах или что в обряде есть то, чего нет в мифах. Есть данные о мифах, которые исполняются во время обряда, но вовсе не представляют собой обрядовых текстов. Есть данные также о том, что обряды могут заимствоваться без сопровождающих их мифов, а мифы – без сопровождающих их обрядов. Связь мифа и обряда сплошь и рядом случайна и не определяет содержания мифа. Наконец, в ряде случаев очевидно, что миф вызвал обряд или служил его прецедентом. Одним словом, бесспорно, что между мифом и обрядом возможны взаимосвязь и взаимодействие. Однако предположение, что обряд всегда первичен по отношению к мифу, конечно, абсурдно. Как сказал один американский этнограф, вопрос о том, что первично – обряд или миф, так же бессмыслен, как вопрос о том, что первично – курица или яйцо.[17] Если, по–видимому, и можно доказать относительно некоторых мифов, что они возникли из обряда, то невозможно доказать относительно хотя бы одного обряда, что его предпосылкой не было то или иное мифическое представление, т. е. что он не возник из мифа.








