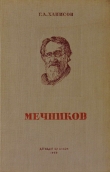Текст книги "На всемирном поприще. Петербург – Париж – Милан"
Автор книги: Михаил Талалай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
IV
Разговор не клеится. Дамы рассматривают альбом. Илья Кузьмич хвалит Верещагина, но хвалит так, что каждое его слово как бы полито уксусом и желчью неизлечимо больного, неустанно ноющего, как испорченный зуб, самолюбия.
Величественная блондинка тайком мечет на него молнии своих обворожительных глаз, готовая отдать голову на отрез, что час или два тому назад, он позорил такою же ядовитою похвалою за глаза и ближайшего приятеля своего, ее мужа.
Лениво подает реплику один только высокий, видный мужчина средних лет, с зачесанными назад, без пробора, волосами, которым он хотел бы придать вид львиной гривы. Его светлая бородка клинышком носит следы той же тщательной, любовной отделки, которую знатоки ценили в его мастерских изображениях купающихся нимф и неизвестного звания голых девиц, предающихся мечтательности у ручья, кокетливо подкорчивши под себя левую ножку. Художник растянул во всю длину свои мускулистые ноги, одетые в очень изящные серые штаны, удобно откинулся на спинку кресел и щурит свои шустрые глаза, стараясь придать себе тот вид себе на уме, который очень идет к нему и которым он очень ловко умеет маскировать сладострастную дремоту, неизменно одолевающую его, если только он не сидит у своего мольберта против раздетой натурщицы или у обеденного стола. От семинарского своего происхождения этот модный теперь художник-самоучка сохранил только пристрастие к жирной, мучнистой пище и имя Евлампия Максимовича Приснопевского.
Сам хозяин, одевшийся для парада в мешкообразный пиджак, сидит, словно удивляясь сам, как он очутился в подобном обществе? По неловким фразам, которые он считает нужным вклеить порою в ежечасно замирающий и неинтересный для него разговор, по нервному движению, с которым он крутит папиросы из дешевого французского табака и бросает их недокуренными, – видно, что он находится в непривычном для него нервном возбуждении. И оно так плохо идет к его обрубковатой, простой, но смелой и крепкой фигуре. Он нетерпеливо прислушивается к мерному тик-таканию невидимых во мраке часов, которые вдруг как будто натужились, зашипели, и медленно, словно с злорадством, ударили девять…
Серый сеттер с черными пятнами, скрывавшийся в тени под стулом хозяина, поднял голову, прислушался, вытянул передние лапы и громко и протяжно зевнул.
Раздался звонок. Хозяин поспешил отворить и в сенях еще приветствовал входящего, но так, что в тоне, не без оттенка злобного раздражения, слышалось: «Ждал я, брат, вовсе не тебя!».
В комнату влетел порхающий молодой человек и, ослепленный чудовищным рефлектором, тут же споткнулся о низенький пуф, покрытый черным сукном с пестрыми накладными турецкими узорами, занятый Белостоцкою.
– Что вы, Герман! Не успели еще войти, и уже у ног Фанни Львовны! – сострил изобразитель женских телес и сам же залился жирным, негромким смехом, на букву э…
Кстати, замечали ли вы, читатель, что натуры открытые и хищники смеются на букву а, принужденные и хитрые – на и, а смех на э свойствен натурам созерцательным и эпикурейским?..
– Stépan, – заговорила хозяйка с жаром, показывающим, что она рада была всякому поводу для разговора или замечания, – погасил бы ты лучше свой маяк; а то наши гости непременно поломают себе шеи или носы. Да и посмотри samovar: будем чай пить. Monsieur Mikhnéeff может и не прийти; мало ли у него всяких дел.
– Я вам наверное говорю, что придет, – возразил Волков на плохом французском языке, злоупотребляя, по русскому обыкновению, словом absolument[52]52
Абсолютно, совершенно (фр.).
[Закрыть] и обижаясь, что его обещание доставить великого человека на званый вечер не считается достаточною гарантией.
– Он и мужа должен пгывезти на своем гысаке, – закартавила божественная блондинка с таким выговором, от которого поэтическая атмосфера, окружавшая ее, внезапно переполнилась как бы затхлыми испарениями ростовщического чулана.
Калачев, сопутствуемый сеттером, отправился на лестницу раздувать самовар, который начал было уже загасать, как будто он тоже, назло Волкову, предполагал, что Михнеев не придет, и знал, как и все, что неудавшаяся эта вечеринка собралась только для Михнеева.
– На кой черт Калачеву мог понадобиться Виктор Семенович? – мысленно спрашивал себя каждый из гостей, инстинктивно поворачивая глаза в темный угол, где на низком и широком турецком диване, покрытом пестрым веревочным ковром, в усталой, развинченной позе сидел никому не известный молодой человек, не сказавший ни одного слова с самого начала этого званого вечера.
V
Не проходило дня без того, чтобы в том или другом углу Парижа кто-нибудь не ждал Михнеева с тем лихорадочным нетерпением, которого не умел скрывать Калачев, не привыкший к светскому общежитию с его ежечасными мелочными стеснениями. Никто не знал за Виктором Семеновичем иной профессии, как всюду быть ожидаемым по очень важным и спешным делам и всюду опаздывать, ссылаясь на другие, тоже очень важные и спешные дела. В эти дела все верили, хотя никто не мог похвастать, чтобы хоть раз, на минуту, ненароком, застал Виктора Семеновича за чем-нибудь, хоть издали смахивающим на дело, на труд, на работу.
Всякий рассуждал: у Михнеева не может не быть очень важных или, по крайней мере, очень крупных дел, если принять во внимание ту размашистость, праздность и роскошь, с которою живет этот человек то в Париже, то в Петербурге, то в Италии, то на водах, не обладая нигде даже и призраком движимого или недвижимого имущества. Последнее выкупное свидетельство – остаток небольшого имения в саратовских или пензенских черноземных степях – спущено им, по собственному признанию, уже давно… Но, с другой стороны, всякий же невольно задавал себе мудреный вопрос – если у Виктора Семеновича могут быть дела, то для каких надобностей и для кого припасено в русском языке название бездельника?
Существуют сферы, в которых грань между делом и бездельем стушевалась, спуталась до того, что ее нелегко различить ни простым, ни вооруженным глазом. Видишь Виктора Семеновича, позевывающего полчаса на представлении «Niniche» или «La femme à papa»[53]53
«Ниниш» и «Жена папаши» – популярные оперетты Флоримона Эрве.
[Закрыть], или застанешь его порою благодушествующим с гаванскою сигарою в зубах, да уж какие тут дела! А затем совершенно неожиданно узнаешь, что и «Niniche», и «La femme à papa», и забористый pousse-café[54]54
Коктейль (фр.).
[Закрыть] отозвались в кармане Виктора Семеновича очень уважительным кушем. А так как всякий, скоропостижно являющийся в кармане современного чародея куш непременно изъят же из чьих-нибудь чужих карманов, то ясно становится, что ни в театре, ни за столиком Café Anglais Виктор Семенович вовсе не благодушествовал и не зевал, а обделывал дела, оказывал некоторое воздействие на судьбы современников и потомства.
Каким магическим жезлом или философским камнем обладал этот человек? Какими таинственными процессами он умел обратить – если не в золото, то в банковый билет, в акцию или в чек, – всякую дрянь, всякое обыденное, даже отвлеченное, явление своей и чужой праздной жизни? Над этими вопросами бесполезно и голову ломать, ибо простому смертному не дано постичь этого единственного, ежечасно совершающегося на наших глазах современного чуда. А тот, кто однажды постиг эту тайну мироздания, тотчас же выделился из сонмища простых смертных и стал сам точно таким же чародеем, распростившимся навсегда с сомнениями и вопросами…
Сам Михнеев не любил окружать себя никакою таинственностью. По происхождению – провинциальный барин меньше чем средней руки, он таким и остался на самой вершине своего парижского величия. Он даже не дал себе труда отделиться от тех écoutez и je vous en prie[55]55
«Извольте»; «прошу вас» (фр.).
[Закрыть] с растяжкою на en, которые служат как бы тавром чистокровного русопета, изъясняющегося по-французски. Его развязность, доходившая до холодности, придавала ему своеобразный колорит и внушала безграничное доверие к нему в сердцах тех немногих высокопоставленных новичков, которых Виктор Семенович удостаивал порою самолично посвящать в тонкости и тайны светской парижской жизни. «Вот человек! – думалось им невольно: – и с Гамбеттой[56]56
Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) – видный французский политик.
[Закрыть] знаком запросто, и может до подробности объяснить, за что братья Перейры[57]57
Эмиль Перейр (1800–1875) и Исаак Перейр (1806–1880) – известные в ту эпоху предприниматели.
[Закрыть] состоят друг с другом во вражде, и с какими только актрисами не ночевал!.. Способен, катая вас по Булонскому лесу, концом сигары указать всех, находящихся там в наличности львиц и тигриц и по пальцам перечесть многоязычную рать их деловых и средневековых любовников – и всё это с тою же развязностью, с которою, лет двадцать тому назад, удалым ремонтером[58]58
Галлицизм: должностное лицо военного ведомства, производящее «рёмонт» (обновление) конского строя для войск.
[Закрыть], он хозяйничал на Ильинской или Коренной[59]59
Ильинская ярмарка проходила (с 1852 г.) в Полтаве, Коренная – в Курске.
[Закрыть] ярмарке или побеждал дамские и девичьи сердца на балах саратовского и пензенского дворянского собрания».
Вестник всесветной проституции, литературной и политической, духовной и телесной, «Фигаро», нередко поминая Виктора Семеновича на своих страницах, иначе не называл его как le représentant le plus pittoresque et le plus parfait de la petite colonie des vraix boyars russes à Paris[60]60
Самый живописный и идеальный представитель маленькой колонии настоящих русских бояр в Париже (фр.).
[Закрыть].
Особенно с соотечественниками, Михнеев был щедр на признания и откровенности, способный иного поставить в тупик своею непрошенностью. Любил он приободрить какого-нибудь новичка, у которого трескучая мишура показной парижской жизни отшибала, что называется, разум… Легко было, однако же, заметить, что признания Виктора Семеновича вращались исключительно в области прошлого и на текущую деятельность этого чародея проливали только очень косвенный и слабый свет. Правда, северная звезда эта блистала на парижском или, точнее говоря, на всемирном горизонте всего только каких-нибудь два, много три года. Но по тому тону, которым он повествовал о своих минувших подвигах, ясно чувствовалось, что от настоящего они уже отделены целою пропастью.
«Был я, как и вы здесь, новичком, – утешал он одного опешившего соотечественника, – не похвастаю: в голове тоже пошел содом, а выкупные плывут себе, да плывут. Из последних, понимаете, так что скоро уже и уехать будет не на что. Тоска начинает меня сосать… робость перед будущим. До того дошел, что уж руки помышлял на себя наложить… Финал этакий á la Rolla[61]61
«а ля Ролла» – как у итальянского виртуоза Алессандро Ролла (1757–1841).
[Закрыть]: афинский вечер устроить там какой-нибудь, с кровавою, понимаете, развязкою»…
Рассказчик затягивался сигарою, с несколько картинным движением откидываясь назад, и пускал струю благовонного синеватого дыма.
«Теперь даже смешно вспомнить, а тогда жутко было. Чтобы рассеять эту тоску, суешься еще хуже и туда, и сюда. Театры, рестораны, балы, дерби эти, скáчки их, знаете, в Отейле[62]62
Пригород Парижа.
[Закрыть]. В то время на рысистые бега еще тут мода пошла. С выставки остался нам орловский рысачок, по нашему бы совсем из завалящих. А тут у меня Фенуйль приятель был… Ничего себе, сметливый француз. Землячка-то нашего он как-то окрутил и догадался лошадь залучить себе совсем за бесценок. Что же вы думаете? Все пари и все призы забрал, да мне же и хвастается… Меня тут вдохновение и осени!.. Пишу домой, зятю Алексею Ивановичу: что хочешь бери, а высылай скорее Громобоя, – был у него такой рысак. Лошадь не ахти, не то вот, что теперь у меня Контес д'Абрантес, ну да всё же в Москве призы брал… Летом, пишу, приеду в родные края, тогда и сосчитаемся. Спасибо зятю, поверил: рысака прислал. А уж как я только до новых бегов время протянул, – лучше и не спрашивайте!.. «Штучка» у меня тут была: Бланш из Varietés. Девочка славненькая, немножко boulotte[63]63
Здесь: толстушка (фр.).
[Закрыть], с наклейными ресницами, но с огоньком… Немало облегчила она меня от последнего балласта. Теперь соображаю, оно и к лучшему. Денег нет, поневоле попридержаться пришлось и вести в тишине свою линию. А то, с моим открытым характером, непременно бы проболтался кому-нибудь, хоть тому же Фенуйлю. Он прошлогоднего рысака своего превыгодно спустил: продал чуть не на вес золота. Есть тут граф Териньи де-Бюжаль, бонапартистский депутат. Может в камере видали? – Высокий, с седою эспаньолкою, худой, вроде дон Кихота из бурбонского звания… Ну так вот он Христом-Богом заклинал: рысака ему в долг продать до следующих бегов. И Фенуйль, и он – оба наперед были уверены в победе… Ну-с, а как пошел действовать мой Громобой!.. Одно могу вам сказать: я даже и волнения сладостного не ощутил. С абцуга[64]64
Карточный термин; здесь: с самого начала, с первого шага, сразу же.
[Закрыть] не могло уж быть никакого сомнения… Ну и деньжищев же я тут загреб!.. Да деньги вздор, а вот тут-то и раскрылись предо мною новые горизонты!»
VI
Париж далеко не самый художественный, но, конечно, самый художнический изо всех европейских городов, если принять во внимание число проживающих здесь живописцев и невероятное количество квадратных километров грунтованного полотна, покрываемого здесь свежими масляными красками ежегодно. Всякий парижский хлыщ непременно состоит, по призванию или по профессии, в тесном соприкосновении с живописью.
Михнеев был завсегдатаем многих знаменитых мастерских и к тому же он был на ты с главными из тех перепродавцов картин, которые наживают здесь чудовищные состояния, тогда как неопытному глазу непременно должно казаться, будто они разоряют себя вконец из радушного желания ублажить чудовищно расточительные вкусы того или другого прославленного художника.
Не было ничего удивительного в том, что в любой парижской мастерской, русской или иностранной, Виктора Степановича ждали как небесной росы. Одному он доставил выгодный заказ, у другого сам купил завалявшееся полотно, перепроданное им с большим барышом какому-нибудь румынскому, херсонскому или аргентинскому любителю. Но удивительно было, что Виктора Семеновича ждал Калачев, и над этим русская колония уже несколько дней ломала себе головы.
Сам Степан Васильевич этому не удивлялся, но зато приметно досадовал на других и на себя: точно в неприличный дом зашел или совершил что-нибудь непривычное для чистоплотного и уважающего себя человека.
Калачев появился в Париже очень еще недавно; мало с кем видался и проводил все дни в мастерской, очень усидчиво и усердно работая. Но появился он в завидной роли удачника, и внимание соотечественников естественно обратилось на него. Волков сгорал от нетерпения угостить его только что полученным из Петербурга копченым сигом; но колебался несколько, не будучи уверен вполне, что новое знакомство это сообразно с его официозным положением по части «убеждений и направлений». Однако, когда Степан Васильевич, вскоре по приезде, записался членом в русский художнический клуб и когда Илья Кузьмич увидал ласковый прием, оказанный ему столпами и патронами этого патриотического учреждения (в которое Калачев после первого посещения не ступал уже ни ногой), то сомнения его рассеялись, и наш техасский гражданин должен был отведать и сига, и паюсной икры, и многого еще, чего он не едал уже лет десять…
На тусклом фоне Волковых, Приснопевских, Михневых и комп. Калачев выдавался довольно ярким пятном, и на его счет скоро начали слагаться целые легенды. Те немногие факты из его жизни, которые скоро стали всем известными, заставляли предполагать в нем не по-русски решительного и энергического человека. Сам же Степан Васильевич говорил о себе: «разве такой бывает энергический человек? Тот на месте старается создать себе подходящую обстановку и среду, а я всю жизнь бегал, то в Белую Арапию, то на Дарью-реку[65]65
В русском фольклоре – фантастические места.
[Закрыть], туда, где предполагал эту обстановку уже готовою»…
В начале шестидесятых годов был он студентом одного из южно-русских университетов. Даровитый, общительный юноша, он скоро нашел себе место в лучшем из тех кружков, на которые делилось тогда N-ское студенчество. Двадцать пять рублей, высылаемые ежемесячно отцом, небогатым помещиком, занимавшим средней руки пост в маленькой администрации, – ставили его в положение чуть не Креза среди товарищей, из которых многие пришли пешком за двести и за триста верст, а почти все пробивались кое-как, кондициями, переводами, перепискою, уроками. Здесь «кающийся дворянин» в первый раз увидал горькую судьбу нашего, так называемого, «умственного пролетариата», который, вследствие ничтожного спроса на умственный труд, терпит часто крайнюю нужду и при ней осужден еще на худшую из нравственных мук: на ежечасные сомнения в полезности, в самой даже законности своего существования.
Калачев обладал комнатою, где пять-шесть человек близких знакомых могли собираться для вечерних занятий или поговорить о сильно всех волновавших тогда ожиданиях, надеждах и событиях. Он мог доставать журналы и книги. Его знание иностранных языков навело его на мысль устроить литературные вечера, на которых читались и обсуждались переводы и извлечения заграницею появлявшихся брошюр и книг по разным жгучим вопросам. Таким образом Калачев слыл за коновода, хотя в действительности, обладая большою отзывчивостью, он значительно меньше многих своих друзей был одарен предприимчивостью и самодеятельностью мысли.
То было время, когда диапазон во всей России настроился выше среднего уровня, когда всякий порядочный человек на Руси, засыпая вечером, как будто назавтра чего-то ждал, а утром просыпался как к светлому празднику… Рутинные шероховатости и суровости жизни, к которым в обычное время всякий привык, от которых он только морщится, – тут с особенною назойливостью стали каждому лезть в глаза, коробить всех своею вопиющею несообразностью с поголовным одушевлением и ожиданием… В студенческом быту готовился довольно знаменательный перелом. В ожидании его, заветная грань между licet и nonlicet[66]66
Аллюзия на латинскую крылатую фразу «Quod licet Jovi, non licet bovi» – «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».
[Закрыть] стушевалась, колебалась каждый день, передвигаясь то вправо, то влево, так что и сами блюстители ее не всегда с достоверностью знали, где именно она находится в данный момент… Отсюда бесконечные истории. За одну из них Калачев был исключен в самом начале второго курса, без возможности продолжать занятия в другом высшем учебном заведении.
Обстоятельство это как громом поразило семью, возлагавшую блестящие упованья на ум, прилежание и доброе сердце Степочки. Сердились, охали; но как нужно же было что-нибудь предпринять, то и порешили, что, видно, сама судьба велит ему сделаться вольным художником: благо он с детства ощущал к рисованию прирожденную страсть и дивил учителей быстрыми своими успехами.
И вот, Степочка в Риме; но и здесь он нашел нечто очень сродное тому, что помешало ему мирно кончить курс в аудиториях N-ского университета. Только здесь оно являлось более определенным, приуроченным к живым именам и к очень немногим одушевляющим, общепонятным формулам. В академии, в траттории, в домах, только об одном и говорили. Одно слово и одно имя были на всех устах: – «возрождение»[67]67
Перевод ит. термина Risorgimento – Рисорджименто, которым обозначают патриотическое движение за объединение Италии.
[Закрыть] и «Гарибальди».
Не только новые товарищи Степана Васильевича, но и сторожа, натурщики, и отчасти даже профессора, наперерыв стремились в Сицилию. Многих хватали, и они надолго исчезали потом в ужасных казематах замка Сант-Анджело. Даже отставной папский драгун, Беппо Чичьо, которого выразительное лицо рисовали, живописали и ваяли целые поколения художников, – ощутил в один прекрасный день непреодолимое желание убедиться воочию, что за чудеса творятся в неаполитанских краях и что за богатырь проявился там Дон Лубардо[68]68
Искаж. от Гарибальди.
[Закрыть]?
В сообществе этого-то Беппо Чичьо и очутился Степан Васильевич в Палермо… Их направили в большой и светлый манеж, где молодой черноусый полковник, в красной рубахе и в маленькой черной войлочной шляпе набекрень, муштровал взвод любителей-кавалеристов, вызывавших его досаду своим слишком поверхностным знакомством с трудным искусством верховой езды.
– Вот еще какого вам молодца привел, – рекомендовал Беппо Чичьо нашего соотечественника, – è russo… di Moscovia[69]69
«Русский… из Московии» (ит.).
[Закрыть], – добавил он, заметив, что первое его выражение может быть принято за намек на рыжеватые волоса и усики Калачева[70]70
«Russo» могло было быть воспринято как «rosso» – «рыжий».
[Закрыть].
– В свободе все нации – сестры между собою, – учтиво заметил полковник.
Вечером этого дня, прибрав и выхолив своего коня, Степан Васильевич сладко заснул на своей койке, в казарме, где помещался только что сформированный эскадрон конных егерей Diavoli Rossi[71]71
«Красные дьяволы» (ит.) – прозвание конных егерей из Палермо, которых автор также упоминает в своей книге «Записки гарибальдийца».
[Закрыть]; заснул сильно утомленный, но с сознанием, что он пристроился к великому историческому делу, что и он стал, наконец, чуть заметным, но не лишним винтом в том таинственном и чудовищно сложном механизме, который перемалывает судьбы человечества в какую-то провиденциальную муку будущего.
Воспоминание о короткой, блестящей кампании Обеих Сицилий[72]72
Имеется в виду т. н. экспедиция «Тысячи» – гарибальдийский поход 1860 г., в результате которого упраздненное Королевство Обеих Сицилий стало частью объединенного Итальянского королевства под эгидой Савойской династии.
[Закрыть] навсегда запечатлелось в восприимчивом мозгу Калачева, как память о радостном, изящном и торжественном празднике. Задетый шальною пулею в стычке при Реджио[73]73
Совр. транслитерация: Реджо (полное назв. Реджо-ди-Калабрия) – город на материковом берегу Мессинского пролива.
[Закрыть], он должен был провести недели две в семье пожилого крестьянина горной калабрийской деревушки, который неожиданно оказался православным[74]74
Православных потомков греческих (и албанских) переселенцев к тому времени в Калабрии не было, они все были подчинены Католической Церкви в качестве католиков византийского обряда (греко-католиков, «униатов»), при ряде уступок: сохранен греческий литургический язык и восточные облачения, устроена особая епархия и пр. При этом многие, в самом деле, несмотря на свою принадлежность к Католической Церкви, считали себя православными.
[Закрыть], так как происходил от греческих поселенцев, давно уже забывших свою родину и променявших свой язык на гортанную калабрийскую речь. Калачев был принят здесь как герой в рыцарских романах; его чуть-что не носили на руках. Когда, совершенно оправившись, он садился в дилижанс, направляясь к Неаполю, начальник местной национальной гвардии напутствовал его краткою, но витиеватою речью, в которой слова Libertà, Patria, Fratellanza dei Popoli[75]75
Свобода, Родина, Братство народов (ит.).
[Закрыть], сыпались как из мешка и в которой сам оратор начинал уже безнадежно путаться, когда трубачи заиграли гарибальдийский марш:
Разверзлись могилы, воскресли герои,
В борьбе за свободу сложившие жизнь…
Старик-хозяин картинно-драматически благословил юношу на новые подвиги. Пятнадцатилетняя дочь его, Чезира, стройная и дикая как горная коза, тут же обняла его всенародно на площади, трижды поцеловала и, с улыбкою сквозь слезы, дрожащим, ласкающим голосом, шепнула только ему одному слышное:
– Beh! Perchè non rimani con noi (Ах! Зачем ты не остаешься с нами!)
…А затем знойное allegro furioso[76]76
Быстро, неистово, яростно (муз.).
[Закрыть] стоянки под Неаполем. Каждодневные овации и демонстрации, с знаменами, с цветами и народными гимнами, которые пелись с инстинктивною гармонией сотнями стройных, страстных мужских и женских голосов. Это казалось голосом целого народа, восторженно пробуждающегося к новой жизни, к свободе.
Калачева тешили даже будничные подробности его службы: ночные разъезды под безоблачным сентябрьским небом, искрившимся целыми мириадами звезд; захватывающие дух засады, когда он лежит на брюхе под деревом близь дороги, а по ней, как привидения, тянутся попарно длинною вереницею неприятельские уланы в белых как саван плащах. А в заключение, удачная, смелая до смешного кавалерийская атака, которою польский генерал Мильбиц[77]77
Александр Исеншмид граф де Мильбиц, иначе Мильбитц (1800–1883). Автор говорит о нем и при описании битвы на Вольтурно (1860 г.) в «Записках гарибальдийца», а также в романе «Гарибальдийцы» – см. прим. # в данном издании.
[Закрыть] кстати прекратил самую кровопролитную и суровую изо всех гарибальдийских битв, 1-го октября, при Вольтурно…
Вечер… В небе обычная фантасмагория: солнце не успело еще спрятаться за синею линиею холмов, а серебряный полурог месяца уже засверкал мягким, ласкающим светом… А на земле что-то совсем необычное: всюду густые клубы белесоватого дыма, окутывающие живописные группы апельсинных и миндальных дерев. На помятых кукурузных полях валяются трупы; живописные фермы горят, и никто не думает их тушить. Массы людей копошатся в быстро густеющей мгле… Ухо напряженно слышит тишину, наступившую внезапно после двенадцатичасовой пушечной пальбы…
Степан Васильевич или, как его называют теперь: Stefano il Russo, несется в ухарской скачке, сам не узнавая себя. В горле пересохло от жажды и копоти… Он видит подле себя запыленную фигуру Беппо Чичьо на взмыленной чалой лошади, покрытой клочками белой пены. Но это не тот Беппо Чичьо, с которым они так часто болтали и которого он столько раз рисовал. Это угловатое, загорелое лицо с седою эспаньолкою, с черным глазом, дико сверкающим из-под нависшей брови, – всё это хорошо знакомо Степану Васильевичу, но знакомо как будто не из жизни, а из прочитанного давно и очаровавшего его в отрочестве романа Вальтер Скотта… Но сообразить что бы то ни было некогда. Дух замирает от скачки. Впереди волнуется нестройная масса, алеют красные штаны, щетинятся штыки, трещат беспорядочные выстрелы… И над всем разносится дружный, страстный клич:
– Viva Garibaldi e la libertà![78]78
Да здравствует Гарибальди и свобода! (ит.)
[Закрыть]
И сам он бессознательно повторяет эти слова и восторженно машет саблею…