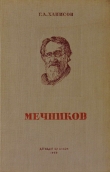Текст книги "На всемирном поприще. Петербург – Париж – Милан"
Автор книги: Михаил Талалай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
VIII
Стретнев удивился, что Богдан не показывался; это не входило в его планы.
Однажды, он по новому обыкновению постучался в двери приемной своей жены. Лизанька не плакала. Внутренне она решилась на жертву, старалась успокоиться на сознании исполненного долга, доброго дела. Однако же успокоиться не могла. Пока Стретнев сидел у нее, она несколько раз готова была покончить все разом, исполнить задуманное жертвоприношение, но каждый раз у нее накипали слезы. Стретнев спросил: отчего не приходит Богдан.
– Он зайдет проститься перед самым отъездом, – отвечала Лизанька.
– Скажи мне откровенно… Я ведь имею право на твою откровенность. Я спрашиваю тебя не как муж, а просто как близкий тебе человек: хотела бы ты его видеть?
Стретнев настаивал на ответе. Лизанька твердо решила сказать: нет. Чуть слышно да сорвалось с ее губ…
Стретнев вышел спокойно, но не владея внутренним волнением. Он сел в ждавшую у подъезда карету и поехал на квартиру Спотаренки. Он вошел не кланяясь и не снимая шляпу в его комнату. При первой встрече оба весьма дурно скрывали взаимно неприязненное чувство, вдруг накипавшее в них.
– Лизавета Григорьевна хочет вас видеть.
– Я не пойду.
– Это бесчестно с вашей стороны, – сказал Стретнев, стоя спокойно и скрестя на груди руки против взволнованного студента.
– Я вас не понимаю, – возразил Спотаренко.
– Я объяснюсь. Это насилие с вашей стороны над женщиной, которой вы же расстроили нервы. Заставлять желать видеть себя – гораздо расчетливее, чем быть постоянно тут. Потом вы явитесь в трогательную минуту прощанья; когда уже на ожидание будут потрачены и последние нервные силы…
– Когда я могу видеть Лизавету Григорьевну?
– Часу в седьмом, я полагаю, будет всего удобнее.
– Хорошо. Я приду.
Радость Лизаньки, когда она узнала, что увидится с Богданом, была непродолжительна. Очень скоро ей стало просто страшно. Потом она начала думать, как ей следует повести неожиданную, непрошенную встречу. Отбросив несколько не совсем разумных планов, она вернулась к тому, на котором была прежде. Ей казалось, что, увидавшись раз с Богданом, она получит силы на приведение его в исполнение.
Богдан с своей стороны ничего не знал о том, что происходило в доме Стретневых со времени его последнего посещения. Неожиданный визит к нему Николая Сергеича сперва сбил его с толку; но скоро потом он послужил ему точкой отправления к разным предположениям и догадкам. Руководимый против воли неприятным чувством к Стретневу, он подошел однако же в своих предположениях довольно близко к действительности, хотя она и представлялась ему совершенно в другом свете, чем Николаю Сергеичу и Лизаньке. Не останавливаясь над разбором нравственных побуждений, заставлявших Николая Сергеича поступать именно так, а не иначе, Богдан понимал, что Стретнев ставит Лизаньку в положение лаврового венка или премии, которая суждена достаться тому из них двоих, кто выйдет победителем из завязывающегося между ними турнира. Он чувствовал также все, что было невыносимо тяжелого в этом положении молодой женщины, и решился, во что бы то ни стало и как бы дорого ни стоило это его самолюбию, не принимать вызова так искусно подставленного ему мужем. Между тем, он с нетерпением ждал назначенного часа…
Совершенно неожиданно явился Марсов. Он принужденно сел на стул, предложенный ему бывшим его товарищем. Марсов был очень смущен; смотрел как-то натянуто и неловко…
– Вы знаете, – спросил он, очевидно не зная, с чего начать, – что сталось с Лизаветой Григорьевной?
– Нет, не знаю. А что?
– Я не мог ее видеть почти целую неделю. Мне говорили, что она больна. Сегодня я узнал настоящую причину ее болезни, – сказал он, многозначительно глядя на Богдана.
– Я не знал, что она больна.
– Вы знаете все, – сказал Марсов с какой-то особенной решимостью, – вы всему виной.
– Послушайте, что вам здесь нужно? – спросил Богдан, становясь против своего экс-приятеля, со скрещенными на груди руками. Его губы дрожали. Он был бледнее обыкновенного.
– Я не имею никаких форменных прав, – возразил запинаясь Марсов, – но для этого никаких прав и не нужно… Это право каждого честного человека. Вы уедете сейчас же отсюда, не видавшись с Лизаветой Григорьевной. Если вам нужны деньги, я вам дам их.
Богдан надел шляпу.
– Прощайте. Я иду к Лизавете Григорьевне – мне пора. Если угодно, я вас сведу по дороге в лечебницу.
Марсов вспыхнув вскочил со стула.
Если бы Лизанька видела Богдана в эту минуту, она бы избежала впоследствии многих лишений и тревог. В его глазах промелькнуло что-то такое, что заставило Марсова отступить на один шаг, а Марсов был не трус…
Но в ту же минуту Богдан стоял уже совершенно спокойно.
Он негодовал не на Марсова лично. Бедный рыцарь попал в дурную минуту, когда слишком много горечи и ненависти накипело в сердце Богдана, ненависти к тому, что разбивало в Лизаньке все счастье ее жизни – и чего Марсов являлся непрошенным представителем.
– Где мы с вами увидимся? – спросил Марсов задыхающимся голосом.
– Нигде. Если вы так злы против меня, то можете зарезать меня на улице. Если я вас встречу на своей дороге, я вас оттолкну, не спрашиваясь, будет ли это сообразно с кодексом общепринятых приличий…
Выведенный из себя, Марсов схватил лежавший на столе складной нож и бросился с ним на Богдана. Богдан принял в левую руку занесенный удар. Рана была до того незначительна, что он и не приметил ее. Он вырвал у Марсова нож, бросил его на пол и вышел спокойными шагами на улицу.
Богдан входил к Лизаньке совершенно с тем же чувством, с каким она ожидала его. Оба уверяли себя, что они твердо решились на хороший подвиг, что они совершенно успокоились на этом своем решении. Оба с большим трудом сдерживали сильное душевное волнение. Когда он вошел, она с радостью бросилась к нему и заплакала. Он не без труда успокоил ее, усадив на диван, и сам сел в кресло на некотором расстоянии. Он закурил папиросу, стараясь придать себе вовсе непринужденный вид; оба старались не глядеть друг на друга; однако же оба заметили с живой внутренней болью, что эти несколько дней дали себя им почувствовать. Разговор долго не мог завязаться.
– Нам, во что бы то ни стало, нужно выйти из этого положения, – сказал наконец Богдан, – оно не может, не должно длиться…
– Да, оно ужасно, – сказала Лизанька, вдруг почувствовав, что вся ее решимость исчезла, как дым. – Но где же выход? – спросила она чуть внятно и с приметной тревогой, не глядя на своего собеседника.
– Да мы должны его найти в самих себе, – сказал Богдан.
Лизанька качала головой.
– Не досадно ли, – говорил Богдан, воодушевляясь, – что самые лучшие чувства в нас обращаются только на мученье нам же самим и всем, к кому мы подходим!
– Что же с этим сделаешь! – печально возразила Лизанька.
– Надо уметь подходить к людям, а мы этого совершенно не умеем. Предрассудок ли, недоразвитость ли… Бог знает, что нам мешает…
Он опустил голову на грудь. Он вспомнил Макарова. Вспомнил, как сам он переламывал себя, побеждал свою внутреннюю тревогу, для того только, чтобы занять своего больного друга, дать ему отдохнуть в пустом, насильно-веселом, шутливом разговоре. Он однако же далеко не любил этого человека так, как любил Лизаньку. Отчего же ему так трудно было сделать для нее то, что он делал для него? Отчего же он тут не мог отказаться от всякой требовательности?
– Однако надо встать выше всего этого, – сказал он вслух, отвечая на свою же собственную мысль, – забудьте же все, что я вам сказал, когда мы виделись в последний раз. Смотрите на меня просто, как на человека, искренно и горячо преданного вам, который ничего в вас не ищет, ничего не требует от вас… Который готов каждую минуту стать к вам в такие отношения, каких вы сами пожелаете…
В порыве удивления, благодарности – всего же больше самой живой благодарности, Лизанька бросилась на шею Богдану…
– Боже мой? что это! у вас кровь? – спросила она с испугом, увидя легкую царапину, которую нанес Марсов моему герою.
Богдан в самом деле увидел, что левый рукав его был разрезан и забрызган слегка кровью.
Он старался успокоить Лизаньку. Она сама непременно хотела видеть рану… Она наклонилась над ним. Он чувствовал ее горячее дыхание на своем лице. Это было слишком непосильное испытание.
Новый дружеский союз запечатлелся страстным поцелуем. Лизанька уже не испугалась его. Освободив свою голову из страстных объятий, она положила обе руки на его шею… Она с любовью впилась сверкающими глазами в это смуглое, похудевшее лицо…
* * *
Голубой свет только что начинающегося утра проникал узкой полосой между неплотно притворенных ставень комнаты Богдана…
Лизанька спала взволнованным, но глубоким сном.
Догоравшая свечка на столе отчаянно моргала своим пламенным язычком. Богдан погасил ее и открыл ставень. Было уже достаточно светло. Он сел к столу и начал писать. Письмо скоро было окончено, сложено. Он надписал нетвердой рукой на обертке: Николаю Сергеичу Стретневу.
Вот что писал Богдан:
«Мы встретились с вами на той узкой дорожке, на которой людям всего труднее разойтись по-человечески. Но поправить сделанного вы не можете. Вы можете драпироваться в драматизм вашего положения и мучить женщину. Можете вызвать меня на дуэль. Я считаю совершенно нелепым этот образ решения вопросов, однако думаю принять ваш вызов: другой возможный выход потребовал бы с вашей стороны таких нравственных качеств, которые встречаются в людях очень редко. Худшее, что вы можете сделать и для себя, и для нее – это остановиться между двумя. Я пишу вам для того, чтобы серьезно обратить ваше внимание на это»…
Ответ Стретнева Богдану.
«Между нами не может быть никакой переписки. Я предупреждаю вас для того, чтобы вы не вздумали отвечать мне: я не прочту ответа. С чего вам пришла мысль о дуэли? Из того, что вы готовы решиться на нелепость (вы сами считаете нелепостью дуэль) не следует, чтобы и я считал себе позволенным при столкновении с действительностью – как бы шероховата она ни была – забывать свои воззрения.
Так как вы сами начали переписку, то я скажу вам здесь свое мнение. Вы можете не читать его; я даже советую вам не читать, если вы считаете себя способным обижаться. Вы игрок. Из-за сильных ощущений вы ставите на карту вашу жизнь, забываете, что enjeu[41]41
Ставка (фр.).
[Закрыть] живая женщина. Вы уверяли ее в любви, а между тем не подумали о том, что вы нищий, что для нищего любовь роскошь, что вы ей готовите страшное будущее… Впрочем, мне до этого нет дела. Я не верю, чтобы письмо это могло заставить вас образумиться, или что образумившись, вы бы сумели отступить…
Впрочем, повторяю – мне до этого нет дела. Сегодняшняя ночь положила между мной и этой женщиной – пропасть. Скажите ей, что я ее забуду непременно. Это мне будет нелегко сделать, но я этого добьюсь. Если я ее встречу на улице просящей милостыню, я ей подам, как нищей…»
* * *
Лизанька проснулась поздно. Увидав себя в незнакомой комнате, не помня сама хорошенько, как туда попала, она испугалась. Увидав Богдана, читавшего только что полученное письмо и не заметившего ее пробуждения, она с улыбкой вскочила с постели, подбежала к нему и крепко поцеловала его курчавую голову…
– Бедный Nicolas, – сказала она, прочитав письмо. И у нее показались слезы. – Знаешь, Богдан, – продолжала она, усаживаясь сама на диван, – садись сюда… Нет, нет, подальше пожалуйста. Нам нужно серьезно подумать о том, чтобы устроиться… решить, как и что нам делать…
– Над этим придется потрудиться немало, – отвечал Богдан, – ты еще не подумала о том, что из барыни стала пролетарием.
– Как же не подумала! Я ведь давно знаю, что ни у тебя, ни у меня нет денег. Я не пятнадцатилетняя девушка, чтобы так и упустить это из виду.
– И тебе не страшно?
– Чего же страшно? У нас есть роскошь жизни нищего – любовь. А остальное как-нибудь да будет. Ведь не умирают же люди с голоду от того, что у них нет наследства.
На всемирном поприще
Очерк
I
На северном краю Парижа недавно успел развиться новый художнический квартал, примыкающий одним концом к игривой репутации улицам Notre Dame de Lorette и Breda[42]42
Район «красных фонарей»; по улице Нотр-Дам-де-Лорет в XIX в. женщин легкого поведения называли лоретками (rue Breda позднее переименована в rue Henry Monnier).
[Закрыть], опоясанный загородными бульварами Клиши, Батиньоль, Рошешуар – главною артерией работничьей жизни и веселья, с банями, кафе-шантанами и асомуарами[43]43
Галлицизм: кабак.
[Закрыть], где кишит, забавляется и отравляется в досужее время трудящийся люд. Этот новый художнический квартал ничего не имеет общего со старым своим соперником, мирно отцветающим теперь на левом берегу Сены, поблизости к Ecole des Beaux Arts[44]44
Школа изящных искусств (фр.).
[Закрыть]. Здесь нет и помину об академической рутине с ее классическими преданиями; здесь не встречаются типы художнической богемы, описанные в романах Henri Murger[45]45
Анри Мюрже (1822–1861) – французский литератор, бытописатель парижской богемы.
[Закрыть] и Гонкура; здесь и типы, и здания – всё ново. То старое вино слишком застоялось; его букет времен июльской монархи отзывается затхлостью; оно не переливается в эти щегольские модные новые меха. Мастерские нового квартала доступны только тем счастливцам, которые, хоть на миг, сумели остановить на себе всеобщее вниманье, удостоились хоть бы насмешливой улыбки толпы: тысячеглавого царя, деспотически властвующего в кичливом Париже… В числе высшей аристократии этого квартала встречаются такие любопытные достопримечательности, как, например, Руссо[46]46
Неустановленный персонаж; его нельзя отождествить с примитивистом Анри Руссо (1844–1910), который обосновался в Париже и стал известен уже после выхода повести Льва Мечникова.
[Закрыть], – вовсе не Жан-Жак, – Руссо, который ни о «Contrat Social», ни о «Новой Элоизе» никогда не слыхал, а нажил громкую славу и громадное состояние, изображая во всю свою жизнь, правда, с неподражаемым совершенством, одни только тыквы.
В одной из мастерских этого квартала, которую занимает наш соотечественник Степан Васильевич Калачев, устроилось нечто в роде званого вечера.
К такому имени, как Калачев, казалось бы, излишне было и прибавлять, что он доводится нам соотечественником. К тому же и наружностью обладал Степан Васильевич такою, что от нее на версту несло черноземными веяниями курской или тамбовской губернии: дюжий, приземистый, с широкою рыжеватою бородою во всю грудь, с добрыми серыми глазками в маленькой ложбине у холмом выдающихся скул, с носом, более смахивающим на сливу, чем на то, что принято считать за правильный нос по понятиям гнилого германо-романского Запада, – Степан Васильевич годился бы для любой этнографической выставки в представители чистокровного россиянина.
Но известно давно, что имя не больше как звук пустой и что по наружности не следует судить, так как она имеет дурную привычку бывать обманчивою…
Многие новые знакомые Степана Васильевича становились в тупик, узнав, что он – гражданин штата Техас, township of San Lucas, U.S.A. (United States, America). Так гласил раззолоченный и расписной диплом, снабженный всеми должными печатями и гербами, ради приложения которых Степан Васильевич и по два пальца к небу поднимал, и по два доллара платил, как водится в присутственных местах по ту сторону Атлантики.
Диплом этот красуется на самом видном месте, в черной рамке за стеклом, на одной из стен мастерской Степана Васильевича. Высокая и обширная эта комната, с окном во всю стену на северный бульвар, с балкончиком на маленький дворик, где два-три искалеченных деревца чахнут от Парижской пыли и слякоти, переполнена чуть не вся разными достопримечательными и неожиданными сочетаниями.
Здесь классический арапник степного помещика былых времен, любителя крепостных девок и собачьих свор, повис над красною фланелевою рубашкою гарибальдийского волонтера, любовно переплетясь с портупеею кавалерийской сабли с заржавленною медною бляхою, на которой с трудом можно было разобрать каббалистические буквы U.L.G.G., долженствующие обозначать: Unità – Libertà – Giuseppe Garibaldi[47]47
«Единство – Свобода – Джузеппе Гарибальди» (ит.).
[Закрыть]. И арапник, и рубашка потерты, поношены: видно отслужили долгую и действительную службу на своем веку, прежде чем вступили в противоестественный союз на вешалке художнической мастерской, вблизи северных загородных бульваров Парижа… Тут на одно и то же деревянное туловище лошади надето узорчатое, щегольское мексиканское седло и накинут старый хомут с веревочною шлеею, очевидно вышедший из рук не раз поротого за недоимку тамбовского или курского пахаря. А под рогаткою, заменяющею ноги этому деревянному полу-коню, поместился в палисандровой шкатулке теодолит самого усовершенствованного американского изделия… Дальше, потускнелым шитьем и позолотою пестреет полный боевой наряд черногорского повстанца, с длинным турецким ружьем и с целым арсеналом пистолетов и ножей у порыжелого и почернелого красного пояса…
II
Званый вечер Степана Васильевича, – мало, впрочем, похожий на званые вечера вообще, – дышит стеснением, неудачею, скукою.
Лампа с очень сильным рефлектором, на длинной подставке, похожей на стрекозу, выставлена ради торжества на самую середину комнаты. Предназначенная для вечерних работ, она не умеет приспособиться к новым для нее требованиям салонного освещения и вырезывает ослепительной яркости круг, как электрический маяк среди мрачного, непроницаемого тумана. Несколько стеариновых свеч в антикварских подсвечниках отчаянно машут светленькими язычками, стараясь осветить этот мрак, в котором каждый из присутствующих смутно угадывает столики, станки, ящики с красками, пузырьки… И никто не смеет шагу ступить, чтобы не произвести крушенья.
Миловидная хозяйка-американка с несколько птичьею наружностью, с птичьим же выговором на французском языке, старается занимать двух единственных посетительниц своего вечера, обнаруживая немалую долю той упрямой настойчивости, которую неуспех только раздражает и вдохновляет и которая составляет отличительную черту ее нации. «Какой странный народ эти русские!» – шевелится постоянно в ее уме; ее белый прямой лоб морщится от усилия изобрести что-нибудь, что расшевелило бы и Марью Андреевну Волкову, даму лет под тридцать с добрым, провинциальным, скуластым лицом, которая, казалось, или не успела совсем проснуться, или чем-то была сильно поглощена, – и другую гостью. Это была величественная красавица с замечательною роскошью пепельно-белокурых волос, волновавшихся над мраморным лбом. Строгий и чистый овал матово-бледного лица напоминал итальянских Мадонн XV-го столетия. Чудные темно-синие, почти черные глаза под густыми ресницами дышали за душу хватающею таинственностью темной летней ночи; то вдруг искры сверкали в них, как брильянты в полуоткрытом футляре из черного бархата. Задумчивый рот с несколько тонкими губами, казалось, только и мог произносить полные чувства и мысли слова… Под такою вандиковскою наружностью скрывалась очень непривлекательная сущность Фанни Львовны Белостоцкой, жены одного из знаменитейших художников нашего времени. Еврейка родом, воспитанная в одном из самых неприглядных захолустий Белоруссии, близко познавшая унижение и нищету, сперва в семействе отца, проспекулировавшегося маркитанта, потом и с мужем, начавшим художественную карьеру с расписыванья гербов на дверцах помещичьих рыдванов и достигшим европейской известности внезапно, в несколько лет, благодаря замечательной яркости и силе дарованья, – Фанни Львовна была озадачена и даже раздражена прежде никогда ей не снившимся блеском и богатством нового своего положения. Поэтическая задумчивость, никогда не сходившая с обворожительного лица, была маскою неотступной, мелкой заботы о том, чтобы не уронить себя в этом чуждом ей мире. Искры зажигались в таинственных глазах при мысли о тех крупных кушах, какие получал ее муж за картины, которыми он украшал новый Palazzo, строимый на Елисейских нолях Исааком Самойловичем Лилиенкейм, из товарищества Lilienkeim, Rosengürtel, Magenôd[48]48
Росток лилии (нем.), Розовый сад (нем.), Быстрый (фр.).
[Закрыть], блиставшего на финансовом горизонте уже давно, но покрывшегося новою славою во время последней войны, за неподражаемую отвагу и удальство своих операций по провиантскому ведомству.
С Волковою Белостоцкая видалась чуть ли не каждый день и ненавидела ее всеми фибрами своей сосредоточенно-страстной души; во-первых, за то, что Марья Андреевна, родившаяся в помещичьей семье, с детства освоилась с французским языком и теми привычками, которые упорно не поддавались напряженным усилиям Фанни Львовны; во-вторых, за то, что Волковой доводился мужем Илья Кузьмич, никому не сделавший ни зла, ни добра на своем веку, но, по странному немому соглашению, пользовавшейся всеобщею антипатиею.
III
Сам Илья Кузьмич Волков присутствует тоже в числе немногих гостей, собравшихся по особому приглашению в мастерской Степана Васильевича.
Сухощавый, приличный мужчина лет 37-ми, он обладал бы совсем заурядною наружностью, не говорящею ни за, ни против него, если б не голос его, созданный, как будто, самою природою для того, чтобы придавать вид шпильки, колкости, неприятности каждому слову своего хозяина. При всем том сомнительно, чтобы Илья Кузьмич был в душе злой или дурной человек; но существуют положения, в котором ехидство и злоба являются даже в голубиной душе, как бы ex offizio[49]49
По обязанности (лат).
[Закрыть]. Из числа таких положений горькая доля старых дев пользуется всемирною известностью. Волков был в столь сродном с этою участью положении официального художника, пробивающегося одними казенными заказами.
Правда, положение это приносило ему довольно крупные куши ежегодно, доставляло знакомство с разными… -ствами и украшения в петличку в торжественных случаях. Оно казалось даже очень завидным и заманчивым, пока он мечтал о нем, будучи вовсе безвестным художником, не обеспеченным даже в куске хлеба на завтрашний день, Но надо бы было обладать ангельским беззлобием для того, чтобы появляться годами на выставках с трехсаженными полотнами, на которые и публика, и критика обращали так же мало внимания, как на дежурного сторожа с его казенною ливреею и регалиями; чтобы сознавать, что заказы и поощрения давались ему, как награды за прилежание и благонравие послушному школьнику, независимо от каких-бы то ни было художественных заслуг, – и не озлобиться на всех, особенно же на тех удальцов, которые и известности, и заказов добиваются без прилежания и благонравия.
Только один раз некумовская критика обратила на Илью Кузьмича свое внимание. «Г. Волков, – писали в одной газете по поводу новой художественной выставки, – выступил в этом году с капитальным своим произведением. Каталог уверяет, будто бы оно должно изображать взятие Плевны. Картина эта без малого три сажени в длину. Интересно бы рассчитать, сколько дней товарищество Лилиенкейм, Розенгюртель и Магенёд кормило всех сражавшихся при Плевне героев на то количество рублей, которое счастливый живописец получил за свое, если и не великое, то во всяком случае длинное произведение».
После этого Илья Кузьмич окончательно порешил, что ему нет житья в России, так как эта злополучная страна вконец заедена всякими «убеждениями и направлениями». Порешил и тотчас же перебрался со всем своим скарбом и с новыми заказами в Париж, где ему еще удобнее оказалось переодевать в русские и турецкие мундиры фигурки бойцов, заимствуемые напрокат с батальных картин версальской галереи. Только в Париже Илья Кузьмич почему-то вообразил себя призванным играть роль не то покровителя собравшихся там русских художников, не то блюстителя их нравственной чистоты с точки зрения убеждений и направлений. Но так как каждый здесь, занятый своим делом или тревожным парижским бездельем, вовсе даже не замечал появления в этой всемирной столице творца трехсаженного взятия Плевны, то Илья Кузьмич прибег к тому классическому и чисто национальному средству, которым каждый доживший до благополучия россиянин напрашивается на внимание современников. Квартира его обратилась в даровой трактир, где каждый мог наедаться до отвала копченым сигом, осетриною или паюсною икрою.
Жизнь Ильи Кузьмича, как тропический год, делилась всего только на два времени года. Одно, длившееся пока длились полученные вперед под не начатую еще картину рубли, имело чисто масленичный характер. Мастерская в это время бывала завалена кузовками, жестянками и коробками, имевшими засаленный вид, издававшими острый бакалейный запах. Сам художник, если не бегал по знакомым и полузнакомым, созывая всех на готовившийся лукулловский пир, то с озабоченным видом рассматривал на свет, нюхал и смаковал подливки, соуса и разные спиртуозные жидкости. На беду, он обладал плохим пищеварением: некстати проглоченный кусочек балыка или не вовремя выпитая рюмка очищенной бутаражили его легко возбудимую желчь и расстраивали на целую неделю. Скуластая Марья Андреевна обращалась на это время в кухарку: собственноручно месила, парила и пекла какие-то необычайные пироги с неподражаемою начинкою, или, с Подарком молодым хозяйкам в руках, поучала краснощекую оверньятку Eulalie[50]50
«Хорошенькая Eulalie» (Элали) – здесь она из региона Овернь – фигурирует также и в повести Мечникова «Смелый шаг» (нельзя исключить и некий автобиографический мотив).
[Закрыть] тайнам русской кухни.
За масляницею следовал великий пост. Илья Кузьмич принимался за воплощение на новом трехсаженном полотне еще не начатого, но уже проеденного pendant[51]51
В пáру (фр.).
[Закрыть] к своему взятию Плевны, или же снова бегал по посетителям своих лукулловских пиров, но на этот раз с корыстною целью – призанять у того или другого из них стофранковый билет, до новой периодической поездки в отечество, обозначавшей перелом, за которым следовало вновь возвращение масленичного муссона. Всего же более в это великопостное время года он лежал на диване, с припаркою на правом боку, хныча, как больное дитя, брюзжа, как щедринский генерал, оттертый от доходного места «убеждениями и направлениями».
Добрая и скуластая супруга обращалась на это время в кроткую и терпеливую сиделку при больном, исполняя и эту новую обязанность все с тем же видом, который не покидал ее никогда и заставлял каждого ее нового знакомого предполагать, что она или не совсем успела проснуться от долгого сна, или же поглощена глубокою, неотвязною, неразгаданною ею самою думою.