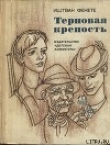Текст книги "Чертово колесо"
Автор книги: Михаил Гиголашвили
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
21
Дорога в кишлак Катта-Курам сливалась в одну слепящую ленту. Пилия с трудом приоткрывал то один глаз, то другой, не в силах смотреть на сверкающее шоссе. Собираясь второпях, он забыл солнечные очки, не сообразил купить их на базаре и теперь мучился от злого азиатского солнца.
В кишлаках разговорчивый шофер снижал скорость, и Пилия разглядывал стариков с подоткнутыми за пояс фалдами халатов, молодежь на велосипедах, невзрачных женщин в окружении многочисленных детей, белые стены глухих заборов, дома без окон.
Когда шофер узнал, что у Пилия всего одна дочь, то искренне рассмеялся:
– Да ты что, не мужчина? Вот у меня примерно десять детей! – начал считать их по именам, сбился, начал заново, наконец с трудом подвел итог и, довольный, стал хохотать во все горло и бить руками по рулю.
Всюду белел хлопок – в цветочных клумбах, на газонах, в садах, даже возле ветхих придорожных туалетов торчали коричневые кусты с белыми пушистыми шариками. Часто встречались чайханы. Под навесами на длинных скамьях, покрытых старыми лоснящимися подстилками, восседали по-турецки старики, а перед ними на столах дымились пиалы и лежала всякая мелкая снедь. Старики медленно пили свой бесконечный чай. Им спешить было некуда.
На автобусных остановках толпился темный люд. Узбеки в стеганых халатах, сидя на корточках около арыков, протекавших вдоль дорог наподобие сточных канав, пили чай, ели гороховый суп, самсу, манты, какие-то желтые лепешки. Тут же дымились длинные жаровни, где толстые мангальщики жарили кебабы и шашлыки на коротких палочках. В будочках торговали хлебом и лавашем. А в открытых ларьках с надписью «Гухт» на крюках висело синевато-красное мясо, облепленное зелеными мухами. Из машины все казалось застывшим, замершим. Узбеки с пиалами в руках провожали все движущееся мимо долгими сонными взглядами.
«Сюда бы рейд сделать!» – И Пилия мечтательно представлял себе количество добычи, которую можно захватить в этих глиняных дувалах. Ему вдруг вспомнился рассказ майора о том, как однажды, раньше, когда майор был еще лейтенантом, в Тбилиси выловили мужа и жену, торговавших чистейшим сухим развесным медицинским морфием. После допросов третьей степени в подвалах УВД выяснилось, что морфий идет из Чимкента, прямо с хим-фармзавода, еще теплый (в прямом и переносном смысле). Была создана выездная бригада из самых дерзких и способных сотрудников. В бригаду попал и подающий надежды лейтенант Маисурадзе, а также – для надзора за законностью – туда ввели и сотрудника прокуратуры. Они вылетели в Чимкент и буквально разбомбили местную мафию, наткнувшись на яростное сопротивление, в ходе которого, правда, был убит невезучий прокурор, да еще почему-то пулей в затылок. В протоколы изъятия записали мизер, на самом деле только молодому Маисурадзе досталась полная трехлитровая банка сухого морфия (сколько взяли другие, он не знал и знать не хотел). По приезде в Тбилиси майоры сразу подали в отставку по семейным обстоятельствам, капитаны пошли на повышение, а ушлый лейтенант Майсурадзе сделал свои первые крупные деньги и вскоре купил себе звание капитана.
В очередной раз отказавшись от зеленого насвая, который шофер постоянно совал себе под язык, Пилия спросил:
– Для чего вы это дерьмо сосете? Уж лучше опиум глотать! Кстати, где здесь самый лучший опиум растет?..
Шофер откликнулся:
– Опиум там, Киргизия. Тут нету! Ош! Ош! Слышал такой город? Ош! Там опиум! Ош! – а Пилия невольно повторил про себя странные змеиные звуки: «Ош-ш-ш…»
– Анаша тоше опасны стал, ошень! Камер сашают! – вдруг откликнулся с заднего сиденья старик.
– Кто сажает?
– Кито? Кирасный шайтаны! – буднично выругался старик. – Стары время шеловек анашу курил, тихо сидел, шай пил, стари-мали знал, уфашение имел… А коммунист пришел, сказал: «Анаша нет, плох. Водка пей!» И стал шеловек водка пить, как звер стал! Стари-мали не смотрит. В наша кишлак акисакала убили, ношом. Акисакала! – И он в возмущении вскинул сухие руки. – У сосета милиц десясь кило анаша нашел – три года тал! На суд он сика-сал: «У мине дети горот шивут. Одна сина один кило пиросит, как не дам? Другая сина другой кило пиросит – как не дам? А вы камер гонит!.. Зачема?»
– У нас бы за десять кило расстрел получил! – усмехнулся Пилия.
– Где у вас? – покосился на него шофер.
– В Грузии!
– А, гюрджи! Солнешны Грузи – солнешны Узибекстан! – воскликнул старик, заволновался, заклекотал что-то, и из его трахомных глаз выкатились слезы. – Сталин!.. Сталин-ака! Я вител, вител! – быстро-быстро произнес он сквозь всхлипывания, переходя от избытка чувств на узбекский.
Шофер стал переводить:
– Говорит, что он воевал, был на параде Победы в Москве, видел Сталина, что он Сталина любит, как отца… Говорит, что сейчас, когда на фото видит – всегда плачет. Вот видишь, правда плачет! – добавил он, показав пальцем через плечо, и Пилия, покосившись, увидел, что старик действительно плакал навзрыд.
Старуха, до этого молча спавшая рядом с мужем, открыла глаза и с недоумением смотрела вокруг, а старик, сморкаясь в подол халата, повторял:
– Сталин-ака! Сталин-ака! Какмошно! Водка, говорят, пей! – перемежая эти восклицания длинными узбекскими фразами.
– О чем это он?
– Говорит, что у нас все Сталина очень любят, уважают! Ленина – нет, он шайтанов привел, а Сталина – да, очень любят… – пояснил шофер.
– Разве Сталин не был таким же шайтаном? – удивился Пилия.
– Нет, нет, что ты! Как можно?! Слышишь, что старик говорит? Он хочет с семьей в Гори приехать, где Сталин родился. Порог дома поцеловать, барана в жертву принести, – переводил шофер.
– Пусть приезжает – гостем будет, – усмехнулся Пилия. – Пусть только десять кило анаши захватит, у нас ее очень любят все. У вас – нашего Сталина, а у нас – вашу анашу!
Шофер в очередной раз расхохотался и перевел его слова старику. Тот согласно закивал головой, вытирая лицо замусоленной тюбетейкой:
– Хоп, хоп! Гори!.. Гости! Наша! – и вновь зачастил по-узбекски.
Шофер только махнул рукой:
– Опять Сталина хвалит…
Некоторое время ехали молча. Тут Пилия заметил, что возле одного из домов сидят на длинной скамье человек тридцать сумрачно-небритых мужчин, а перед ними в большом тазу горит огонь. Шофер, уловив его взгляд, пояснил:
– Покойник тут. У нас так – тело закопают сразу, а потом день и ночь сидят, огонь охраняют… Старики говорят, что душа мертвого тоже тут сидит, не может сразу от близких уйти, слушает, что они говорят. Ей приятно, когда ее хвалят. Только через семь дней уходит, – добавил он, посерьезнев.
И Пилии стало жутко от его слов. Он представил себе нечто огромное, волокнистое, которое сидит, сгорбившись, около огня и чутко вслушивается в негромкие речи, не в силах ответить, не в силах уйти, не в силах жить. А потом, когда приходит срок, оно, колыхаясь, уходит прочь, а мужчины встревожено вглядываются в ночь, понимая, что вот только сейчас их друг отошел навсегда.
Подавляя в себе это видение, Пилия стал выглядывать в окно, сверять часы, пытаясь определить, где они и когда будут на месте. «Скорей бы, надоело!» – подумалось ему.
Вдруг из встречной машины высунулись два дула. Пилия, взвыв, полез под бардачок.
– Что такое, дорогой? – всполошился шофер.
Выстрела не было.
– Ничего, шнурок завязать, – глухо откликнулся Пилия и в зеркальце успел заметить, что это просто торчали ножки стула из окна проехавшей машины.
– Э, шнурок завязал, а голову чуть не разбил! – развеселился шофер.
Уже проехали Шахрихан, Балыкчи. Приближались к мосту через Сыр-Дарью.
– Тебе куда надо, напомни, – спросил шофер.
– Катта-Курам…
– Тогда через Джумашуй надо ехать, – почесал затылок шофер.
Вскоре они свернули с главного шоссе и поехали по дороге, тянувшейся сквозь хлопковые поля. Стали чаще попадаться грузовики с хлопком, перевязанным, как сено.
– Белое золото, чтоб оно сдохло! – вздохнул шофер, провожая глазами очередной КамАЗ. – Круглый год цветет, дышать не дает!
Около переезда через железнодорожные пути пришлось простоять довольно долго. Пилия от нечего делать стал рассматривать навес в поле: под ним стояли весы и сидел толстый узбек с красной повязкой. На столе лежала громадная амбарная книга, куда узбек что-то вписывал карандашом. Невдалеке от навеса, под маленьким тентом, несколько толстых мужчин ели плов с громадного блюда, широко загребая его ладонями. Они пригоршнями закладывали плов в свои рты, не обращая внимания на пыль, газы и грохот машин. Поодаль, прямо в хлопке, сидели женщины в косынках и тоже что-то жевали. А вокруг навеса, под палящим солнцем, стояла длинная очередь детей и подростков с корзинами, набитыми хлопком. Дети понуро ждали, не поднимая глаз, изредка зевая и ковыряясь в серой вате, выпиравшей из корзин.
– Бригадиры, кладовщики и завсклады жрут, как свиньи, а дети под солнцем стоят, ждут, пока они брюха набьют! – махнул головой водитель. – Моих детей тоже из школы на хлопок гонят! Шакалы!
Наконец показался мост через большую реку. Пилия удивился грозным, словно изрубленным саблей обрывам по обе стороны мощного русла.
– Сыр-Дарья! – торжественно объявил шофер, гордясь древней рекой. – Это значит: Мать-Дарья!.. Ее воду земля пьет, человек пьет, скот пьет, зверь пьет! – Вдруг, схватив Пилия за руку, он крикнул: – Смотри! Видишь, на другом берегу? Это все анаша, дикая. Видишь? Ты спрашивал – анаша. Вот анаша, все анаша!
И Пилия, проследив за его пальцем, увидел далеко на обрывах густые зеленые заросли.
– Ничего себе! – присвистнул он. Для него анаша всегда была в виде порошка или пластилина, а здесь она росла прямо из земли – подходи и рви! «За что ж действительно сажать в тюрьму, если так? – подумалось ему. – Как шиповник, кизил или виноград растет… И то растет, и это…
Сорвал, съел, выпил, выкурил – какая разница, кому какое дело?»
Вскоре они въехали в Катта-Курам.
– Куда? – спросил шофер.
– Тут, мне говорили, улиц нету? – протягивая деньги, поинтересовался Пилия. – Улица Ленина.
– Правильно, нету… Одна улица – и все! – ответил шофер, смеясь.
– Тогда поближе к номеру тридцать пять.
Около дома тридцать Пилия вышел. Двинулся вперед. Беленые стены из сырцового кирпича нестерпимо блестели на солнце. Он шел, а блеск стен по-прежнему резал глаза. В одном месте ему показалось, что из-за стены кто-то выглядывает, но успел взять себя в руки и миновал опасный участок.
Когда проходил мимо мощного забора, открылась калитка, и из нее вышли два узбека, причем Пилия с удивлением заметил, что за калиткой не видно пространства двора или сада, – глухая стена, начало лабиринта. Это почему-то разозлило его. Чувствуя спиной взгляды узбеков и наливаясь беспричинной яростью, он подумал: «Скрытные, мусульмане поганые!»
Дойдя до крашеной калитки с номером тридцать пять, Пилия решительно постучал в нее. Долго не открывали. Наконец мужской голос что-то спросил по-узбекски.
– Паико тут? Мне нужен Паико, – отозвался Пилия.
Калитка заскрипела, распахнулась, и за рябым толстым узбеком Пилия увидел щуплого лысоватого человека, который неприязненно спросил:
– Для чего тебе Паико?
– Меня послали помочь ему, – ответил Пилия.
– Вот как? – переспросил человек, что-то сказав узбеку. Тот недоверчиво подумал, но отошел от двери. – Входи!
Из душного колена предбанника попали в обширный двор. Повсюду лежали косы, топоры, серпы, цепи, ведра, какие-то мешки, холстины. На кольях заборчиков возле огорода торчали котелки, кувшины, висели седла и сбруи.
Рябой узбек осмотрел Пилию и, переваливаясь, отправился в дом, а Паико продолжал стоять.
– Гела! Тебе звонили из Тбилиси? – протянул ему руку Пилия, переходя на родной язык. Тот вяло пожал ее и ответил вопросом:
– А что они передали на словах?
– Велели везти товар в Тбилиси.
Паико неопределенно качнул головой.
– Мой адрес был только у Солико Долидзе. Раз ты здесь – значит, я должен тебе верить… – Он присел на корточки и повторил: – Я должен верить… Когда ты встречался с Солико?
– Я лично не видел и не знаю никакого Солико. Меня просили другие люди помочь тебе.
– Ах, вот как? Тебя наняли, что ли?
– Вроде того, – усмехнулся Пилия, выдерживая взгляд его красных глазок.
Паико, не мигая, смотрел на него. Действительно, Солико обещал прислать ему помощника, но чтоб так быстро, без звонка, без телеграммы… Сам Паико, после десяти лет лагерей не бывший еще в Тбилиси, мало ориентировался в тамошней обстановке. Из дома появился рябой узбек и жестом позвал их.
– Пошли, умойся, поешь, а там видно будет, – сказал Паико, вставая с карточек. – Ты торчишь, я вижу?
– Не особенно.
– На вот, если хочешь, подмолотись, – сказал Паико, вынимая из парусиновых штанов коричневый комочек. – Хороший опиум. Чаем можно запить.
В комнате без окон стоял низкий четырехугольный стол, покрытый множеством циновок, тряпок и косынок. Тут же лежали свернутые одеяла и длинные подушки-мутаки. Около стены, привалясь к ковру, спал морщинистый старик в тюбетейке. В руке у него была зажата палка.
Услышав шум, старик открыл глаза. Рябой (его звали Убайдулла) что-то сказал ему. В глазах старика мелькнул интерес – он жестом пригласил сесть, зевая во весь щербатый маленький рот. Рябой отрывисто крикнул во тьму соседней комнаты какое-то приказание, потом тяжело опустился возле стола на корточки.
– Ботинки снимать? – спросил Пилия у Паико.
– Сними, – по-прежнему коротко ответил тот, скидывая шлепанцы и ловко скрещивая ноги.
Пилия сделал то же самое. Старик некоторое время молча в упор разглядывал его, потом что-то произнес по-узбекски.
– Он говорит, если ты гюрджи, то зачем волоса светлый? И уса нету? – перевел рябой.
Пилия невольно улыбнулся:
– Не знаю, так вышло. Я мегрел, а мегрелы рыжие и голубоглазые.
– Как дорога была, хорошо? – продолжал переводить Убайдулла, запуская толстые пальцы в чищеные орехи.
– Да, все хорошо. Спасибо.
– Менты? – спросил рябой от себя.
– Нет.
– Сейчас Узбекистан много менты пришли. Жили люди тихо, аллах акбар, чего надо? У-у, менты, чтоб их семья умерла, чтоб у жен сиськи высохли, чтоб их дети сдохли! – добавил Убайдулла сурово и серьезно.
– Аминь! – ответил Пилия, у которого вдруг пересохло во рту от этой тирады.
Паико молча что-то жевал. Пилия впервые покосился на стол. Топленое масло в горшочке, какие-то белые шарики, орехи, гранаты, айва, застывшая масса гороховой похлебки и множество надломленных или объеденных хлебцев… Он решился взять только яблоко, перехватив насмешливый взгляд Паико.
Старая узбечка внесла большой чайник. Убайдулла собрал пиалы и быстро заполнил их, высоко держа чайник и ловко попадая струей в пиалы.
– Вот чай. Можно ханку выпить, – сказал Паико, передавая пиалу с зеленым чаем.
Пилия запил опиум и оставил пиалу в руке: стол, стоящий на ковриках, был чересчур покат, с него все могло съехать, что, впрочем, никого не беспокоило.
– Сколько здесь опиум стоит? – спросил он у Паико.
– Не знаю. Можно и бесплатно взять. А можно и за миллион не получить, – уклончиво ответил вор. – Тут у них своего опиума нет. Привозной, из Киргизии.
– Киргизия? Ош?
– Да.
– По дороге шофер тоже говорил, что опиум идет из Киргизии, – вспомнил Пилия.
– Правильно сказал, не соврал. А тебе зачем?
– Просто интересно.
Когда Пилия выпил очередную пиалу, Убайдулла опять что-то громко крикнул. Появилась старуха, унесла чайник и принесла новый.
– Что это она? В чайнике ведь есть чай? – удивился Пилия.
– Так у нас принято – чай менять. Из уважения. Чтоб всегда горячий был.
Старик спросил, как чувствует себя Пилия и все ли в порядке у него в семье. Услышав, что все в порядке, удовлетворенно кивнул и закемарил.
Так, в бессмысленных разговорах, прошло время: старик то отключался, то опять о чем-то спрашивал. Пилия что-то отвечал, ощущая, как начинается затмение. Вскоре он отяжелел. Стало неудержимо клонить в сон. Изредка поднимая веки, Пилия ловил на себе взгляды и думал о том, что опиум оказался слишком крепким – глаз не открыть, руками не двинуть, какие-то черные клубы роятся в голове…
– Что это со мной? – с трудом проговорил он, пытаясь встряхнуться.
– Ничего, порядка, лежи тиха, аллах акбар, – ответили ему из тьмы…
22
Кока валялся в постели, сквозь дрему обдумывая, где достать денег, чтобы уехать в Париж. Дома – шаром покати. Перевода от матери еще ждать и ждать. Украсть у бабушки нечего. Кока на всякий случай наведался в ее комнату и поверхностно осмотрел все нехитрые тайники, известные ему с детства. Всюду пусто. Бабушка на кухне жарила капустные котлеты. В гостиной Кока в рассеянности побродил вокруг стола, с отвращением поглядывая на блеющий голосом Хасбулатова телевизор.
Он повалился снова в постель и тоскливо задумался о том, что с ним происходит. И когда это началось… Когда появился тот проклятый призрачный колпак кайфа, который кто-то упорно напяливал на Коку?.. Колпак покрывал с головой, отрезал от мира, отделял от людей: вот тут он, Кока, а там – все остальное. Смотреть на это «все» со стороны было куда приятнее и интереснее, чем копошиться в этом «всем». Жизнь казалась не в фокусе. Скорее – фокусы жизни, в которых он участвует, но отдален и отделен от них. Напоминает взгляд в зеркало во время секса: это ты, но и не ты.
Кайф проходил, колпак съезжал, лопался, оставляя наедине с пробоинами в душе и теле, когда ломка крутит колени, сводит кости, а ребра становятся резиновыми. И было отвратно холодно без колпака. Мозг и тело просились назад, под спасительную пленку, хотя известно, что жизнь под этим мыльным пузырем коротка, он неизбежно получит пробоину, лопнет, сгинет, оставив после себя страх смерти, и трупный холод одиночества, и горестные мысли: «Жалкий ничтожный урод, зачем ты родился? Что тебе надо на Земле? Кем ты сюда приглашен?»
И не было не только ответа, но и никого, кто бы этот ответ мог дать. Зато под колпаком в голову лезли разные ответы, все хорошие и ясные, один лучше другого. Они мельтешили до тех пор, пока колпак не разрывался, как презерватив, лишая защиты и тепла, и жизнь принималась молотить и молоть дальше.
Поначалу Кока сторонился наркотиков, но после первой же мастырки понял, что без этого ему не жить. Появилось то, чего он ждал все свои шестнадцать лет, без чего маялся, грустил, тосковал. И наконец нашел. Он успокаивал себя тем, что и с другими происходит то же самое, что игра стоит свеч. Но какая игра? И что за свечи? Игра-петля, а свеч как не было – так и нет.
«Откуда такая напасть? – недоумевал Кока, слыша рассказы о том, что кто-то ворует морфий у больной раком матери или у медсестры, вытащив из ампул наркотик для продажи, вкатывает умирающим пустышки, или сын убивает отца из-за денег на опиум, или брат заставляет сестер блядовать ради «лекарства» либо «отравы» – называй как нравится.
Но все было тщетно. Побарахтавшись в редких угрызениях трезвой совести, Кока опять искал той власти, которая тащит его за призрачную, но ощутимую грань, влечет под стеклянную перевернутую ступу, где можно отсиживаться, безопасно взирать на мир, наблюдать за балаганом жизни.
Если первые мастырки были приятны и увлекательны, то первые ампулы ошарашили, ошеломили: колпак оказался не снаружи, а внутри, распирал вдруг нахлынувшей умильной вежливостью, радостью, добротой и нежностью ко всему сущему. Хотелось делать приятное, ласковое, хорошее, тянуло общаться, копошиться и копаться во всех делах. Разница между гашишем и морфием оказалась столь же разительна, как между трезвостью и гашишем.
Время под гашишем тянулось резиной или мчалось колесом, а под морфием застывало на месте, превращаясь в одну длинную бесконечную распорку-негу. Чем больше доза – тем любовь к миру сильней. Но чем больше доза – тем страшней потом и ломка, когда ненависть, слабость и болезнь начинают гнуть и корежить опустевшее тело. Мыслей и чувств нет, только крик, и плач, и мольба о дозе. Любовь превращена в прах и правит только волчий страх и вой… Стоит ли игра свеч – каждый решает сам…
Безрезультатно облетев мыслями все возможные пункты, где можно занять или выпросить денег, Кока без особого энтузиазма вытащил из-под матраса косячок вендиспансерской трухи, запихнул ее в сигарету. Жить стало как будто легче. Но совсем чуть-чуть. Труха была отвратная. Беседы с Хечо ни к чему не привели: тот божился и клялся всеми частями тела, что пакет совершенно обычный, жирный.
Но отвратная анаша – это все-таки лучше, чем вообще без анаши. Кока стал оглядываться осмысленней. И даже улыбнулся, заметив в кресле книгу, принесенную кем-то для смеха. Это был какой-то учебник, где черным по белому написано, что все на свете состоит из морфов и морфем.
«Морф и морфема! Морф и морфуша! Морфик и морфетка!»– хохотали они над глупой книгой, где буковки, как звери в клетках, были заключены в квадратные скобки, и объяснялось, что «морфы и морфемы могут быть свободными и связанными» («Ясное дело! Одних уже повязали, а свободные еще бегают!») Но оказалось, что свободными бывают лишь корневые морфы («А, эти вроде воров!»).
А во главе всего стоят алломорфы – «Цари!» Называлась вся эта катавасия «Морфемика».
Зазвонил телефон, и Тугуши заговорщически сообщил, что его познакомили с двумя приезжими проститутками, которые за деньги показывают «сеанс любви», а потом трахаются со зрителями.
– Надо бы в театрах такое правило ввести, – вяло откликнулся Кока. – Хотя вряд ли актрисы выдержат половину зрительного зала.
Но Тугуши не собирался шутить:
– Не могу сейчас говорить, я с работы. Бабы в кабинете у директора, сейчас их везут в Кахетию, на сеанс. В общем, надо найти деньги.
– Не только деньги, но и кайф, – уныло уточнил Кока. – Без кайфа мне никакие сеансы даром не нужны. А труха, что я взял, вообще беспонтовая, только башка от нее пухнет.
– Может, у Нукри осталась хорошая дурь? – предположил Тугуши.
– Я вчера уже просил. Не дал.
– Раз не дал, значит, еще на недельку имеет, – заключил Тугуши.
– Тут ничего не поделаешь, – печально согласился Кока: всем известно, что последнее никто не отдает – отдают предпоследнее, выдавая его за последнее. А последнее оставляют исключительно для себя.
Тугуши пообещал заехать через час. И не соврал. Успел как раз к котлетам, сервированным на метровых в диаметре тарелках с хрустящими салфетками. Бабушка сидела рядом в кресле и смотрела телевизор, где потный Хасбулатов вел заседание съезда и поминутно снимал сушняк, отпивая воду маленькими глоточками.
После котлет приятели ушли в другую комнату, и Тугуши рассказал все, что знал о приезжих проститутках. Зовут их Катька и Гюль, они из Москвы, сейчас живут у одного доходяги на хате, кочуют по компаниям, показывают сеанс лесбоса, а потом их можно по разу отпороть, причем Гюль так свихнута на сексе, что под горячий член и крепкую руку дает и без денег, только надо успеть засунуть, пока она в себя не пришла после сеанса. А ее подружка, Катька, от работы отлынивает, зато охотно рассказывает по секрету всему свету, что Гюль – дочь больших людей из Алма-Аты (отец казах, мать русская), учится в МГИМО, деньги у нее есть, но она очень любит секс, особенно с кавказскими, так почему бы турне не сделать, на солнышке не погреться, а заодно и пару копеек не зацепить?.. Катька держит общую кассу и безбожно надувает чокнутую Гюль, которая ни о чем, кроме оргазмов, думать не может – они из нее сыплются, как из рога изобилия.
Потом Тугуши сообщил, что у девочек уже были первые неприятности: где-то тайком засняли сеанс на видеопленку и шантажировали милицией, где-то кинули, не дали денег, где-то отказались от глупого сеанса, но взамен так затрахали до полусмерти в групповую, что даже крепкая Гюль, которой все нипочем, неподдельно стонала, обмазывая мазью анус, куда ей сунули дуло пистолета, когда она попыталась от чего-то увильнуть.
– А сам ты их видел? – спросил Кока.
– Мельком, когда они в кабинет к директору входили, – замялся Тугуши, но тут же заверил: – Хорошие бабцы. Ребята их в долг трахали. Представляешь, эти дурочки в долг давали и в блокнотик записывали, кто сколько им задолжал!.. Писали, например: «Пятнадцатое сентября: Дато – три орала, Отар – два анала, Вахо – два простых. Шестнадцатое сентября: Бидзина – два анала, Нодар – три орала»… – развеселился Тугуши. – И чем кончилось? Этот блокнотик у них выкрали, и счет пришлось начинать заново. Так что они сейчас настороже.
– Нам это нужно? – лениво переспросил Кока, привыкший в своей кочевой жизни мастурбацией решать все проблемы: есть что-нибудь съедобное, живое – хорошо, нет – сухпайком можно обойтись. В Тбилиси приходилось пробавляться, чем Бог послал. Эра целок еще не закончилась, хотя эра свободного секса уже наступала. – Видел я эти сеансы. В Париже блядей больше, чем людей!
– Все люди бляди, сказал Шекспир, слезая с Нади! Так посмотреть – все недотроги, а в постели хуже сатаны, – глубокомысленно поддакнул Тугуши.
– В этом и есть самый смак, – засмеялся Кока. – Сидит себе женщина, вино пьет, беседует, а потом вдруг – раз! – и уже член сосет. – Щеки Тугуши, и так розовые, как поросячья шкурка, стали цвета его рыжих волос. – Вообще наше счастье, что бабы нас силой брать не могут, а то заизнасиловали бы насмерть! Слава богу, природа мудро устроила: мы их насильно трахать можем, а они нас – нет.
– Сеанс можно провести у меня на даче в Цхнети. Отец в Батуми в командировку уехал, а мать в город спустилась, скучно ей одной на даче сидеть, – вернулся Тугуши к обсуждению деталей.
Его новая идея была уже получше. Отец Тугуши – большой начальник на железной дороге, у матери больные ноги, а дача стоит в укромном месте, где никто не потревожит. Но это не снимало проблемы денег и кайфа.
– А без сеанса нельзя? – поинтересовался на всякий случай Кока. – Может, дешевле будет их просто потрахать в долг?
– Нет! Без сеанса нельзя, – строго ответил Тугуши, чувствовавший себя ответственным за серьезное дело. – Только со сеансом! В долг уже не дают, надавались на тысячи.
Они решили позвонить Нукри, которого это могло заинтересовать (если любит порножурналы, то и от живого товара не откажется). Нукри выслушал и односложно ответил:
– Давай. Что-нибудь найдем. Сегодня не могу – на панихиду иду. Завтра. Бабы хоть молодые?
Курочки-конфетки! Бабцы в соку! – заверил Тугуши и тут же сдуру сболтнул, что Катька худа и сутула, как морщинистая трость с набалдашником, а Гюль от обильной еды и спермы поправилась в Тбилиси на шесть кило.
Немногословный Нукри хмыкнул и повесил трубку. Тугуши побежал искать доходягу, у которого они жили. Тот исполнял при бабах роль секретаря – они доверяли ему, и он один знал расписание их дел и сеансов.
А Кока поспешил достать из Монтеня остаток трухи. Он всегда рассовывал свой кайф по книгам, хотя после недавнего прокола с Блоком стал прятать выше, справедливо полагая, что бабушке до верхних полок дотянуться будет труднее. Он был уверен, что бабушка регулярно осматривает его комнату, вещи, кровать, а стол даже изучает под лупой, иногда выковыривая крошки анаши и предъявляя их Коке, который кидал находки в рот, жевал и, демонстративно чавкая, говорил: «Хлеб! Простой хлеб!» А книг, сколько их Кока не сдавал книгоношам, все еще имелось в обилии.
Он предпочитал прятать гашиш в одиночные тома, избегая собраний сочинений после того, как умудрился один раз запихнуть отличную туркменскую дурь в девяностотомник Толстого и с трудом нашел ее только в шестьдесят восьмом томе, вывернув все книги на пол и объясняя испуганной бабушке, что Толстой ему нужен для статьи. Бабушка посоветовала обязательно проштудировать дневники Черткова. «Ага, бегу!»– язвительно думал Кока, украдкой вытаскивая дурь из «Воскресения» и давая себе слово впредь не связываться с классиками. Книги в библиотеке были старые, добротные, собранные по приказу бабушки ее мужем-чекистом из конфискованных библиотек.
Трухи в Монтене хранилось достаточно – и на сегодня, и на завтра. Кока понес ее на кухню, где всыпал в платок и украдкой заварил над паром кипящего чайника в тугой и гладкий шарик. Бабушка не заметила этих манипуляций, воюя с тарелками и сковородами.
Назавтра позвонил Тугуши и важно сообщил, что все в порядке, бабы готовы, но в одной машине все не поместятся, так что он с актрисами поедет на «Ниве» доходяги, а Кока с Нукри пусть сами доберутся до Цхнет.
В назначенное время Кока вышел во двор и принялся ждать. Нукри вечно опаздывал, потому что никогда не выходил из дома без полного глянца. Он всегда был тщательно выбрит, аккуратно причесан, одет с иголочки, хотя никогда нигде не работал и жил на деньги брата, директора бензоколонки.
Они поехали в конец Ваке, к старому кладбищу. На остановке такси печальный кладбищенский народ мешался с веселыми молодыми лоботрясами, едущими в Цхнеты. Сговорившись с шофером, подсели в машину к двум дамам в белых шляпках.
Дамы обсуждали городские сплетни. Шофер изредка поругивал правительство. А Кока перемигивался с Нукри, который зорко поглядывал из окна на дорогу, придерживая рукой галстук – не было бы рейда… В последнее время на этой дороге участились проверки и обыски – менты тоже понимали, что без кайфа никто на дачи не ездит. У Нукри пакетик с порошковым кодеином был запрятан в галстук «Тривьера», под массивную этикетку фирмы. А свой шарик Кока сунул в обшлаг короткого рукава рубашки.
Около нужной дачи они вышли. Ржавая «Нива» дворняжьего цвета была предусмотрительно брошена в стороне от дачи. Открыли калитку во двор, поднялись на второй этаж. Артистки на кухне пили шампанское. Катька в мини-юбке напоминала клоуна на ходулях. Здоровая Гюль, с губами, как у рыбы-гупии, довольно улыбаясь, уплетала торт. Когда она отнимала бокал от губ, то губы тянулись вслед стеклу, словно нехотя отлипая от него. («Трудовой, рабочий рот!»– усмехнулся Нукри.) Белая маечка натянута на дородную грудь, персиковая кожа скуластого лица отсвечивала розовым. Темные шалые глаза плотоядно шныряли по ширинкам парней. Она покачивала ногой в плетеной сандалии. Накрашенные ноготки горели алыми точками.
В комнатах Тугуши готовил родительскую постель к сеансу. Доходяга возился со светом. Все было готово. Оставалось принять кодеин, но Тугуши предложил вначале выпить по сто граммов, «желудок открыть». Никто не возражал.
Все, включая артисток, попробовали понемножку из разных бутылей. Настроение сразу поднялось. Доходяга пошел налаживать магнитофон для записи (чтобы кассету потом раздавать как рекламу). Против звукозаписи девки не возражали, но на видео сниматься категорически отказались – если пленка попадет в милицию или еще куда хуже, то у родителей Гюль в Алма-Ате могут начаться неприятности, а голоса и стоны на кассете – ерунда: пойди докажи!