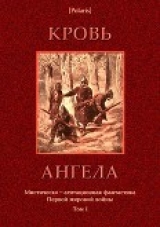
Текст книги "Кровь ангела
(Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Том I)"
Автор книги: Михаил Фоменко
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Н. Киселев
КОЛДУН
Илл. С. Животовского

Нюшка никогда не верила, что ее дед колдун, но ей ужасно хотелось уверовать в это свято и нерушимо. Забившись с Палашкой в срубы и там еще присев в дремучий репейник, чтобы их уже никак никто не мог увидеть, разбирали деда по косточкам. Нюшка все сомневалась и колебалась, а Палашка, умевшая видеть одно хорошее и настоящее, прямо говорила:
– Штаны у него колдуньи, рубаха тоже. Он идет, а дух ему дорогу показывает.
Нюшка знала, что дед слепой, но она думала, что дорогу ему показывает не дух, а палочка, которой он тычет в землю перед собой. Узнавши от Палашки, что дух, она сразу все сообразила и с ликованием поверила.
– И верно! – сказала она.
Они взялись за руки и, запищав, выпорхнули из репейника. Вопрос был решен, и делать там стало нечего. Но дома Нюшку опять взяло тяжелое раздумье. Штаны у деда были такие же, как у всех, рубаха тоже. Нюшка попробовала пальцем глаза у деда, закрываются ли – глаза закрылись.
– Дед, ты колдун? – наконец, спросила она у самого деда.
– Что это, девочка? Какой я тебе колдун? – прямо ответил дед, без всякой хитрости.
Нюшке так жалко было расставаться со своей мечтой, что на другой день она горько нажаловалась на него Палашке.
– Запирается, – заплакала она.
– А, запирается! – обрадовалась Палашка. – А ты его выведи на чистую воду.
– Я не умею.
– Слушай, девчоночка, – степенно, совсем как старуха, поучила Палашка. – У меня батюшка все знает – он одной рукой сто пудов поднимает. Если, говорить, колдун запирается, его надо на чистую воду. От него каждую ночь свечка ходит сама в хлев нечистому духу молиться. Надо только ночь не спать.
Обе с ужасом выпучили глаза друг на друга, потрясенные этой странной свечкой, и Палашка уже не в первый раз.
Ночью Нюшка старалась не спать, рассматривая какие-то золотые закорючки и сеточки, дрожавшие во тьме перед глазами. Потом закорючки пропали, промчалась в хлев молиться свечка. Нюшка – за ней, провалилась куда-то глубоко и вдруг уснула. Проснулась она белым рассветом от испуга, что уснула, глянула за полог к деду – деда нет, значить, прозевала. Нюшка запустила руку под кровать, нащупала там теплого щенка, забившегося в отцовский валенок, вытащила и стала им утешаться. Как вдруг дверь отворилась, и за порог шагнул сам дед. Под мышкой он тащил громадную рыжую книгу, крышки у которой загнулись, как лодочки, а в руке держал тоненькую желтую свечку. Самое главное – свечка была налицо, и Нюшка вся обомлела.
Пока глаза ее, не мигая, застыли на свечке, книга у деда куда-то девалась, свечка легла на божницу, а сам дед повалился на постель, так что Нюшке стали видны теперь одни широкие подошвы с прилипшим песком и зеленым листиком. Нюшка смотрела-смотрела на них и опять уснула.
Опять Нюшке снилось что-то колдунское и очень явственное, но когда она проснулась, солнце резало глаза, и темный сон пропал без следа. В избе никого не было, все ушли на работу, и даже дед, верно, потащился на огороды сидеть вместо пугала. Было тихо и душно, летали мухи, и беззвучно играла кошка с котенком. Только грузный слепень, видимо, давно сошедший с ума, гудел на пузырчатом стекле, силясь вырваться наружу, а с другой стороны такой же тоже бился о стекло – тому хотелось попасть в избу.
Нюшка побежала искать дедову книгу – заглянула под дедову кровать, под комод, под кадушку. Свечка лежала, как вчера, а книги не было нигде. Зато Нюшка нашла на стене интересное и очень ценное медное колечко. Она его схватила, но колечко было прибито. Нюшка дернула, что есть силы, колечко отскочило от стены, вместе с ним и какая-то дощечка, и вдруг Нюшка увидала перед собой ее самую, рыжую дедову книгу с переплетами, как лодочки. Тяжесть в ней была непомерная, и Нюшка насилу грохнула ее на пол. Вся она снаружи была закапана белыми пуговками воска, опалена огоньком свеч и так славно пахла церковью. Углы окованы старым серебром, и потускнели и потемнели, и всюду на них из серебра какие-то страшные хвосты, головы, пасти и жала. Нюшка оперлась голыми ножонками в корешок и обеими руками отвернула крышку. Показались на глаза полинявшие красные буквы, все больше Нюшкиного пальца, из цветов и яблоков, а рядом с ними какие-то черные кружки, мертвые головы и гробы, и смерть, и тление. И дальше, листок за листком, все они же, и все краснее буквы, и все чернее головы и гробы. И как ни искала Нюшка какой-нибудь интересной картинки, ничего не нашла, кроме них, только измаялась вся и перепугалась, и уж сама не помнила, как втащила книгу на место и закрыла дощечкой.
Когда Нюшка выскочила из избы на улицу, на сухой зной и пыльную дорогу, она уже отлично знала, что в этой книге сказало, как надо вызывать бесов.
Палашке же еще яснее и точнее видно сделалось, что там же есть и о том, как и за сколько можно продать бесу свою душу.
– Ой, девонька, только узнает он все об тебе! Колдуны все знают, только понюхают, – пела она не хуже старухи Марьевны.
Нюшка весь день дрожала от страха, что дед узнает. Но дед два раза заходил с огородов в избу – раз похлебать тюри, в другой раз разуться – и ничего не узнал. Нюшка радовалась, что он не понюхал книги.
Вечером, как всегда, дед рано лег, но Нюшка опять решила не спать, и на этот раз каким-то чудом, в самом деле, не уснула. К полночи взошла луна, в избе стало светло, засеребрились в углу ведра, заблистал на стене качающийся маятник, засияла у порога клетушка с желтою соломой. Только в дедовом углу было по-прежнему темно, а если всматриваться туда, то покажется вдруг слепо там чей-то палец или мелькнут какие-то рога – лучше не смотреть.
Но вот там что-то скрипнуло, зашуршало, кашлянуло, поперхнулось. Дедовы подошвы исчезли и очутились на полу, поднялась его взлохмаченная голова и, творя Господню молитву, дед поплелся к стене, где книга. Нюшка думала, что уж теперь-то дед узнает все непременно, но видно, он опять не понюхал. С книгою под мышкой он зашлепал босыми ногами в дверь. Нюшка шмыгнула за ним. Роса густо и мокро выпала по домам, лугам и дорогам, но дед прямо босиком пошел по высокой траве на задворки и там попал на жесткую тропинку к гумну и до того прямо, без ошибки, словно бы глазом наметил. Шел он без палки, а и на тропинке каждую лужицу обходил сторонкой. Вот так слепой!
На гумне дед выбрал из угла деревянные вилы покороче, поставил их наземь вниз тремя зубцами, прилепил к черенку свою свечечку и затеплил ее от серничка, а книгу развернул и положил на телегу.
– Ночное бдение! Начало, – возгласил он громко и велеречиво, воздел руки к небу и затем поклонился земно.
– И покарай Господи царя Мамая и всех немцев его, и всю рать его семисотенную… – стал он покрикивать звонко и часто. – И еще покарай, Господи, всех присных его, пламя извергающих Пупа и Крупа, и дом Твой учреди во Иерусалиме-граде. И еще покарай, Господи…

Дед живо переворачивал лист за листом и водил по ним пальцем вкривь и вкось, высоко подняв голову и вычитывая словно из воздуха невидящими глазами все свои ужасные заклятия – но без книги, видимо, он молиться все же не мог. Никогда Нюшка не слыхала таких ужасных слов, как Мамай и немцы и рать семисотенная, и ей показалось, что это все бесы, и их дед вызывает и будет сейчас как-то карать. Нюшка не выдержала от страха и жалости к этим бедным бесам и изо всех сил заработала голыми ножонками по густой граве назад домой.
А утро вспугнуло все село, и слово «немцы» не сходило у всех с языка. Кое-кто плакал, кое-кто причитал, но все говорили, что идут, что недалеко, что страшно, и что Бог весть, что будет. Нюшка понимала, что двигается к ним откуда-то что-то очень неприятное, но она не могла взять в толк, о чем тут можно беспокоиться. Раз у них есть такой колдун, как дед, мамка может спокойно качать зыбку, а отец раскуривать трубочку, – дед возьмет, всех вызовет и покарает. И Палашка понимала все это совершенно так же.
Ночью Нюшка опять отправилась за дедом – она тянулась за ним, как морфинист за морфием. Но, помня вчерашний страх, не пошла к самой риге, а присела на задворках у плетня, на каком-то старом веретье. Отсюда хорошо видно было, как затеплилась желтым огоньком свечечка, как раскрыл дед книгу и стал перед нею истово и достойно.
– И покарай, Господи, Эфиопа венского и венгерского, и эфиопа туркменского и аспидов его. И нам незрящим, поле брани не видящим дай крепость духа Твоего! – возглашал дед, и на этот раз Нюшка внезапно отчетливо увидела, как над головой деда, словно, два серых пальца, выскочили вдруг два острые рожка.
Вслед за этим дед стал наливаться-наливаться светом, сделался весь пламенный и отошел к сторонке, а перед Нюшкой вдруг открылось широкое чистое поле, дремучий лес и громадное болото. И идет по полю сама рать семисотенная.
– Видишь ли врага? – кричит дед.
– Вижу! – пищит Нюшка.
– Гляди, как я их покараю.
Он протягивает туда светоносную руку, и болото вдруг трогается с места и начинает грузно ползти навстречу людям, а поле плывет и отходит назад, и темный лес непроходимый тяжело движется стороной и громоздится на поле, и нет назад пути. Тонут лошади и люди, и протягивает дед другую руку. Могучий лес проходит по болоту и сравнивает все, и вновь стоит прежнее чистое поле на прежнем месте, и далекое пустое болото между ним и лесом. Пусто все и тихо, только солнце жжет и светит, да слышен где-то материн голос.
– Да вот она! – говорит мать, – экая баловница! Мы уж думали, в реку упала.
Нюшка подымает тяжелую голову, видит, что она лежит калачиком на веретье, глядит на солнце и на мать, но понимает, что хотя это все и настоящее, все же куда не такое дельное, как там.
– Как он враг-то! – говорит Нюшка матери с сонною улыбкой. – Сразу все пропали!
– Ишь ты! – смеется мать. – Набубнили тебе за день голову-то. А и вправду пропали. Рассыпались.
– Он колдун. Он все может, – говорит строго Нюшка и, махнув рукой матери, чтобы не мешала, снова в глубокой и счастливой дреме валится на горячее веретье, чтобы еще раз увидать колдуна-деда.
М. Сазонов
БЛАГОДАТЬ СОШЛА
На том самом месте, где Выг-река от свету Божьего в зыбкую мшанину прячется, скит «Голубей, людей Божьих» стоит. Испокон веку, еще при Аввакуме-отце обосновались «голуби» на тех местах: люба им сторона залесная, непротоптанная-непроезженная, ока начального далекая…
И живут себе.
Праведно живут «голуби», – с утра до вечера стихи поют немудрые, досюльного склада. Вина там, аль блуда никакого и в помине не было: избегали женской прелести «голуби», – больше друг друга держались.
Лишь два греха водились за «людьми Божьими»: до подати, да солдатчины были неохочи… Слово священное: «Кесарево – Кесареви, а Божье – Богови» – на свой манер толковали. Как подойдет, бывало, время «некрутчины» – и схоронятся по лесным борам да болотным становищам. Попробуй-ка сыскать.
А то просто «большую печать» на естество клали, а уж известно, какой воин, ежели да он скопец…
Никакого мужского в нем духу нет, ни усов, ни бороды, слабость бабья да и голос тонок.
И полагали «голуби», что Завет Божий выполняли; гордились тем, что крепкой да стариками налаженной жизни не ворошили.
Случалось, приходили к ним от «поповцев» просветители с книгами… Спорили… До грыжи надсаживались… А «голуби» все свое: «Жизнь наша праведная… От стариков пошла… Недаром благодать Духа Божья в виде голубином над скитом обитает».
И впрямь, – испокон века над молельной голубь-птица в резной камбушке-голубятнике жил… Думали «люди Божьи»: нарушь, ворохни жизнь, что стариками налажена, – улетит Благодать Божья, а с ней и птица голубь.
Вот, почитай, уж лет 20, как в том скиту «большухой» стоит мать Манефа.
Муж, покойничек, прижил еще двух сыновей Илью да Михайлу. Крепко Манефа любила парней, – не было поста-молитвы-деянья, чтоб не сотворила она ради спасенья их душ.
Старшего Илью в «большаки» скитские готовили, а потому, как пришел ему черед в солдаты идти, «большую печать» над ним совершили да на придачу еще схоронили парня к «сегозерским братьям», в места уж совсем непролазные, куда не всякая и птица то залетит, не всяк зверь забежит. С легким сердцем весь «чин» оскопленья совершила над сыном Манефа, потому полагала: закон, положенный стариками, сотворила…
Прошло времячко «некрутчины» – вернулся Илья и зажили… А тут и весна подошла… Лето… Про войну стали калякать… Антихриста… И крепко радовались «голуби», – радостно было и у Манефы на сердце: отстояли парня… А то… всяко могло случиться… И убили бы, чего доброго…
И задумали тем летом «голуби» новую молельню строить. На лесную вырубку гурьбой навалили…
А как переправлялись через реку, – лес тогда по реке гнали, и поскользнулся Илья… Не успели «голуби» креста сотворить, как сплотились уж бревна над его головой.
Погиб парень…
Поникла головой Манефа, услыша ту весточку, но не взвыла, не заохала, лишь с укором на небо взглянула да на глазах у всех лицо ее осунулось, нос на манер птичьего заострился, крепко-накрепко губы сжались, вздох затая…
Михайле пришел черед в «большаки» становиться.
Часто, бывало, уставится Манефа на парня и молчит, молчит… А глаза-то – ни дать, ни взять – будто на иконе старинного письма, так тоской и горят… Запала, видно, большая дума в Манефино сердце: иножды вырвется взгляд из-под надвинутого на самые глаза черного платочка, а нет уж в нем прежнего покоя.
Нет того, чем жизнь «голубей» допречь крепка была.
И чем ближе подходило время ставить Михайлу в скитские «большаки», тем все большее смятенье охватывало Манефину душу.
А тут еще сны донимать стали.
Вот, почитай, в третий раз одно все снятся: стоят врата на манер царских, и ведут к ним две пути-дороженьки… А идут по тем путям людишки… хрещеные… Вида невзрачного, с костылями-посошками – ни дать, ни взять – калеки с Божьей паперти… И одежонка-то рухлая. Так, – одно слово: голь перекатная. А у врат стоит Иоанн-Воин, приветно в пояс калекам тем кланяется и голосом ласковым выговаривает: «Подьте, гости желанные… Потчуйтесь, гоститайтесь у стола Царя Небесного».
Диву далась Манефа: и чего ради честь такая шантрапе перекатной?
«Воины… рать воинская… Живот свой за други положившая… Слышала, небось, про войну-то, – так оттуда все гости дорогие. И честь им потому великая, что самую большую они заповедь исполнили», – говорит Иоанн-Воин.
Головой покачала Манефа: и впрямь чудно… Инако учили «голубей» рукописные книги праведных старцев, инако и сами «люди Божьи» полагали праведную жизнь во спасенье.
Покачала головой Манефа, да на другую путь-дороженьку взглянула… На ту, что по-ряду с первой бежала… А как взглянула, да так и ахнула, так и заклекнулась: «О, Господи, Твоя сила!».
Видит, стоит он, Илья покойный… Как обряжали во гроб: в посконной поддевке, руки на груди крестом… Стоит, молчит, а в глазах… До самой смерти не забыть Манефе того взгляда… Умрет, с собой в землю унесет она сыновний попрек…
А голос Иоанна-Воина так и рокочет:
«Притчу-то о званых на Вечерю забыли?.. Побрезговали зовом Царя Небесного?.. Мамоной ослепились? А того не ведали, что через войну, да через страданья и слезы, как через пиршественную храмину, Господь вас к спасенью звал…
Не откликнулся кто, – сам себе затворил двери к вечной радости… И сядут на почетных местах – те убогонькие, с посошками да костылями. Сядет рать воинская…»
Открыла глаза, села на постель Манефа, – вся в холодном поту от виденья…
«Погубила… погубила, окаянная, свое детище… Своими руками двери к радости затворила», – лепетала она, щелкая зубами. Вдруг, словно кольнуло что «большуху», ажно вся выпрямилась… А это звон через ставню прокрался, к полуночнице «голубей» кликая.
Вспомнила, будто кто по голове ударил: сегодня за полуночницей положено Михайле «большую печать» совершить…
Заслышала тот звон, не встала и не сотворила Манефа «хреста» – как чином полагалось… Впервой за все 20 лет не протянулись руки к лестовке… Как была в белого точива рубахе до пят, да так и подобралась к углу, где морщинистый от трещин лик Аввакума-отца висел… Вплотную подступила к лику «большуха», не мигаючи, строгими глазами уставилась; ни дать, ни взять, – Судья Праведная.
Долго в упор друг на друга глядели, да только догорела ли свеча, огонь ли притулился, – но словно как бы виновато опустил глаза Аввакум-отец.
«То-то же», – строго промолвила, наконец, Манефа и, набросив на плечи пестрядь, – пошла в молельню. В ту самую минуту пришла, как каленое железо в обнимку с ладаном по потолочью сизым туманом стлалось. А «голуби» округ нагого Михайлы положенные чином стихи гнусавили.
* * *
Точно птица-Цесарь, выпрямилась Манефа:
– Будет!.. Не позволю!.. Хватит одной загубленной души!.. Мать я… слышите!.. Меня проклинайте, а парня уродовать не дам… Будет!..
И, схватив дрожащего и голого Михайлу, она прижала к своей груди.
– Рехнулась «большуха»… Не в своем уме баба… – зарокотали, очнувшись, кругом «голуби».
– Ничего не рехнулась… Вот до сего дня – верно, была рехнувшись… А теперь – сама, своими руками отдам парня начальству… Отвезу в волость… В ногах вываляюсь, а вымолю, чтоб взяли в солдаты… Пусть как и все – живот положит за други своя… Заповедь Божью исполнит… Война нонича, как пир у Царя Небесного… Всех Он зовет… Всех, кому спасенье дорого. Иди, дитятко… иди! – вдруг опускаясь перед сыном на колени, зашептала Манефа, – може, смилостивится Царь Небесный, приоткроет и Ильюше двери к вечной радости…
Один за другим расходились «голуби», а вслед за ними, воровато крадучись по потолку, уползали и ладан с каленым духом железным.
– Пропал скит… Рушила «большуха» дедовское житье праведное… Улетит Благодать Божья, а с ней и птица скитская голубь, – шептали старцы со старицами, расходясь по келейкам…
Румяная заря занялась над озером; любовным целованьем прильнула к росистому бору, а таратайка, громыхая колесами, увозила Манефу с Михайлом в волость…
Не живы – не мертвы, высунув головы, глядели «люди Божьи» на крышу молельни: там спокойно сидела себе голубь-птица и радостно поматывала головой вдогонку таратайке…
– Не улетел… Благодать-то осталась… – шептали кругом старцы.
– Знаменье… Перст Божий… – вторили старицы.
В лесу чиликали первые птахи… Где-то сладко вздохнула земля:
– Благодать это сошла, «люди Божьи, голуби».
– Благодать сошла!
Пимен Карпов
ЗАПОВЕДЬ СОЛНЦА
Илл. Г. Георгиева

I
Под сизыми зорями гадал Софрон о Кирилле. А звезды полыхали в закатной темени, заходили, прощаясь с полем.
Софрону верили все, как Богу. Да и как не верить: потайную заповедь знал. Только слова Софроновы не всяк раскусить может заговорные.
Невесел что-то Софрон. А бывало – о радости только и твердил. Теперь же радость Софрону – не радость. Разгорайтесь, пророчьте радость, звезды! Сын, красавец-первенец Кирилла, на войну от Софрона ушел, да и – ни духу. Но это Софрону испытание. Не забыт он звездами! В поле, в лесу поет песни, беседует с Богом.
А в черной хвое, за хатой Алена-то, любжа Кирюхина, как убивается…
– Ну, што воешь?.. – кричал на нее Софрон в глухую темень. – Надоела!
Маялась Алена:
– Не перенесть мне горя-тоски… Не вернуть мне ясна-сокола, не обнять… Ах, чую, уж забыл он меня!.. Погадай мне о нем, отец…
– Крепко, поди, любила его?.. – пытал из-под стрехи взлохмаченный Софрон. – А все молчала, скрытница!
– Ой, крепко! – билась в хвое Алена, металась. – А теперь не увидеть мне его больше!.. Чует мое сердце!.. Ветер быстрый, неси ты мое прости-прощанье…
Подходил к Алене Софрон, кряхтел:
– А ко мне чего пришла?..
– Не мучь, вот что… – маялась Алена. – Открывай всю правду! Жив али нет Кирюха?..
– Радость будет, говорю.
Стонала Алена:
– Ой, то ли? Сны мне больно тяжелые снятся о Кирюхе…
– Кирюха жив, – крутил головой Софрон. – Тяжко, поди, без него?
– Ой, тяжко!
Софрон протягивал в сумраке к темной да статной Алене руки, глухо дышал ей в лицо. А она отбивалась, маялась: – убит Кирюха! А может– жив? Сладко цвело и билось сердце: жив, будет ее целовать в лесу до пьяна, до сердца…
II
Уже и бабы, окруживши хибарку, толпились у окон. Полночь шла. Молча вел баб Софрон на гору.
И, нарвавши в сосняке ночных цветов, загадывал. Все о том же – о лютой страде.
Много кое-чего знал Софрон. В сосняке пел песни земле, звездам и Богу. Гадал о судьбах мира.
Горе, горе миру лютому, беззаконному. Пройдет по нему глад и мор, и сеча ужасающая. Ляжет костьми четь мира. От востока до запада, от севера до юга протянутся борозды, а борозды те – могилы. Не вырастут цветы. А будет только в буре кружиться да каркать черное воронье. Горе миру тьмы!
– Ах, что-то говорит та звезда!.. – в темени тревожились толпы, подымая корявые руки к кровавой звезде. – Не заходи, звезда, не заходи!.. Рассказывай правду…
В глухом звездном свете раздавал бабам Софрон сумрачные цветы и разгадки:
– Што вам мужья?.. Наша земля вся зацветает, аки вешний сад!.. Вижу по звездам: туга лютая будет… А горе тому, хто в туге радость забудет… А только будет на земле нашей радость великая…
Вздыхала толпа, воздев руки. Молилась Спасу:
– Ты спаси, Спасе, землю нашу!.. Хрестьянство, мужиков, стало быть… Оглянись, Спасе!
А Софрон, уходя в осыпанную черемуховую заросль, бросал – загадывал:
– А будет солнце! Будут цветы!
III
Солнце пришло в лесную деревушку, – весть-письмо, радость землякам: Кирилла ранен, да солнечен, домой едет.
Толпы баб и мужиков жадно двинулись, захваченные вестью, на чугунку – встречать Кириллу.
В золотом жнивье поле рыдало, полное осенних бурь. Дни и ночи грохотали поезда с солдатами. Приходили невесть откуда, катились невесть куда. А ветер развевал желтый лес осени…
В лесу глухой полустанок забит был солдатами, лошадьми.
Подходили мужики. Совали солдатам молча хлеб, гостинцы. Размахивали руками… Лесной ветер развевал широкие бороды. Уходил в поля, наполняя их глухим воем…
А в душном тесном вокзалишке галдели, толпились бабы. Кому-то, вздыхая, молились.
И вот, подошел белый поезд с красными крестами на стенах. Тревожные понеслись по полустанку крики: раненые. Толпы забурлили.
Из заднего вагона вынесли Кирюху. Видно было только черное, как земля, острое лицо в пятнах черной крови, перевязанное белым, да белое покрывало.
Кто-то кричал:
– Скорее!.. Сдавайте!.. Поезд скоро отходит…
Бабы, ахнув, завыли дико и жутко. Мужики глухо закряхтели:
– Оттеда…
Оттуда, где души обожжены навеки.
Подошли раненые с перевязанными, окровавленными головами, бледные и как будто радостные. А видно было, что души их обожжены.
– Вы здешние? – спрашивали мужиков солдаты.
– Угу, здешние.
– Нам неколи. Поезд уходит. Мы что, мы разве страдали. Вот Кирилла, это – можно сказать, страдалец. А где ж его батька?.. Мы писали, значит, чтоб встречал сына… Вот и встретил – мертвого! А зато венец получит вечный. Судьба наша такая… Это ничего… Вечный венец…
Глуше, больнее закряхтели мужики:
– А? Кого это понесли?
– Да Кириллу. Земляка вашего, стало быть. Убег он из лазарета, держали его, да убег… Чтоб побыть дома, да опять айда в огонь… А нам но пути, доктор смилостивился, взял Кириллу домой… Письмо мы даже с ним написали батьке, чтоб встречал…
– Да ведь он ранен только был!.. Читали мы…
– Был, да нету… Немцы, вишь, искололи его всего… Не вынес сердега…
В толпе баб перед Кириллом без крика металась, рвала на себе волосы растрепанная Алена, распростертая, брошенная, как сломанный стебель…
IV
Запахивали бабы на зиму поле. А до того засевали озимь и молотили.
Была тогда надежда на радость, да все рухнуло. Кирилла, вон, и домой убег, да не выкрутился. А если кто и приходил – был молчалив, обожженный черным огнем.
В соседнюю деревушку проходил как-то с чугунки раненый. Да хоть он и смеялся, а никто к нему не подошел. Так и ушел сердега, не пригретый.
Знали, отчего не подошли: видели нем выходца из ада. Тугу несли селяки о сынах, братьях, отцах. Глядели на солнце. А оно радовалось, плясало, как завсегда.
Из вечера в вечер, толпясь в поле у избушки, все кляли Софрона: зачем растравлял души надеждами?..
Алена долго где-то пропадала. А вдруг и она отыскалась. Темным-темен был взгляд ее.
– Говори… – подступила она суровая, грозная к кудластому Софрону. – Какая твоя потайная заповедь?.. Какое солнце?.. – Радость?.. А твой-то сын – в могиле?.. Вот те и заповедь! Вот те радость!

Захохотал Софрон и сказал:
– Не от меня эта заповедь… От солнца!.. Аль не поймете?.. Страда очищает радость… Муки нужны, чтоб радость была радостная… А смерть светлая!.. Што то за радость, коли я в холе… Коли я за логовом гонюсь… Как зверюка… А совести нету – солнца нету?.. Што то за смерть, коли я издохну – не живши?.. Не горевши?.. Как червь… А?.. А на миру – что на огню – и смерть красна!..
– Молчи!.. Ты! – загудели в пороге толпы баб, замахали на Софрона кулаками. – Долго ль ты будешь мучить, окаянный?..
А Софрон протягивал к суровой, жутко молчаливой Алене крепкие руки. Обнимал ее жарко:
– Радость великая будет, – дышал в лицо девушке глухо и горячо. – Возликует земля… А все от солнца!..
– Ведьмач проклятый!.. – визжали бабы. – Мучитель!.. Ворог!.. Бить его!.. А… – напирали они, рвали на себе рубахи, кричали остервенело.
Но ликующее наклонял в посеребренных кудрях лицо свое Софрон к жаркому лицу темноокой суровой Алены.
– А ты рада солнцу?.. А свету Кириллы рада?.. Придет он к тебе… В свете горнем… Потому – на огню помер… В свету… Жив он!.. Мы мертвецы… а он светлый жив!.. Рада?..
Губы Алены яркие запылали. Вздрогнули, что-то прошептали. Да сплошной бабий крик заглушил все.
И отцветала багряная осень, и лютая глушила уже землю дикая вьюга, выла по лесам жуткие песни. Под снегом догорали поздние цветы.
А Алена в белые уходила просторы. Из деревни в деревню, из хибарки в хибарку несла мертвым, оглушенным жизнью светлую заповедь – радость:
– Радуйтесь, сестры!.. Убитые встают из могил. Мертвецы – вы, а они – живы, убитые на миру, светлые… Живите ж и вы! Радуйтесь!
Когда же бабы пятились от нее в ужасе, она бросала в толпу гневно и грозно:
– Вы! Слизь несчастная! Вы не рады солнцу?..
– А ты не нагоняй жуть… – дрожали бабы. – Видано ли это, штоб вставали из могил?.. Твой Кирилла, поди, не встанет…
Как будто этого и ждала Алена. Вскидывала крылатые ресницы, цвела:
– Кирилла? Он воскрес. В духе воскрес.
В снегу догорали поздние осенние цветы.



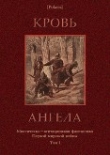
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)



