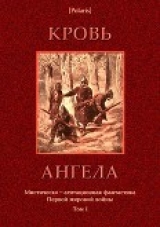
Текст книги "Кровь ангела
(Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Том I)"
Автор книги: Михаил Фоменко
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Борис Садовской
ДВОЙНИК
I
За несколько минут перед роковой атакой, решившей его судьбу, поручик Зайцев увидел совсем неожиданно странный сон, до того чудовищный и нелепый, что невозможно было даже сразу решить, бред ли это кошмарный или виденье иного мира. Истомленный безумным напряжением последних трех суток, поручик Зайцев, сидя, вдруг задремал в окопе – на три минуты, не больше – и в этот короткий срок увидел и услышал близ себя двойника своего, собственное свое второе я. Это был точно такой же поручик Зайцев, с такими же ясными голубыми глазами и высоким лбом, с такими же каштановыми усиками и в такой же походной форме. Даже ремень один на правой руке был так же оборван, как и у него. Точно кто зеркало подставил Зайцеву к самым глазам. И однако, это не было простым отражением, ибо второй, неизвестно откуда взявшийся, поручик Зайцев двигался, смотрел и говорил совершенно свободно и нисколько не зависел от воли первого Зайцева, сидевшего перед ним с полуоткрытым ртом, в непобедимом очаровании дремоты. Только нет: право же, не сон это был и не полусон, и даже не дремота: вернее всего будет сказать прямо, что дело происходило наяву. Но ведь наяву, как это всем хорошо известно, подобных происшествий не бывает никогда, а в наш век и подавно, и не мог же Зайцев действительно, не шутя, поверить в подлинное существование двойника.
Между тем, чудесный фантом, подсев близко к Зайцеву, заговорил голосом самого поручика, бархатным и мягким, по-дружески касаясь легко его плеча:
– Послушай, Зайцев, не бойся ничего, все это пустяки, еще не пришло твое время. Помни, что теперь только и начинается главное в твоей жизни…
Дальнейшие слова призрака смешались, как часто бывает это во сне; уловить течение их было невозможно, и Зайцев видел только нежно державшую его за погон собственную свою руку со знакомым материнским колечком с бирюзой на четвертом пальце.
Но уже через несколько секунд вместо двойника вырос, как из земли, перед ним фельдфебель и взволнованно говорил:
– Ваше благородие, в атаку приказано.
Очнувшийся разом Зайцев мельком взглянул на свою руку, поцеловал колечко, перекрестился и с саблею наголо выскочил из окопов.
Командир еще с вечера отдал ему приказ: в случае тревоги, занять со своею ротой опушку леса, черневшего смутно из-за окопов.
Солдаты дружно бежали следом за поручиком с криками «ура».
Фельдфебелю сбило пулей фуражку, он нагнулся ее поднять и туг же упал, пораженный насмерть.
Пули дождем свистели вокруг.
– Ложись, – скомандовал Зайцев.
Рота легла. Прямо перед собою Зайцев видел лошадиный труп. Слышно было, как пули, шлепаясь, ударяли в падаль.
– Лежи, не лежи, а идти все-таки надо, – промелькнуло в мозгу у Зайцева и, крикнув: «Вперед, ребята» – он ринулся снова навстречу свистевшим пулям.
Скоро рота достигла желанной опушки леса, – без труда опрокинув охранявший ее немецкий разъезд. Зайцев вздохнул, наконец, свободно. Вспомнились ему недавние занятия на маневрах, когда вот так же приходилось, бывало, брать неприятельские позиции под воображаемым огнем.
Он облегченно прислонился к стволу старого дуба, обтер вспотевшее лицо платком и достал портсигар. Закуривая папиросу, он вспоминал странный сон. В это самое время немец-кавалерист в серой остроконечной каске выскочил из куста и в упор навел револьвер в грудь Зайцеву.
Едва успел ударить сухой треск выстрела, как немец, мгновенно поднятый солдатами на штыки, уже хрипел и давился кровью, выкатывая глаза. Как сквозь дымную паутину видел все это Зайцев, чувствуя в то же время, что ноги его подгибаются и дрожат, а сам он склоняется плавно набок.
– Ах ты, подлец этакий, предатель, Иуда. Что же теперь, братцы, куда нам девать поручика? – возбужденно толковали, сгустясь, солдаты.
Больше Зайцев не слышал и не чувствовал ничего. Красные волны тихо расплывались перед его глазами.
II
Теперь, лежа в госпитале, в незнакомом ему, чужом и далеком городе, Зайцев вспоминал и перебирал в уме, от нечего делать, всю свою молодую жизнь.
Рана в плечо оказалась тяжелой, но неопасной, хотя нестерпимо болела по временам. Впрочем, в эти последние дни раненому настолько полегчало, что он уже мог свободно прохаживаться по обширному залу.
Это и был, действительно, клубский зал, где еще так недавно, год назад, кружились в вальсе веселые молодые пары и гремел военный оркестр. Теперь рядами белели здесь узкие кровати с неясными очертаниями раненых воинов, пробегали суетливо фельдшера и служители, проходил доктор, а сестры милосердия в своих белоснежных одеждах скользили тихо и ласково между ними, как вестницы надежды, примирения и любви.
Зайцев в этот вечер укладывался уже на покой, когда в неясном вечернем полусумраке занавешенных ламп провеял будто весенний ветерок, и в зал вошла новая, только что прибывшая с партией раненых, сестра.
Увидав ее, Зайцев едва не вскрикнул от изумления.
Ну, конечно, он знал ее когда-то и хорошо знал, но никак не мог теперь вспомнить ни того, где он с ней встречался, ни того, как ее зовут.
Плавной походкой, неслышно, сестра прошла по залу и скрылась в белых дверях.
– Боже мой, да ведь я же хорошо ее знаю, – думал Зайцев.
Он оперся на здоровую руку и, полулежа, точно мучимый бессонницей, лихорадочно вспоминал. Глаза его сверкали и вдруг, будто опять пораженный предательской пулей, он откинулся беспомощно на подушку. Губы его шептали:
– Неужели?.. Не может быть… Как же это?
Он вспомнил.
III
Это было ровно три года тому назад. Только что выпущенный в офицеры, Зайцев был прикомандирован к одному из гвардейских полков и жил одиноко на семнадцатой линии Васильевского острова, в маленькой комнатке шестого этажа.
Он любил свою голубую комнату, узкую, точно девическую, кровать за ширмой, медный в углу рукомойник, неуклюжего денщика. Жизнь так привольно и весело открывалась перед ним, в голубоватых весенних тонах, как апрельское небо, и ярко манила к счастью.
Зайцев вообще любил голубой цвет и верил, что ему он приносит счастье. Хиромантка с Лиговки (у нее перед выпуском побывал молодой подпоручик) подтвердила тоже.
В один чудесный весенний вечер Зайцев, присев нечаянно к своему мольберту, собрался набросать вид из окна (он занимался живописью с детства и в корпусе известен был, как хороший рисовальщик), когда внезапно овладевшая им усталость помешала ему начать работу и он как-то незаметно для самого себя, мгновенно заснул.
Впоследствии Зайцев не раз вспоминал эти приступы вдруг набегавшей сонливости, подобные тому, что был им испытан в окопе перед появлением двойника.
Разбудила его старушка-тетка, обитавшая в конце Пушкинской; невзирая на дальний путь, она часто навещала племянника-сироту, приходившегося ей крестным сыном. Старушка вбежала, запыхавшись, будто встревоженная чем-то.
– Что с вами, бабушка? – спрашивал ее Зайцев.
Он привык называть ее бабушкой с раннего детства. Впрочем, тетке было уже за шестьдесят и название бабушки более соответствовало морщинистому ее лицу.
– Одевайся скорей, бери холст и кисти. Едем.
– Да что такое? Зачем холст и кисти?
– Не твое дело, потом скажу. Не люблю это болтать.
– Кого же писать-то?
– Сказано, едем, без разговоров.
Зайцев привык к странностям старой тетки и, не возражая, быстро оделся. Уже на извозчике он спросил:
– Далеко ли вы, по крайней мере, меня везете?
– Ко мне на Пушкинскую. Не бойся, останешься доволен, – загадочно пробормотала старуха, тяжело дыша и так держась за рукав племянника, точно она боялась, не убежал бы Зайцев.
IV
Однако, на Пушкинской извозчик остановился не у того подъезда, где ход был в квартиру бабушки, а у другого, соседнего. Этот был куда казистее и богаче; у дверей восседал на табурете представительный усатый швейцар в ливрее и с фуражкою в позументах.
Завидя бабушку, он грустно вздохнул и склонился низко:
– Пожалуйте.
Следом за бабушкой Зайцев вошел в переднюю обширной квартиры; убранство ее, пышное и безвкусное, ясно говорило если не о роскоши, то о довольстве хозяев. Смутная необъяснимая тревога веяла в доме; она тотчас передалась Зайцеву. Заплаканная горничная, разговоры шепотом за стеной, величественная хозяйка, вышедшая в капоте, с платком в руке, – все указывало, что в доме произошло несчастье. Зайцева бабушка тотчас представила хозяйке: красивая пожилая женщина, похожая на византийскую императрицу, мельком, но пытливо оглядела подпоручика и без всяких предисловий объявила:
– Сегодня скончалась моя дочь, и я прошу вас, monsieur Зайцев, написать с нее портрет.
Будь на месте Зайцева другой человек, более положительный и трезвый, он, быть может, ответил бы отказом или удивился бы, по крайней мере, странной просьбе совсем ему незнакомой дамы. Но Зайцев был вообще чудак и верил во все сверхъестественное: раз даже ему пришлось снять комнату, обстановку которой накануне он до последних подробностей видел во сне. Поэтому он без малейшего колебания выразил согласие свое на просьбу хозяйки молчаливым поклоном.
– Пройдем к ней, – предложила та.
Зайцев сделал несколько шагов и очутился в узкой комнате с белым гробом посередине. Гроб весь утопал в дымных волнах голубовато-серебряной кисеи, осенявшей девичье лицо и скрещенные руки такой ослепительной красоты, что у Зайцева дыханье перехватило и забилось сердце. Нежный профиль чернобровой и черноволосой красавицы был чист и тонок, как легкий мрамор; губы едва-едва трогала прозрачная улыбка; точеные пальцы слабо держали образок.
Зайцев невольно вспомнил «Вия» и на мгновение ему стало не по себе. В то же время он никак не мог себя уверить, что перед ним покойница. Какое-то могучее чувство, руководившее в этот миг его душой, упорно противилось воспринять то, что подсказывал рассудок.
Хозяйка оставила его наедине с мертвой. Овладев своим волнением, Зайцев долго всматривался в прекрасное лицо.
– Она живая, – пожимал он про себя плечами.
И если бы не гроб и не встревоженные лица домашних, он подумал бы скорей всего, что его просто морочат.
Бабушка тихо подошла к его плечу и прошептала чуть слышно:
– Голубчик, прости, ты меня, старуху. Что хочешь для тебя сделаю, только напиши Леночкин портрет. Уж больно я любила ее, мою голубку.
И, зарыдав, быстро вышла.
Как ни был молод и неопытен Зайцев и как ни возбуждала его вся эта внезапность нахлынувших откуда-то новых впечатлений, он все-таки успел невольно для себя самого заметить, что лицо несчастной матери вовсе не было заплакано, веки не только не распухли, но и не покраснели, а строгие глаза, хоть платок к ним подносился поминутно, глядели на художника в упор с чересчур даже спокойным и пристальным вниманием. Ровный голос хозяйки тоже звучал совсем спокойно. Впечатление это скользнуло только, едва оцарапав сердце Зайцева, но тотчас на душе у него стало еще тоскливей, и он, безотчетно, желая заглушить неприятное чувство, начал готовить вынутые из ящика кисти и устанавливать холст…
V
Работая при свечах, ярким и ровным сиянием заливавших голубую комнату и белый на высокой подставке гроб, Зайцев весь с головою ушел в свой труд и не чувствовал никакой боязни. И все ему бессознательно мерещилось, что это он пишет спящую.
Портрет подходил к концу, когда неожиданно сильным порывом ветра распахнулось настежь окно, и мокрый весенний ветер ворвался в комнату холодом и мраком. Чадя и дымясь, мгновенно погасли свечи, кисея заколыхалась. У Зайцева сжалось сердце: ему почудилось, что умершая привстала в своем гробу. Волосы шевельнулись у художника на висках и на затылке и он, себя не помня, выбежал в гостиную весь в поту.
Здесь его ловко ухватил за локоть и остановил на ходу какой-то всклокоченный пожилой господин с рыжею бородою и в засаленном пиджаке.
– Куда вы, юноша? – спросил он довольно резко, с трудом пытаясь скрыть видную тревогу: – али случилось что?
И, видя, что Зайцев ошеломлен таким бесцеремонным нападением, добавил с хитрой улыбкой:
– Я доктор. Я же и лечил нашу бедную Лену.
Тут откуда-то из угла, заставленного этажеркой и цветами, поднялась величавая хозяйка и горячо стала благодарить художника.
– Я вам так обязана, monsieur Зайцев, так обязана. Сколько желаете вы получить за труд?
Слегка обиженный Зайцев ответил, краснея, что денег ему не надо, и что он просит только позволения снять себе на память копию с Леночкина портрета.
Хозяйка значительно переглянулась с доктором.
– Хорошо, – поспешно согласилась она и быстро прошла в комнату к покойной. Доктор шмыгнул за нею.
Из-за двери Зайцеву ясно слышался его хриплый шепот:
– Да мертвая, уверяю вас. Ну вот, глядите: я спичку зажег и вот, видать, веко поднимаю. Огонек приставляю к зрачку. Реакции никакой. Мертвая.
Хозяйка в ответ продолжала шептать неясно какие-то непонятные слова.
Но Зайцеву было не до них. Страшная слабость опять одолевала его, клоня ко сну. Он пробрался в переднюю, накинул свое пальто и, ни с кем не прощаясь, незаметно вышел.
Швейцар распахнул перед ним дверь и крякнул, как бы желая заговорить. Зайцев сунул ему двугривенный.
– Покорно благодарю, ваше благородье. Изволили видеть барышню?
– Да, видел, – рассеянно отозвался Зайцев.
– Жалко их очень, – заметил швейцар и опять опасливо крякнул, точно желая оборвать начатую речь.
VI
Занятый своими мыслями, Зайцев почти не заметил, как доехал до семнадцатой линии. Взойдя к себе, он сел у окна в пальто и не снимая фуражки.
Тотчас пригрезилось ему, что входит опять бабушка и приносить ему забытые на Пушкинской кисти и палитру.
– Едем, – говорит она Зайцеву сурово. И опять они вдвоем выходят и едут вместе: едут опять на Пушкинскую улицу.
Но тут бабушка исчезает вдруг куда-то, исчезает и извозчик, и Зайцев видит себя одиноко стоящим на Дворцовой площади – подле Эрмитажа. И жутко вспоминается ему, что здесь, в Эрмитаже, хранится мумия какого-то фараона, и вот, но успел он это подумать, как уже очутился в подвале Эрмитажа перед фараоновой гробницей. И вот подымается медленно перед ним каменная плита, и чья-то рука манит его оттуда, знакомая, только что виденная рука, точеная, с прозрачными ногтями.
Весь дрожащий, очнулся Зайцев на подоконнике. Фуражка давно свалилась с головы у него и лежала на стуле.
Он чувствовал себя разбитым, едва живым.
Денщик, осторожно ступая тяжелыми каблуками, внес шипящий самовар и заварил чаю.
Зайцев выпил чашку, разделся и по обычаю, усвоенному с детства, раскрыл Евангелие, чтобы прочесть перед сном главу.
Открылась ему от Марка пятая глава о воскрешении дочери Иаира. В чуткой, зловещей какой-то тишине, при свечке, читал он, лежа в постели, священные слова и дошел, наконец, до места, где Иисус говорит горюющей толпе: «Что молите и плачетесь? Отроковица несть умерла, но спит».
– Да ведь Лена живая! – молнией вспыхнула в нем мысль.
– Конечно, живая. Не умерла, но спит. И ее хотят похоронить. Это кому-то нужно.
Зайцев взволновался. Ему вспоминалась мать, доктор; он перебирал все их слова, движения.
– Она спит, – стучало в его мозгу.
– Боже мой, она живая. Бежать к ней сейчас же, спасти ее. Недаром открылась мне эта глава, точно указание свыше.
Зайцев принялся было проворно одеваться, но скоро сообразил, что являться в чужой дом во втором часу ночи с непонятной целью было бы странно и дико.
И в раздумье он опять сбросил на пол натянутый было сапог.
– Ведь не завтра же ее похоронят. Встану утром пораньше и все устрою.
Он крепко уснул, но спал тревожно. Во сне ему представлялся доктор: он ухмылялся в рыжую бороду и дразнил Зайцева, высовывая красный язык.
– Эх вы, юноша, – говорил он, держа Зайцева за локоть. – А дайте-ка я вам зажженную спичку приставлю к глазам.
Проснулся Зайцев поздно и тотчас же полетел на Пушкинскую. Еще издали увидел он у подъезда знакомого швейцара, смотревшего на него с видом сурового сожаления.
– Опоздали, сударь. Увезли нашу барышню на Смоленское, – сказал швейцар.
– Как? – только и мог вымолвить пораженный Зайцев.
Швейцар грустно развел руками.
– Не могу знать. Господин доктор так решили. Им виднее. Оно точно, что непорядок, чтобы на другой день хоронить, а вот подите же, стало быть, надо. И хороша же барышня в гробу лежала, что твой ангел небесный. Ну, как есть тебе живая. Ровно спить…
Извозчик-лихач мчал Зайцева на Смоленское кладбище. Поручик колотил возницу в спину рукоятью шашки, погонял лошадь, умолял ехать быстрее, обещал на чай пять целковых. Пугливо оглядывался на него извозчик и нахлестывал лошадь.
– Стой! – крикнул внезапно Зайцев.
Он увидел на встречном извозчике доктора и мать Лены, возвращавшихся, как видно, с кладбища. Они улыбались и болтали весело, трясясь на ободранной пролетке. Доктор обнимал толстую поясницу своей дамы, наклоняя рыжую бороду к ее румяной щеке.
Все кончено. Лену похоронили.
Зайцеву хотелось что-то крикнуть, сделать что-то, бежать куда-то, но он чувствовал, что все это будет напрасно и ничему не поможет. И он, махнув рукою, пошел к себе пешком.
VII
Вот что вспомнил теперь поручик Зайцев, лежа в госпитале чужого и далекого города, ночью, с забинтованным плечом.
– Неужели это была она? – сверлило в уме его.
И ему хотелось верить страстно, что это, действительно, она. Ведь с тех пор, с того ужасного вечера, он так и не был на Пушкинской, и даже не помнит, как следует, рокового дома.
Бабушка тоже умерла месяца три спустя.
Как знать! Может быть, Лена очнулась перед тем, как готовились опустить на нее гробовую крышу, и оттого, быть может, и были так веселы тогда мать и доктор?
Каждую минуту сознавал Зайцев нелепость своих предположений, но бессознательное чувство, помимо воли руководившее душой, отказывалось принять доводы рассудка.
И поручику казалось временами, что вот-вот, он сойдет сума.
Белая дверь в глубине зала приоткрылась и скрипнула. В полумраке показалась она.
– Лена! – крикнул Зайцев.
Сестра шагнула вперед.
– Кто зовет меня? – спросила она, растерянно озираясь.
Но Зайцев уже лежал без чувств.
Язычники XX века

Г. Полилов
ПЕРСТЕНЬ
I
Осенний ветер сметал пожелтевшие листья, заваливая ими всю аллею, полукругом подходящую к небольшой усадьбе.
Усадьба была покинута хозяевами. Помещик-поляк забрал все, что имелось поценнее и вместе с женой и детьми уехал в Варшаву. В доме остался только старый слуга, здесь родившийся, выросший, по-собачьи привязанный к своим хозяевам.
Недолго оставался дом пустым. И дня не прошло, как на безлюдный двор усадьбы прискакали немецкие уланы, осторожно высматривая, нет ли где казаков и, убедившись, что последние отсутствуют, сделались более развязными, стали проникать повсюду, заглядывать в кухни, в погреба, и через посредство нескольких своих товарищей, понимающих по-польски, принялись расспрашивать, где стоят русские войска, много ли их, где находится помещик и т. д.
На все их вопросы отвечал старый Ионтек незнанием, качал отрицательно поседевшей головой и только грустно глядел на панские покои, в которых так своевольно хозяйничали незваные гости.
– Не знаешь, старый черт; ну, так мы тебе вернем память! – злобно закричал немецкий вахмистр и изо всей силы ударил кулаком по лицу старика.
Пошатнулся верный слуга, кубарем свалился на пол, слабо застонал, пытаясь подняться.
Точно обрадовались остальные уланы этому удару и сами в свою очередь начали бить лежащего старика.
На дворе зашумели автомобильные колеса, кто-то подъехал к крыльцу, солдаты бросились врассыпную, хотел ускользнуть и толстый вахмистр, но незапертая дверь распахнулась и в переднюю, где происходило избиение, вошел престарелый прусский генерал высокого роста и остановился.
Вслед за ним в комнате появились еще четыре штабных офицера.
– Что такое туг происходит? – сурово спросил генерал.
Вахмистр по-своему объяснил происшедшее.
Генерал брезгливо посмотрел на пытавшегося подняться старика и прошел в комнату.
Вслед за ним потянулись и офицеры.
II
Усадьба была отведена под немецкий штаб дивизии. Немцы расположились здесь, как дома: играли даже на старинном Виртовском рояле, который издавал какой-то боязливый нежный звук, быстро разлетавшийся по старинным комнатам.
Генерал фон Брюген отвел себе хозяйский кабинет, где отлично поместился на дедовском широком диване, крытом зеленым мягким сафьяном. Старый Ионтек должен был ему лично прислуживать, а перед сном, когда генерал находился уже в постели, рассказывать о соседних поместьях.
Любил старый генерал также и выдержанное вино. Он строго-настрого заказал Ионтеку, чтобы тот берег хозяйский погреб и приносил вино только ему, а офицерам не давал.
Но что мог сделать старый Ионтек с нахальными пруссаками? Они давно уже навестили подвал и отлично пользовались его содержимым!..
– Панове, не должно брать вино, ваш же генерал запрещает, – старался убедить он офицеров в надежде, что после их ухода останется что-нибудь и для настоящих владельцев.
– Нам не приказ генерал, мы отлично знаем без него, что делать. А если ты посмеешь нам еще возражать, то посмотри вот, что мы с тобой сделаем! – вызывающе крикнул прыщеватый молодой лейтенант и, выхватив саблю, изрубил две масляные картины, висевшие в гостиной.
Остальные товарищи его захохотали.
Дивизионный генерал оказывался очень слабым, бездеятельным человеком. Никто из офицеров его не слушался и старый немец все время занимался только курением сигары, едою, истреблением хозяйского вина да разговорами с Ионтеком.
– Вот приедет сюда наш кайзер, он задаст всем этим русским свиньям феферу! – сказал он как-то старому слуге, когда тот закутывал ему ноги теплым одеялом.
Старик наивно взглянул на германца и неожиданно, точно откуда-то у него явилась смелость, промолвил:
– А вот и не задаст!
Фон Брюген хотел уже раскричаться на такое замечание слуги, как любопытство заставило его спросить:
– А почему же ты думаешь, что он их помилует?
– Да потому, что не добраться ему будет до русских! Руки коротки! У нас поляки сказывают, что одна рука у вашего императора короче другой.
– Это не беда, он и ею сумеет захватить, что нужно!
Но переспорить старого Ионтека было трудно. Много он видел во время своей долгой жизни, немало чего наслушался и смело возразил генералу:
– У нас в Польше есть предание, что старая Польша, теперь разъединенная, снова воссоединится и уйдет из-под власти пруссов и австрияков…
– Польская собака! – крикнул генерал в сердцах.
Фон Брюген, кряхтя, повернулся на бок, достал с ночного столика стакан со старым вином, сделал глоток и, смягчившись, промолвил:
– Наказать бы тебя следовало за такие слова! Ну, рассказывай дальше!
Не струсивши, Ионтек посмотрел выцветшими глазами, подумал минуту и, махнув рукой, снова заговорил:
– Там у пана в шкафу есть книжка, так в ней все сказано…
И, не ожидая ответа генерала. Ионтек зашаркал ногами, направляясь к старому, немного покривившемуся шкафу из крепкого ореха.
Привычные руки быстро вытащили с полки необходимую книгу.
– Вот, читайте, если по-нашему, по-польски, смыслите!
Фон Брюген взял эту небольшую пузатенькую книгу, осторожно понюхал, осмотрел ее со всех сторон, точно опасаясь, не подвох ли тут какой, и стал перелистывать.
– Тут у пана ленточкой заложено, там и читайте.
Генерал впился глазами в строки книжки и прочитал:
«Когда земная кровь воссоединится с небесной и кровяной дождь прольется на землю, произойдут тяжкие испытания для нашей матери-Польши. Но это время будет последним часом ее тяжелых мук и горя. Ни пруссы, ни цесарцы не одолеют белого орла с востока. Он растреплет то и другое царства, уничтожит их от края до края. Вот тогда и настанет радостное время, когда все три части нашей родины воссоединятся. А пока – жди и терпи, польский народ!»
Фон Брюген нервно откинул книгу на одеяло и задумался.
Старые люди в большинстве случаев суеверны. Неожиданное предсказание, пропитанное им, встревожило старика.
– Возьми ты свою чертовскую книгу, – крикнул он Ион-теку и нервно осушил весь стакан.
– Ну, убедились теперь, что я говорю правду? – торжествующим голосом проговорил Ионтек.
Генерал молчал, только глаза его сердито перебегали по стенам комнаты.
– Мало ли какой глупости не напишут, всему верить нельзя. Вон тоже у нас иные солдаты, даже офицеры, верят заклинаниям.
Бескровные уши Ионтека насторожились. Старик тоже был склонен ко всему таинственному.
– А какое такое заклинание? Разные есть ведь! Некоторые действительны.
Крякнул фон Брюген, нахмурился, пальцем поманил к себе поляка поближе и, указывая на висевший на вешалке мундир, нерешительно заметил:
– Достань там в кармане записную книжку!
И когда она была ему принесена, достал из нее тщательно сложенную бумажку и как-то глухо начал читать. Видимо, ему хотелось поделиться со стариком Ионтеком некоторыми сведениями, волновавшими его.
«Если у кого из носа кровотечение или если он ранен, тот должен положить эту записку на рану и кровь перестанет течь. Кто этому не поверит, может убедиться. Положи эту бумагу на острие ножа и уколи собаку или лошадь, кровь не пойдет…»
Ионтек, внимательно слушавший плохой перевод на польский язык читавшего, утвердительно кивнул головой.
– Этому верить можно, у нас в фольварке есть две женщины, так они тоже кровь останавливают.
Точно довольный его одобрениями, фон Брюген начал читать снова, теперь уже громче:
– «Бин, Кусус, Люстус, Нарен, Зибеш, Муна, Иезус, Мария, Иозеф!»
При чтении последних трех слов Ионтек набожно перекрестился.
– Это очень действительная молитва, – сказал генерал, – ее нашли в 1505 году на гробе Спасителя. Когда император Карл отправился в поход, он получил ее в благословение от папы.
– А вы католик, пан? – неожиданно прервал чтение генерала слуга.
– Я саксонец, – точно нехотя, вымолвил фон Брюген.
– Вот, вот, я и вижу, что вы в Бога верите, а то ваши остальные швабы костелы наши разоряют.
Генералу, видимо, было неприятно слушать эти слова. Он хотел уже окончить затянувшийся разговор, но сейчас же снял с пальца какое-то кольцо из алюминия и, показывая старому Ионтеку, доверчиво проговорил:
– Вот, если это кольцо носишь постоянно на пальце, никакая пуля тебя не ранит, сабля не поразит, в этом я сам убедился!
Слуга потянулся за чудодейственным кольцом. Фон Брюген передал ему. Старик стал внимательно рассматривать вещицу.
В трубе завыл тоскливый осенний ветер, где-то зашуршало за окном сухими листьями, стукнула плохо привязанная ставня, саксонский генерал боязливо пожал плечами, потянул на себя теплое одеяло и, забыв о переданном кольце, сейчас же заснул.
III
В других комнатах шел кутеж. Офицеры старательно истребляли вина, громко о чем-то спорили. Двое из них играли в карты.
Ионтек старался молчаливо проскользнуть мимо пирующих, но один из офицеров, рыжеватый блондин, заметил слугу и окрикнул:
– Эй, польская собака, чего ты там крадешься, точно шпион какой!
Ионтек остановился и, не подходя к военному, ожидал, что ему скажут.
– Раздобудь меда, мы все выпили, у тебя, поди, где-нибудь спрятан!
– Ни меда, ни вина у нас больше нет, – обрывисто ответил старый.
– Поищи хорошенько. Просить мы не станем, а приказываем, – поднимая голову от карт, дерзко крикнул уже немолодой майор. – Поди сюда!
Послушно поплелись старые ноги Ионтека.
– Сейчас, чтоб мед был здесь и вино, какое есть! – заорал пруссак на стоявшего перед ним слугу.
Глаза его отыскали на пальце последнего генеральское кольцо.
– Это что? Украл генеральский амулет? Завтра тебя за это повесим!
– Да, да, генерал без этого амулета и на лошадь боится садиться, – засмеялся рыжеватый лейтенант.
– Ну, польская собака, пока тебя завтра повесим, сейчас неси нам вина! – раздался повелительный голос майора.
Ионтек, опустив голову, ничего не ответив говорившему, медленно побрел из комнаты.
IV
Просыпалось утро, темноватое, неприветливое. Все кругом глядело тоскливо.
Хорошо выспавшийся генерал поднялся, приказал Ион-теку подавать умываться и старательно принялся за свой туалет.
– Там вчера, пане, вы мне показывали ваше чудесное кольцо, – протянул слуга.
– Ах, да, вспомнил! Где же оно?
– Да у меня в каморке лежит, я боялся, чтобы не затерялось! Я сейчас принесу.
– Постой, сперва приготовь мне кофе, это успеется.
Но не удалось на этот раз генералу напиться любимого напитка. В усадьбу прискакал прусский улан. Сейчас же раздалась тревога, все закипело, зашевелилось, стали седлаться лошади, на веранде появились заспанные лица офицеров.
– Скорее, скорее; сейчас тут будут казаки! – раздавались возгласы.
Не прошло и десяти минут, как весь штаб дивизии уже сидел на седлах и понесся вон из усадьбы, совершенно забывая о престарелом фон Брюгене.
Когда он вышел после всех во двор, то мог убедиться, что ему оставили какую-то плохо оседланную лошадь. С помощью того же Ионтека старый саксонец поднялся на седло, ударил престарелого буцефала и поскакал.
С другой стороны усадьбы уже неслись, пригнувшись к лошадиным гривам, удалые станичники.
Белая лошадь фон Брюгена еще издалека обратила на себя внимание, и казак метким выстрелом из винтовки свалил генерала и понесся дальше вслед за остальными скакавшими врагами.
Сраженный пулей, генерал, неестественно разметавши руки, лежал мертвый на мягком ковре из листьев, устилавших аллею. Старая лошадь, опустив голову, неподвижно стояла тут же.
Только когда казацкий вихрь промчался через усадьбу, древний Ионтек, заметивший подслеповатыми глазами неподвижно стоявшего коня, пошел по аллее и набрел на убитого генерала.
Как благочестивый католик, он сложил последнему руки, оттащив немного в сторону с дороги, помолился за душу убитого и, покачав головою, посмотрел на чудодейственный перстень, который не успел передать утром генералу и надел на свой безымянный палец.



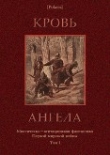
![Книга Шпионаж во время войны [сборник] автора Робер Букар](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shpionazh-vo-vremya-voyny-sbornik-212070.jpg)



