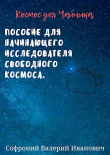Текст книги "Большая литература"
Автор книги: Михаил Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Соцнарратив
Вчера на кухне квартиры № 8, что в доме 17/1, что на углу Петровского бульвара и 3-го Колобовского переулка, разгорелся коллоквиум типа две конфорки заняты баком с бельем тетки Марфуши, и, казалось бы, откуда у этой одинокой твари, прибывшей из деревни Верхняя Замудонка, что в меру привольно раскинулась осередь Нечерноземной полосы нашего необозримого Отечества, что раскинулось от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, по лимиту типа голода ажник в 32 году, голая как сокол, хотя в жизни своей мы ни разу не встречали голых соколов, а мы по свету немало хаживали, а сейчас, слава богу и товарищу, не будем всуе, разжилась бельишком аж на две конфорки.
Так вот, чтобы вам этого не казалось, сообщаем, что это белье тетке Марфуше не принадлежало. На данном этапе строительства социализма тетка Марфуша работала в прачечной. Для приработка к пенсии, которую она не получала. Потому что на данном этапе социализма не все Марфуши получали пенсии. И из-за этого прачечного социализма бухгалтерше Марье Андрониковне некуда поставить разогреть фасолевой суп для мужа своего Семена Сергеича, из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят.
Потому что на двух оставшихся конфорках стоит чайник бабки Нюши, в котором кипит вода с горчицей на предмет удаления накипи по рецепту Серафимы Яковлевны из второго подъезда, потому что опыт по скалыванию ее, накипи, кухонным ножом, по которому бабка Нюша херачила молотком, одолженным у Семена Сергеича, мужа бухгалтерши Марьи Андрониковны из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят, окончился неудачно, и вот теперь – горчица, в которой эта сука-накипь растворяется без остатка. А рецепт этого химического опыта тетке Нюше подсказал наш жилец, еврей оборонного значения, профессор Арон Израилевич Зильбертруд, которого «кто надо» вывел из борьбы с безродным космополитизмом на предмет грядущей третьей мировой войны. И сейчас сильно жалел об этом. Потому что ему негде было сварить свой вшиво-интеллигентский кофий. И если бы не кофий, был вполне себе живой человек. И запросто мог дать на выпить. И более того, мог выпить и сам. Так что даже Семен Сергеич из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят, относился к нему уважительно.
– Позвольте, – спросите вы, если у вас возникнет такая необходимость, – на газовых плитах имеют место быть четыре конфорки, и разогрев фасолевого супа бухгалтершей Марьей Андрониковной для мужа своего Семена Сергеича из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят, можно осуществить на четвертой конфорке, которая, по предварительных подсчетам, свободна.
– Так-то оно так, – ответим мы вам, – с точки зрения теоретической арифметики вы абсолютно правы, но практика социализма, коей поверяется любая теория, говорит нам, что при социализме в четырехконфорочной плите одна конфорка в большинстве случаев не работает. Причин тому может быть много: от простого технического засорения до возможных происков. А чьих – нам на данном конкретном этапе социализма неизвестно. Одно можем предположить, что без «Джойнта» тут не обошлось.
Так что Марья Андрониковна с кастрюлей, наполовину наполненной фасолевым супом, решительно потребовала освободить одну конфорку для разогревания мужу своему Семену Сергеевичу из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят.
Бабка Нюша снять чайник отказалась решительно, потому что технологический процесс снятия накипи с чайника путем кипячения с горчицей требует непрерывности процесса. Кто работал по доменной части, поймет суть. Если процесс прервать, то накипь не исчезнет, а приобретет вкус горчицы, что для будущего чая неприемлемо. Потому что чай должен быть сладким, а не горьким. Чай – не водка. Которая по большому счету тоже – сладка.
Тетка Марфуша бак с бельем убирать согласна не была, типа вылей фасолевый суп себе на голову, тут и твои ссаные трико кипят.
После этих слов Арон Израилевич как-то сразу разлюбил Марью Андрониковну, которую вообще-то не любил и до этого, но ощущение разлюбливания у него возникло. Нежной души оказался еврей. Несмотря на то что и на выпить, и сам выпить – тоже.
И все сразу стали разговаривать громко и при помощи рук. В котором принял участие и проснувшийся Сергей Семенович из рабочей династии Колюшевых которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят. И рук у него оказалось много.
В результате чего баки с бельем, чайник с выжившей накипью и бурлящей горчицей, не говоря уже о фасолевом супе, оказались на полу. Не считая тетки Марфуши, бабки Нюши и Марьи Андрониковны. И только Арону Израилевичу Зильбертруду ничего не досталось. Вот ведь!..
А Сергей Семенович из рабочей династии Колюшевых, которые испокон веку, с самого зарождения капитализма в России, на работу, имеющую место на заводе «Красный Пролетарий», без первого не ходят, ушел спать обратно. Потому как было воскресенье и фасолевый суп ему был и на хрен не нужен.
Оказывается, Марья Андрониковна с отрывным календарем что-то напортачила, потому что ну с кем не бывает.
Но в результате этого коллоквиума неожиданно самостоятельно заработала четвертая конфорка газовой плиты. На которой оборонный Арон Израилевич Зильбертруд и сварил свой интеллигентский кофе.
Вот так вот всегда евреи наживаются на народном горе.
Зато растет обороноспособность страны.
Так что, мужики, придется их терпеть.
Мы с сыном
МЫ С СЫНОМ, ОБА ДВА, СВОБОДНЫ. НО ОН БОЛЕЕ СВОБОДЕН, ПОТОМУ ЧТО ТАК ОН СЧИТАЕТ.
МЫ С СЫНОМ, ОБА ДВА, ПРЕЗИРАЕМ ДЕНЬГИ. НО ОН ПРЕЗИРАЕТ ИХ БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ИХ БОЛЬШЕ.
МЫ С СЫНОМ ЛЮБИМ ЖЕНЩИН. НО ЕГО ОНИ ЛЮБЯТ ЧАЩЕ, ПОТОМУ ЧТО И ОН ИХ – ЧАЩЕ.
МЫ, ОБА ДВА, БЕЗУМНЫ. НО ОН БОЛЕЕ БЕЗУМЕН, ПОТОМУ ЧТО Я РОДИЛСЯ ОТ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, А ОН – ОТ БЕЗУМНОГО.
МЫ, ОБА ДВА, ЗАНИМАЕМСЯ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТЬЮ. НО У НЕГО ОНА БОЛЕЕ ИЗЯЩНА, ПОТОМУ ЧТО И САМ ОН – БОЛЕЕ ИЗЯЩЕН.
МЫ, ОБА ДВА, ПОЛОЖИЛИ С ПРИБОРОМ НА ВСЕ ЗАКОНЫ ЛИТЕРАТУРЫ. НО ОН ПОЛОЖИЛ БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО И ПРИБОР БОЛЬШЕ.
ВОТ ПОЧЕМУ ОН – ГЕНИЙ, А Я – ПРОСТО ВЫДАЮЩИЙСЯ ТАЛАНТ.
Колокольчик
По дороге, зимней, невеселой, тройка так себе бежит, под дугою Колокольчик надтреснуто колоколит. Потому что остоколодило изо дня – в день, из года – в год, из века – в век колоколить и колоколить.
Нет, поначалу, в начале начал, когда он было юным Колокольчиком-первогодком, он колоколил звонко и задористо. И где-то даже вызывающе. Особенно при встрече со старыми, пожившими свое, а некоторыми, даже и чужое, Колоколами. Тогда как старые Колокола мирно дремали на своих Колокольнях в студеное предрассветье в ожидании ранней обедни, а их менее родовитые собратья спали, как и положено по профессии, на пожарных каланчах, и не всякий даже самый залихвастский пожар мог их пробудить, наш Колокольчик тихонечко колоколил даже во сне и своим колоколением навевал сладкие (других в этом возрасте не бывает) сны шестилетней Юленьке, младшей из пяти дочерей титулярного советника Михаила Юрьевича Козловича. По почтовому ведомству.
Ее темнокурые волосы были разбросаны по подушке, кукольные ресницы подрагивали, словно малиновое желе, щеки розовели, как едва проклюнувшийся закат, а в не тронутом насморком носу потрескивали пленки (Ю.К. Олеша). И в такт этому потрескиванию разгоравшегося костра начинающейся жизни и колоколил юный Колокольчик. И в этом колоколении были предчувствия будущей жизни, в которой он будет сопровождать десятилетнюю Юленьку в поездках с Папенькой, Маменькой и четырьмя сестрами на пикник в Измайлово к Алексеевским прудам, где Колокольчик будет слушать рождаемое ветром невнятное колоколение своих дальних родичей на звонницах Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
С каждым годом сестер, к степенной радости Папеньки и Маменьки, оставалось все меньше и меньше по естественным, от Бога данным законам природы, и в конце концов на пикники к Алексеевским прудам шестнадцатилетняя Юленька выезжала лишь с Папенькой и Маменькой. В ожидании своего часа. И час этот настал, пробил, прозвенел. На Троицу ближе к пяти пополудни к их пикнику подошел Жовиальный Господин благородного вида, молодой, но уже занесший ногу для шага в зрелость. Колокольчику он сразу чем-то не приглянулся. Это было какое-то неоформившееся чувство, напоминавшее зарождающуюся ангину. А возможно, это была просто ревность. И от этого Колокольчик впервые колокольнул почти по-взрослому. С предчувствием.
Жовиальный Господин сразу очаровал Папеньку и Маменьку, но в этом их очаровании уже шелестела нарождающаяся сладкая печаль от скорого расставания с их последней усладой, юной доченькой Юленькой.
Жовиальный Господин предложил Юленьке прокатиться в его пролетке, запряженной тройкой борзых, темно-карих лошадей. Колокольчик сразу встревожился и предостерегающе звякнул, но Юленька успокаивающе потрясла им, и Колокольчик успокоился и даже заснул в кармашке Юленькиного розового труакара. Папенька с Маменькой увлажнились глазами, и Юленька вместе с Жовиальным Господином скрылись в темнеющих аллеях Измайловского парка.
Напрасно, мой читатель, Папенька с Маменькой ожидали возвращения Юленьки. Напрасно. Она исчезла безвозвратно.
И о них мне ничего не известно… Но предполагаю, что старость их была печальной. Старость вообще – вещь невеселая, но тут…
Жовиальный Господин только вид имел благородный. А так он был профессиональным соблазнителем. И очень профессионально соблазнил Юленьку прямо в пролетке, запряженной тройкой борзых темно-карих лошадей. Колокольчик слышал все это, но ничего поделать не мог, только тихо и безбудущно колоколил в кармане смятого розового труакара…
А потом Жовиальный Господин продал надкусанное яблочко в заведение мадам Сивоплясовой, что на углу Каланчевки и Орликова переулка.
…Грек из Варшавы, Еврей из Варшавы, Юный Корнет и Седой Генерал… Лишь малая толика странствий Юленьки с сильно сдавшим Колокольчиком…
И вот по дороге, зимней, невеселой, тройка так себе бежит, а вслед за ней летят «Форды», «Ниссаны», «Девятки», «Ауди», «БМВ»…
И под дугою однозвучно Колокольчик надтреснуто колоколит…
Как Ивану Кузьмичу…
– Как? Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу? Какой ужас!
– Ваша правда, Пантелеймон Панкратыч, именно что свечу, именно что вставили и именно что в – жопу…
– Да как же это произошло?! Почтенному, уважаемому человеку?! Губернскому предводителю?!
– А вот так вот, сударь мой, Пантелеймон Панкратыч, это и произошло. Могу обрисовать ситуацию во всех ее пикантных подробностях.
– Очень обяжете, Сильвестр Никодимыч. А то – как же-с, все общество в курсах, один я, как говорится, мимо кассы.
– Значит, так, собрались мы в Собрании, на Тезоименитство Государя Императора на ужин. Люди все были приличные, нашего круга. Разумеется, и Иван Кузьмич были-с с супругой-с, Матильдой-с Клавдиевной-с. Потому как без Губернского Предводителя. А как Губернский Предводитель без супруги-с. Не верильно, сударь.
– Да уж… Без супруги… На Тезоименитство Государя Императора никак нельзя. Без супруги. Все равно что без штанов.
– Да, нет, не все равно. Иван Кузьмич в Собрание пришли именно что без штанов.
– Как?!
– А так. Матильда Клавдиевна задержались с туалетом, ну и Иван Кузьмич по обыкновению своему, чтобы время зря не терять, перед выходом в Собрание в прихожей оприходовали девицу Аксинью, которая в этих целях и была в дом нанята. В качестве прислуги без определенных обязанностей. Обычно за время туалета Матильды Клавдиевны он успевал управиться, но тут случилась редкость. Матильда Клавдиевна с туалетом управилась быстрее, чем Иван Кузьмич – с Аксиньей. И он был вынужден прервать оприходование, быстро накинуть на себя шинель и отправиться в Собрание при всем параде, исключая штаны. А так… Все ордена от Анны Третьей степени до Владимира Первой были при нем. Мы, как люди воспитанные, сделали вид, что в отсутствии штанов у Губернского Предводителя на Тезоименитстве Государя Императора – нет ничего необычного. Возможно, это санкюлотство даже вошло в моду при дворе и нам, людям от столиц далеким, просто неизвестно. А возможно, как предположил прокурор Севастьян Прокофьич, человек по должности пронзительный, это уже и предписано неким предписанием, чтобы на День Тезоименитства Государя Императора являться в Собрание без штанов, и Иван Кузьмич просто не успели оповестить об этом городское общество.
И Севастьян Прокофьич, как человек по должности законопослушный, с себя штаны тоже снять изволили и стали ниже талии щеголять в подштанниках. Но вид при этом все равно имели начальственный.
Ну, а раз начальство ходит без штанов, то остальное чиновничество свои штаны скинуло не без презрения, как рудимент старых порядков и свидетельство некоего вольнодумства, исходящего от Государя Императора.
И не последним оказался почтмейстер Петр Никодимыч. Как человек, за модой следящий и во всем ее соблюдающий. Но тут случился небольшой конфуз. Вместо подштанников на нем оказались очень даже презентабельные дамские панталоны. На что мы, как люди воспитанные, изобразили отсутствующее выражение лица.
А некоторые гости из гражданских либералов и вовсе скинули подштанники. В знак торжества неких воздушных идеалов. И у некоторых из них, как отметили дамы, идеалы были весьма и весьма духоподъемные.
А к котильону несколько дам города, склонных к суфражизму, также освободились от панталон. Не обошлось и без девиц, кои, увлекшись нигилистическими веяниями, помимо панталон, освободились и от юбок.
В общем, к мазурке, танцу подвижному, Общество наглядно созрело для Революции.
Вот так вот, любезнейший Пантелеймон Панкратыч, и обстояли дела.
– Позвольте, Сильвестр Никодимыч, а как же насчет свечи?!
– А-а-а… Вы об этом?… Да тут все проще простого. Для пущего торжества Свободы один либерал-патриот перерезал в Собрании электричество.
Так вот, когда революционный дух по естественным причинам угас, желание Свободы сошло на нет и обществу захотелось Покоя, никто в темноте штанов, юбок, подштанников и панталон своих разыскать оказался не в силах. Да и предписания никакого не оказалось. А какая может быть Свобода без предписания. Какой Покой – без штанов, юбок, подштанников и панталон. И тогда швейцар Афанасий, который по косности своей к электричеству доверия не испытывал, принес из своей каморки свечу и за отсутствием в Собрании канделябров вставил свечу в первое попавшееся отверстие…
– Да, история…
– Это еще что, милейший Пантелеймон Панкратыч.
– А что еще, Сильвестр Никодимыч?
– На той неделе у нашего колодца два бабца стали бороться…
Между двух огней
(Очень поэтическое)
Проводив Солнце на Запад, печально и одиноко стою на скале в той части страны, где Оно по обычаю восходит, чтобы через 9 часов, прокатившись через всю бывшую Эсэсэрию, вздохнуть с облегчением и укатиться за таможню на границе с Западом. И провести денек в чужой для меня стране.
А здесь, на мысе Крильон, у самой дальней гавани России, абсолютная темнота. Звезды на небе отсутствуют. Видно Им неохота вылезать на небо ни для кого, в смысле, что я здесь – один. А светить одинокому молодому джентльмену нет особого желания, потому что Звезды предназначены для двоих, а законы природы – еще не повод, чтобы зажигаться, если это в принципе никому не нужно. И нигде-нигде в округе нет света. Мало того что ночь, да и во всей округе людям, кроме меня, делать нечего. И огням тоже здесь делать нечего. И что делаю здесь я, тоже никому не известно. Вот и нет света. Ни на небе, ни на земле. Только в море в 4–5 километрах на юг загорелся огонек на лодке Японского Рыбака, отвалившего от Хоккайдо на ловлю трепанга…
А в другой стороне, в 9 часах на Запад, за таможней, где-то за самой дальней границей России светится Ваше окно. Потому что в нем отражается пришедшее от меня Солнце.
Вам не нужен Японский Рыбак. А Японскому Рыбаку не нужны Вы. И ни Вы, ни Японский Рыбак ничего не знаете обо Мне. Стоящем между двух огней.
Как и я ничего не знаю о вас. Обоих.
И я стою здесь. На мысе Крильон. Один. В абсолютной темноте…
– Скажите, девушка, Вы любите трепанги?
Путник
Путник шел по Лесу. Куда шел, Путник не представлял, да и не заморачивался этим вопросом. Дело в том, что он был Путником, и смысл жизни видел не в цели Пути, а в процессе. В процессе хождения по Пути. Есть же люди, которые едят не для много наесться, а для потому что хочется. Так вот наш Путник шел не для чтобы фигурально наесться, а для потому что хочется. Вот и шел по Лесу, без какой-никакой меркантильной идеи.
И вот Он уже шестой день шел по Лесу. Пели Птички, ревели Медведи, рычали Кто-то, Зайчишка, Зайка серенький по лесу скакал. Внутрь-наружу, внутрь-наружу, наружу-внутрь сновали Дождевые Червяки в тщетной надежде определить, где у них перед, а где – зад. Порою Волк, Сердитый Волк (ух, какой сердитый) тропою пробегал. Пробежит тропою, косо так посмотрит на Путника и дальше пробежит. А потом опять порою тропою пробежит. И еще – порою. Тропою. Пробежит. Путник уже даже задумался, чего это Волк?! Сердитый Волк?! Зачастил?! Порою?! Тропою?! Пробегать?! А раз на двенадцатый – двадцать шестой Волк остановился.
– У тебя закурить есть? – спросил Волк Путника.
– Нету у меня закурить, – ответил Путник Волку.
– Правду говоришь? – спросил Волк Путника.
– Зуб даю, – ответил Путник Волку. И отдал зуб.
– Тогда закури, – сказал Волк Путнику и дал Ему закурить. И зуб назад вернул.
И стал порою пробегать по тропе уже Несердитым.
А Путник пошел себе дальше. По Лесу.
А потом из Лесу вышел. В самый что ни на есть сильный мороз. И перед ним была быстрая река, вся покрытая льдом. Но во льду была дыра, которая называлась Прорубь. И в ней, в Проруби, скучала Щука.
– Куда путь держишь? – спросила Щука для первого знакомства. Потому что жутко соскучилась по человеческому общению
– Да вот, – отвечал Путник, – иду туда, не знаю куда.
– А зачем? – заинтересовалась Щука. – Ради какого интересу?
– А вот иду себе и иду. Потому как интересно. А больше никакого интереса нет.
– А как насчет «по щучьему велению, по моему хотению»? – прямым наводящим намеком намекнула Щука. (Она сказочная была. Если кто не догадался.)
– Не, – ответил Путник, – спасибо на добром слове. Все есть. – Поклонился в пояс (тут я всегда мучаюсь, в чей пояс он поклонился: в свой или в щучий) и пошел себе дальше.
А Щука осталась себе дальше скучать в проруби.
А дальше Путнику попадались Двое из Сумы, поинтересоваться, не надо ли, кого – того-самого. Скатерть-Самобранка, которая и так и сяк, и так и сяк, и даже – и сяк и так, но Путник вынул из котомки (я вам забыл сказать, что у него была котомка на палке, как у Ежика Юрика Норштейна) кусок пеклеванного хлеба, съел его и тихо посмотрел на Скатерть-Самобранку. Та заменжевалась и ушла в глухой пост.
Так же ему попытались оказать услугу Сапоги-Скороходы, но Путник же шел себе и шел без спешить куда-либо и в услугах Сапогов-Скороходов потребности не чувствовал.
А уж Шапка-Невидимка, Меч-Кладенец, Сивка-Бурка-Вещая-Каурка даже и не пытались. Прослышав от Сороки-Вороны о такой пронзительной непотребности Путника в сказочном облегчении Пути.
Вот так вот Он и шел по Пути.
Впереди его ждали Быстрые Реки, Высокие Горы, Глубокие Долы… И всем Путник давал по Пути названия: Клязьма, Ока, Валдай (там Путник, чтобы было веселее идти, придумал Колокольчик). Назвал еще город Калязин, село Семёнчиково. Разве всех упомнишь… Вот еще Китеж-град…
И где-то далеко-далеко его ждало Море-Окиян. Путник еще не знал, как назовет его. Он вообще не знал о существовании Моря-Окияна.
Ведь Он просто шел по Пути.
Просто шел.
Одряхлевшая пыль
Одряхлевшая Пыль лежит на окне моей комнаты. Давно лежит. Я уже даже и не верю, что окно может быть чистым. Что сквозь него на улице может быть что-то видно. Кроме Пыли. И Прохожий не сможет увидеть, что происходит в моей комнате. Из-за Пыли. И у него может сложиться впечатление, что в моей комнате, кроме Пыли, ничего не происходит. И это впечатление довольно верное. В ней ничего не происходит…
На столе стоит тарелка с грибным супом. Он почти высох, но что-то еще в тарелке можно наскрести. Правда, это что-то дурно пахнет, но у меня пропало обоняние, и мне, вздумай я съесть эти остатки, запах бы не помешал…
Шкафа, в котором висела моя одежда, нет. Как нет в нем и моей одежды. И зачем шкаф, если в нем нет одежды…
Венские стулья (шесть штук) вынесли. Вместе с раздвижным столом. Если придут гости…
Пишмашинка «Corona» исчезла, потому что моя жена Фира, секретарь помощника присяжного поверенного Соломона Григорьевича Липкина, исчезла на час раньше. Я долго слышал ее крики со двора, а потом крики исчезли, а значит, исчезла и моя жена. И пишмашинка «Corona» отправилась на поиски другой секретарши…
Интересно, найдут ли другую мать двое моих детей, Сонечка и Шмулик, исчезнувших вместе с плачем. Но их плач я почему-то слышу до сих пор…
И еще я слышу песенку одесского куплетиста Лейбы Марковича Зингерталя, которая истекала из граммофона фирмы «Граммофон». Пластинку заело на словах «Что сказать насчет спир…». Я никогда не узнаю, чем она закончится. Потому что на этих словах завод граммофона кончился. Как и граммофон. А завести его некому. Потому что и меня в комнате нет. Или есть?… Я не знаю, где я точно есть. Как не знаю, где меня точно нет. Как не знаю, где моя жена Фира, двое моих детей…
Да, я забыл вам сказать, что я не знаю, и где мои папа с мамой Мария Яковлевна и Яков Ароныч. Я даже не помню, они сами ушли до того или и их… Не помню. Не знаю. Не хочу знать. Ничего не хочу знать. Ничего.
Извините.
«Будет ласковый дождь».