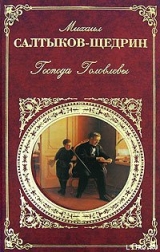
Текст книги "Господа Головлевы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось, теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю; «прррощай, брат!» – восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполоборота к Улитушке и говорит: кутью-то, кутью-то не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертцу поставьте… братца опять в доме помянуть! Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат! брат! не захотел ты с нами пожить!» – восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава Богу, наелись и даже выспались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение.
Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней:
– А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были… хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал… и куда только эти запоночки девались – ума приложить не могу!
Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске, на почетном месте, восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь; против него сидели два его сына: Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце: «Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет!» – подумалось ей; девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога; захлопали двери, забегали люди, раздались крики: барин едет! барин едет! – и все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых, заслуженных дворовых выдавалась при «прежнем» барине месячина; многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили «свободно»; всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли «новый» барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими.
Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек, он скорбел; как христианин – роптать не осмеливался. Он молился «о ниспослании», но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья, в паре, шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами; Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними, безмолвной гурьбой, следовал кортеж дворовых.
Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку; потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес:
– А вы всё унываете! Нехорошо это, друг мой! ах, как нехорошо! А вы бы спросили себя: что, мол, Бог на это скажет? – Скажет: вот я в премудрости своей все к лучшему устрояю, а она ропщет! Ах, маменька! маменька!
Потом перецеловал обеих племянниц и с тою же пленительною родственностью в голосе сказал:
– И вы, стрекозы, туда же в слезы! чтоб у меня этого не было! Извольте сейчас улыбаться – и дело с концом!
И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но, в сущности, только благосклонно шутил.
– Посмотрите на меня! – продолжал он, – как брат – я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул… Жаль брата, очень, даже до слез жаль… Всплакнешь, да и опомнишься: а Бог-то на что! Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак – и ободришься. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам… всем! – обратился он к прислуге. – Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!
И он с тою же пленительностью представил из себя «молодца», то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!
Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку.
– Так так-то, милый друг маменька! – сказал он, усаживаясь на диване, – вот и брат Павел…
– Да, и Павел… – потихоньку отозвалась Арина Петровна.
– Да, да, да… раненько бы! раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже… очень-очень об брате скорблю! Не любил меня брат, крепко не любил, – может, за это Бог и посылает ему!
– В этакую минуту можно бы и забыть про это! Старые-то дрязги оставить надо…
– Я, маменька, давно позабыл! Я только к слову говорю: не любил меня брат, а за что – не знаю! Уж я ли, кажется… и так и сяк, и прямо и стороной, и «голубчик» и «братец» – пятится от меня, да и шабаш! Ан Бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил!
– Говорю тебе: нечего поминать об этом! Человек на ладан уж дышит!
– Да, маменька, великая это тайна – смерть! Не вйсте ни дня ни часа – вот это какая тайна! Вот он все планы планировал, думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь, а Бог-то разом, в одно мгновение, все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть – ан они уж в книге живота записаны значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, не скоро выскоблишь!
– Чай, раскаянье-то приемлется!
– Желаю! от души брату желаю! Не любил он меня, а я – желаю! Я всем добра желаю! и ненавидящим и обидящим – всем! Несправедлив он был ко мне – вот Бог болезнь ему послал, не я, а Бог! А много он, маменька, страдает?
– Так себе… Ничего. Доктор был, даже надежду подал, – солгала Арина Петровна.
– Ну, вот как хорошо! Ничего, мой друг! не огорчайтесь! может быть, и отдышится! Мы-то здесь об нем сокрушаемся да на создателя ропщем, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке да Бога за исцеленье благодарит!
Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул.
– А ведь я к вам, маменька, погостить приехал, – продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз, – нельзя, голубушка… по-родственному! Не ровен случай – все же, как брат… и утешить, и посоветовать, и распорядиться… ведь вы позволите?
– Какие я позволения могу давать! сама здесь гостья!
– Ну, так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки – мне ведь немного нужно! А я между тем по-родственному… на антресоли к брату поплетусь – может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны.
Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, покрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так почтеннее); она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку; но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне.
Покуда это происходило, Павел Владимирыч находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампадки, с какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы; на потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнея, по мере того как усиливалось или слабело пламя лампадки. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимирыч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина – и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут… В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате – как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще… тени, тени, тени без конца! Идут, идут…
– Зачем? откуда? кто пустил? – инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку.
Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой.
– Больно? – спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах.
Павел Владимирыч молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели.
– Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! – сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле «милость» у него в кармане была.
Павел Владимирыч наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается «петля», которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.
– Ах, брат, брат! какая ты бяка сделался! – продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. – А ты возьми да и прибодрись! Встань да и побеги! Труском-труском – пусть-ка, мол, маменька полюбуются, какими мы молодцами стали! Фу-ты! ну-ты!
– Иди, кровопивец, вон! – отчаянно крикнул больной.
– А-а-ах! брат, брат! Я к тебе с лаской да с утешением, а ты… какое ты слово сказал! А-а-ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!
Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.
– Вот так! – продолжал он, – вот теперь славно! Лежи себе хорошохонько – хоть до завтрева поправлять не нужно!
– Уйди… ты!
– Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе – и тот какой-то строптивый стал! Уйди да уйди – ну как я уйду! Вот тебе испить захочется – я водички подам; вон лампадка не в исправности – я и лампадочку поправлю, маслица деревянненького подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно – и не увидим, как время пройдет!
– Уйди, кровопивец!
– Вот ты меня бранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать – я всем прощаю. Вот и сегодня – еду к тебе, встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж! и Христос с ним! он же свой язык осквернил! А я… да не только я не рассердился, а даже перекрестил его – право!
– Ограбил… мужика?…
– Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал – ну и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, – и Бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется, – нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!
– Иуда! предатель! мать по миру пустил!
– И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь! И если б я не был христианин, я бы тоже… попретендовать за это на тебя мог!
– Пустил, пустил, пустил… мать по миру!
– Ну, перестань же, перестань! Вот я Богу помолюсь: может быть, ты и попокойнее будешь…
Как ни сдерживал себя Иудушка, но ругательства умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.
– А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал, – сказал он, усаживаясь в кресло, – ты меня вот бранишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?
– Господи! да что ж это… уведите его! Улитка! Агашка! кто тут есть? – стонал больной.
– Ну, ну, ну! успокойся, голубчик! знаю, что ты об этом говорить не любишь! Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша… ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения… А еще: христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны – вот что, мой друг! Послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаяньем… Ну-ну! не буду! не буду! А право бы, так…
Павел Владимирыч лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если б он мог в эту минуту разбить себе голову, он несомненно сделал бы это.
– Вот и насчет имения – может быть, ты уж и распорядился? – продолжал Иудушка. – Хорошенькое, очень хорошенькое именьице у тебя – нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве: с песочком суглиночек-то! Ну, и капитал у тебя… я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал, а что и как – никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня; еду к тебе и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капитал есть! а впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжение сделал!
Больной отвернулся и тяжело вздыхал.
– Не сделал? ну, и тем лучше, мой друг! По закону – оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на чту уж хил – одной ногой в могиле стою! а все-таки думаю: зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик! Ни свары, ни зависти, ни кляуз… закон!
Это было ужасно. Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.
– Уйди… ради Христа… уйди! – начал он наконец молить своего мучителя.
– Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь… стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить! Вот я так тебя люблю! И детям всегда говорю: хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю! Так ты, значит, не делал распоряжений – и прекрасно, мой друг! Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один… ну да уж я поприсмотрю… А? что? надоел я тебе? Ну, ну, так и быть, уйду! Дай только Богу помолюсь!
Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал:
– Прощай, друг! не беспокойся! Почивай себе хорошохонько – может, и даст Бог! А мы с маменькой потолкуем да поговорим – может быть, что и попридумаем! Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил… рыбки солененькой, да грибков, да капустки – так ты уж меня извини! Что? или опять надоел? Ах, брат, брат!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя – спи себе да почивай! Хрр… хрр… – шутливо поддразнил он в заключение, решаясь наконец уйти.
– Кровопивец! – раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.
Покуда Порфирий Владимирыч растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь (не без цели что-нибудь выведать) и беседует с нею.
– Ну, ты как? – обращается она к старшему внучку, Петеньке.
– Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду.
– Выйдешь ли? который уж ты год обещаешь! Экзамены, что ли, у вас трудные – Бог тебя знает!
– Он, бабушка, на последних экзаменах из «Начатков» срезался. Батюшка спрашивает: что есть Бог? он: Бог есть Дух… и есть Дух… и Святому Духу…
– Ах, бедный ты, бедный! как же это ты так? Вот они, сироты – и то, чай, знают!
– Еще бы! Бог есть Дух, невидимый… – спешит блеснуть своими познаниями Аннинька.
– Его же никто же не виде нигде же, – перебивает Любинька.
– Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий, – продолжает Аннинька.
– Камо пойду от Духа твоего и от лица твоего камо бежу? аще взыду на небо – тамо еси, аще сниду во ад – тамо еси…
– Вот и ты бы так отвечал, – с эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь?
Володя багровеет и молчит.
– Тоже, видно: «и Святому Духу»! Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был… что, как он теперь с вами?
– Все то же, бабушка.
– Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то?
– Меньше, а все-таки… А главное, надоедает уж очень.
– Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?
– Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь… совсем подлость!
– А вы бы спрашивались! язык-то, чай, не отвалится!
– Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку… уж очень, бабушка, скучно он разговаривает!
– Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл…
– Ах вы, проказники! Что ж он?
– Ничего. Я ему говорю: это не дело, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и нос вам расквасить! А он: ну-ну! ничего, ничего! я, брат, яко тать в нощи!
– Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял да к себе в шкапик и положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его, искал, всех людей к допросу требовал…
– Что это! скуп, что ли, он очень сделался?
– Нет, и не скуп, а так как-то… пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет…
– Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает… черствой-пречерствой! Только мы однажды с ним штуку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!..
– Однако ж, вы тоже… головорезы!
– Нет, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира, да еще с маслом!
– Чай, на порядках досталось вам!
– Ничего… Только целый день плевался и все словно про себя говорил: шельмы! Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится!
– Чего меня бояться… не пугало, чай!
– Боится – это верно; думает, что вы проклянете его. Он этих проклятиев – страх как трусит!
Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: что, ежели и в самом деле… прокляну? Так-таки возьму да и прокляну… прроклиннаю!! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос: что-то Иудушка? какие-то проделки он там, наверху, проделывает? так, чай, и извивается! Наконец ее осеняет счастливая мысль.
– Володя! – говорит она, – ты, голубчик, легонький! сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них там?
– С удовольствием, бабушка.
Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.
– Как это вы к нам сегодня надумали? – начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.
– Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что доктор был и что не нынче так завтра дядя непременно умереть должен.
– Ну а насчет наследства… был у вас разговор?
– Мы, бабушка, целый день всё об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде, еще до дедушки было… даже Горюшкино, бабушка, помнит. Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было – нам бы Горюшкино-то принадлежало! И дети-то, говорит, бог знает от кого – ну, да не нам других судить! У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем… так-то, брат!
– Ишь ведь какой! Замужем, чай, тетенька-то была; коли что и было – все муж прикрыл!
– Право, бабушка! И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает! И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была – по всем бы правам ему в головлевском роде быть должно; ан папенька, покойник, за сестрою в приданое отдал! А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли! По двадцати фунтов весу – вот какие дыни!
– Уж в двадцать фунтов! чтой-то я об таких не слыхивала! Ну а насчет Дубровина какие его предположения?
– Тоже в этом роде. Арбузы да дыни… пустяки всё! В последнее время, впрочем, все спрашивал: а как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал? Он, бабушка, уж давно все вычислил: и выкупной ссуды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долгу уплачено… Мы и бумажку видели, на которой он вычисления делал, только мы ее, бабушка, унесли… Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели! Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкап переложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просвиры засунем… раз он в баню мыться пошел, – смотрит, а на полке бумажка лежит!
– Веселье у вас там!
Возвращается Володенька; все глаза устремляются на него.
– Ничего не слыхать, – сообщает он шепотом, – только и слышно, что отец говорит: безболезненны, непостыдны, мирны, а дядя ему: уйди, кровопивец!
– А насчет «распоряжения»… не слыхал?
– Кажется, было что-то, да не разобрал… Очень уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжит – и только. А потом дядя вдруг как крикнет: «у-уй-дди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда!
– Хоть бы сиротам… – тоскует в раздумье Арина Петровна.
– Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст, – удостоверяет Петенька, – я даже так думаю, что он и нас-то наследства лишит.
– Не в могилу же с собой унесет?
– Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намеднись недаром с попом поговаривал: а что, говорит, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить – много на это денег потребуется?
– Ну, это он так… может, из любопытства…
– Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст!
– А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет? – любопытствует Володенька.
– Ну, это еще Богу известно, кто прежде кого умрет.
– Нет, бабушка, отец наверно рассчитывает. Давеча, только мы до дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился: слава Богу, говорит, опять по своей земле поедем!
– Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал: вот, говорит, кабы на хозяина – ах, хорош бы был лесок! Потом на покосец посмотрел: ай да покосец! смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено! тут прежде конный заводец был.
– Да, да… и лесок и покосец – все ваше, голубчики, будет! – вздыхает Арина Петровна, – батюшки! да, никак, на лестнице-то скрипнуло!
– Тише, бабушка, тише! Это он… яко тать в нощи… у дверей подслушивает.
Наступает молчание; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: ах, детки, детки! Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят; сиротки молчат и завидуют.
– А вы, кузина, мамзель Лотар видели? – заговаривает Петенька.
Аннинька и Любинька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии.
– В «Прекрасной Елене»… она на театре Елену играет.
– Ах да… Елена… это Парис? «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь»… Знаем! знаем! – обрадовалась Любинька.
– Это, это самое и есть. А как она: cas-ca-ader, ca-as-ca-der выделывает… прелесть!
– У нас давеча доктор все «кувырком» пел.
– «Кувырком» – это покойная Лядова… вот, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли… думали, что революция будет!
– Да ты об театрах, что ли, болтаешь? – вмешивается Арина Петровна, – так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь…
– Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите! – жалуется Аннинька.
– А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите! Мы вам там все покажем!
– У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а божественное, – продолжает наставительно Арина Петровна.
– Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим, – вот и божественное будет!
У сироток даже глазки разгорелись и кончики носиков покраснели при этих словах.
– А как, говорят, поют у Сергия! – восклицает Аннинька.
– Сем уж, кузина, возьмите. Трисвятую песнь припевающе– даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем Подьяческим покатали.
– Мы бы вас, кузина, всему-всему научили! В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много: ходят да каблучками постукивают.
– Разве что этому научите! – вступается Арина Петровна, – уж оставьте вы их, Христа ради… учители! Тоже учить собрались… наукам, должно быть! Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду… и так-то мы там заживем!
– А вы всё сквернословите! – вдруг раздалось в дверях.
Посреди разговора, никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух.
– Плох! ах, как плох! – наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку.
– Неужто уж так?
– Очень-очень дурен, голубушка… а помните, каким он прежде молодцом был!
– Ну, когда же молодцом… что-то я этого не помню!
– Ах нет, маменька, не говорите! Всегда он… я как сейчас помню, как он из корпуса вышел: стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком… Да, да! Так-то, мой друг маменька! Все мы под Богом ходим! сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать, а завтра…
Он махнул рукой и умилился.
– Поговорил ли он, по крайней мере?
– Мало, голубушка; только и молвил: прощай, брат! А ведь он, маменька, чувствует! чувствует, что ему плохо приходится!
– Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит!
– Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости; прозорливость, говорят, человеку дана; который человек умирает – всегда тот зараньше чувствует. Вот грешникам – тем в этом утешенье отказано.
– Ну-ну! об «распоряжении» не говорил ли чего?
– Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать! Что ты мне, брат, по милости своей, оставишь, я всему буду доволен, а ежели и ничего не оставишь – и даром за упокой помяну! А как ему, маменька, пожить-то хочется! так хочется! так хочется!
– И всякому пожить хочется!
– Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе – хоть сейчас готов!
– Хорошо, как к Богу, а ежели к сатане угодишь?
В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: а что, ежели… прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря; он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежною канителью.
«Прокляну! прокляну! прокляну!» – все решительнее да решительнее повторяет про себя Арина Петровна.
В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимирыча, со смертью его – всем сделалось жалко. Припоминали, что он «никого не обидел», «никому грубого слова не сказал», «ни на кого не взглянул косо». Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип «доброго барина». Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему, – да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг… А была бы жива простота, – и теперь бы ее накаливали: накаливай, робята! что дуракам в зубы смотреть! Один мужичок принес Иудушке три целковых и сказал:
– Должок за мной покойному Павлу Владимирычу был. Записок промежду нас не было – так вот!
Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на маслице для «неугасимой» отдаст.
– И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя! Ты и не ждешь – ан вдруг тебе Бог счастье пошлет!
Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него кортомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл (его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях), и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», говорит пословица, а у всех на знати, каков сосед головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом, сатанинским, изведет. И так как злость (даже не злость, а скорее нравственное окостенение), прикрытая лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые «соседи» (Иудушка очень приветливо называет их «соседушками») боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами.








