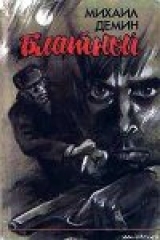
Текст книги "БЛАТНОЙ"
Автор книги: Михаил Демин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
20
Раздобыть еду
Новочеркасск открылся мне на заре; он выплыл из пепельной мглы – просторный, разбросанный по склону горы, позлащенный утренним солнцем… И вскоре я уже шагал по улицам бывшей столицы Всевеликого Войска Донского.
Адрес тетки я знал весьма смутно. Помнил только, что дом ее находится где-то в самом центре города – на одной улице с особняком Беляевских. Знал также, что улица эта называлась в свое время Ратная, а теперь переименована в Красноармейскую. Сведения были скудны, однако для Новочеркасска их оказалось вполне достаточно.
Первый же встреченный мною старик (в полинявшей казачьей фуражке и шароварах, заправленных в толстые вязаные чулки) охотно и обстоятельно растолковал мне, как пройти к дому Болдыревых.
– Когда-то богатый особнячок был, видный, – заметил он, посасывая гнутую хрипучую трубку, – а теперь и смотреть не на что, – он наморщился и сплюнул в пыль. – Срамота, грязь… Был один хозяин, теперь их сорок… Все хозяева! Некого на хрен послать.
Дом и действительно вид имел неопрятный, запущенный; фасад его был в потеках, в ржавых пятнах сырости, парадный вход заколочен досками. На резной решетке двора моталось белье, развешенное для просушки. Здесь же толпились бабы – галдели, перебранивались, сорили подсолнечной шелухой.
– Зинаида Болдырева? – задумчиво в ответ на мой вопрос протянула одна из них. – Что-то я не соображу. Я ведь тут недавно… Это кто же такая?
– Бывшая хозяйка этого дома, – сказал я. – Неужто не знаете?
– Ах, бывшая, – засмеялась она. – Ну, как же, как же! Знаю. Андреевна… А вам она зачем?
– По делу, – сказал я сухо.
– Ну, так ступайте наверх.
– Куда же? – спросил я, окидывая взглядом окна второго этажа.
– На самый верх, – пояснила баба. И опять засмеялась, обнажая крупные желтые лошадиные зубы. – Ихние хоромы – под крышей, на чердаке!
Я поднялся на чердак по скрипучей узенькой лестнице. С трудом разыскал в полумраке дверь. Толкнул ее и ощутил густой, невыразимо сладостный запах жареной картошки.
Я словно бы опьянел от этого запаха (я ведь не ел почти трое суток!) и, войдя в просторную, чисто прибранную комнату, как-то сразу ослаб; прислонился к дверной притолоке, смахнул рукавом испарину со лба. Голова у меня кружилась. И вероятно поэтому я не сразу заметил стоящую в глубине комнаты женщину.
Невысокая, седая, в брошенном на плечи платке и темном, старушечьем платье, она стояла возле стола – возле сковородки с шипящей, розовой, подернутой паром картошкой.
– Здравствуйте, – сказал я. – Вот мы и увиделись наконец. Я Трифонов. Сын Евгения Андреевича.
– Сын Евгения? – она вздрогнула, судорожно нашарила на столе пенсне и поднесла его к глазам. – Это какой же сын – Андрей, что ли?
– Нет, – косясь на сковородку и глотая слюну, ответил я, – нет, другой.
С минуту она изучала меня, разглядывала пристально, настороженно. Потом сказала, щурясь и поджимая губы:
– Сын Евгения… А скажи-ка, где вы жили в Москве?
– Смотря когда, – пробормотал я.
– Что значит – когда? – нахмурилась она. – Я спрашиваю, где вы вообще жили?
– В разных местах, – ответил я, испытывая растерянность и неловкость. Встреча эта представлялась мне иной; я не ожидал подобного допроса. – При отце мы почти все время проживали за городом.
– За городом?
– Ну, да. На станции Кратово. Это по Казанской дороге. А потом я к матери перебрался.
– А какой у нее адрес?
Я назвал улицу и номер дома. Она промолчала и затем знакомым, совершенно отцовским жестом сняла пенсне. Подышала на него. Медленно протерла стеклышки.
Я ожидал, что она улыбнется, пригласит меня сесть, поинтересуется, не голоден ли я… Но вместо этого она спросила:
– А документы у тебя есть?
– Послушайте, тетя, – проговорил я. – Вы что не верите мне или боитесь чего-то?
– Да нет, – замялась она, – не в этом дело. Просто хочу посмотреть – на всякий случай.
– На какой это случай? – перебил я ее.
– Ну, мало ли… Вдруг придут проверять!
– Вот тогда я и покажу документы. Или вам нужно сейчас?
– Да, – сказала она, – да. Сейчас!
Я посмотрел ей в лицо и понял, что надеяться здесь не на что; она не примет меня, не спасет, не укроет. Она боится! Боится всего. Она больна этим страхом. И давно уже ничему не верит.
И тогда, не говоря больше ни слова, я повернулся, резко рванул дверь и вышел на лестницу, сопровождаемый хмельным и томительным ароматом еды.
* * *
Медленно, на ватных ногах, добрел я до вокзала, потолкался там, нашел на перроне несколько окурков и долго, с жадностью хлебал папиросный дым… Потом влекомый толпою мешочников вскочил в вагон ростовской электрички.
Я не знал, куда и зачем еду. Теперь мне все было безразлично. Отчаявшийся и бездомный, я чувствовал себя в тупике, в безвыходном положении. Устроиться на работу я без паспорта не мог. Жить мне было негде и не на что. Оставалось одно: идти сдаваться в милицию… И кто знает, возможно, я так бы и поступил, если бы не память. Слишком сильны и отчетливы были мои воспоминания о лагере, о тюремной больнице! Нет, возвращаться к этому я не мог, не хотел. «Лучше уж подохнуть, – думал я, стоя в тесном, битком набитом тамбуре, – подохнуть под забором, под любым кустом, где угодно, но только не в камере, а на воле».
В сущности, это была мысль о самоубийстве, еще не окрепшая, не вызревшая, но все же вполне определенная мысль!
Как это ни удивительно, окончательно созреть и оформиться ей помешал голод.
Была суббота – базарный день. И люди, ехавшие со мною (это были, в основном, жители Новочеркасска и окрестных станиц), спешили в Ростов, на «Привоз» – на центральный рынок. Все разговоры в вагоне велись о продуктах, о товарных ценах. И, невольно прислушиваясь к ним, я тоже решил побывать на «Привозе». «В конце концов, – подумал я, – подохнуть никогда не поздно. Это успеется. Самое главное сейчас – раздобыть еду!»
* * *
Я долго в этот день мыкался по базару – приглядывался, ждал удобного случая… Случай, однако, не подворачивался; местные торгаши были люди опытные, зоркие, способные сами обмануть кого угодно.
У меня не хватало должной сноровки, я сознавал это! И не знал, что же мне делать дальше? Обессилев от напрасных трудов, я остановился, прислонясь к телеграфному столбу. Губы мои запеклись и потрескались, глаза щипало от пота. Сквозь зыбкую, застилающую взор пелену я видел край дощатого ларька, груду ящиков и мешков, а рядом с ними – красное распаренное лицо старухи, торгующей рыбными котлетами.
– А вот они горяченькие, – монотонно выкликала она, – из налима, из чебака, из сомины! Без обману! На подсолнечном масле!
Товар старухи шел нарасхват. Карманы потертого ее жакета распухли от денег. Один из карманов, судя по всему, был прорван и деньги попали за подкладку; она провисла от тяжести, топорщилась, бросалась в глаза…
Кто– то легонько тронул меня сзади за рукав. Я обернулся и увидел худощавого паренька -курносого, с белыми бровями, с растрепанной челочкой, косо прикрывающей лоб.
– Пасешь? – спросил он, подмигивая; он явно принимал меня за своего. – Молотнуть хочешь, а?
В ту пору я еще плохо знал воровской жаргон; далеко не все понимал в нем, но общий смысл этих слов уловить было все-таки можно.
И я сказал, стараясь выглядеть человеком бывалым, знающим дело:
– Молотнуть можно, конечно. Гроши приличные – сами в руки просятся…
– Давай вместе, – быстро проговорил паренек. – Хочешь, а?
С этого момента, собственно говоря, и началась моя блатная биография.
21
Первая кража
Первая кража, как и первая любовь, событие особое, памятное, оставляющее в душе неизгладимый след. Потому он так прочно и врезался мне в память, давний этот июньский день!
Я помню его превосходно, во всех подробностях. Помню, как новый мой приятель сказал шепотком:
– Становись на отмазку… Отвлекай! И я ответил в растерянности:
– Как ее, собаку, отвлечешь?
– Ну, как, – он дернул плечом. – Сам соображай. Поторгуйся, придерись к чему-нибудь… Только не тяни, не медли.
Он весь был как на пружинах, озирался, дергался, говорил торопливо и глухо:
– Работа пустяковая – сделаем быстро! А потом встретимся на берегу, у затона, там, где вся кодла собирается… Спросишь Леньку Хуторянина, тебе каждый покажет.
Я молча кивнул. Подошел к старухе вплотную и небрежно спросил ее, поигрывая бровью:
– Почем продаешь, мамаша?
– Червончик пара, – отозвалась она, – горяченькие, без обману…
– Без обману, говоришь? – прищурился я. – Все вы тут горазды на слова, а сами тухлятиной торгуете!
Лицо ее перекосилось, брови гневно поднялись, глаза вышли из орбит.
– Это кто, – спросила она, подбоченясь, – это кто тухлятиной торгует?
Она наступала на меня, захлебываясь, путалась в словах:
– Это я-то? Да ты… Тухлятиной? Да ты в своем ли уме? Ах ты…
Пока она бушевала, парень с челочкой не дремал. Незаметно подкравшись к ней, зайдя со спины, он опустился на корточки. В руке его блеснула бритва… Все последующее произошло в одно мгновение.
Аккуратно, кончиками пальцев приподнял он полу старухиного жакета, нащупал цветастую, отягченную деньгами подкладку, слегка оттянул ее книзу, примерился глазом и стремительным, плавным движением полоснул по ней лезвием бритвы.
И сейчас же на землю, в пыль, густо посыпались скомканные червонцы.
Откуда-то возник еще один паренек – смуглолицый, в клетчатой, сбитой на ухо кепочке. Присел рядом с Хуторянином и помог ему собрать рассыпанные деньги. Затем оба они шмыгнули за угол ларька.
Уходя, смуглолицый оглянулся, мигнул мне значительно и указал ладонью куда-то вдаль. Проследив за направлением его руки, я увидел голубую, мерцающую полоску воды.
Ребята звали меня туда, к излучине Дона! Пора было смываться… Отмахиваясь от разъяренной торговки, я сказал примирительно:
– Ну, чего ты, старая, развопилась? Остынь. Я же ведь не о тебе лично говорю, я – вообще… – и отступил поспешно – окунулся в толпу.
Минуту спустя, когда я выбирался уже из рыбных рядов, послышался истошный, пронзительный бабий вопль. Торговка обнаружила пропажу и убивалась теперь, голосила на весь «Привоз».
Боюсь, что я разочарую моралистов и блюстителей нравственности: никаких угрызений совести я в этот момент не испытывал – наоборот! Я был ожесточен, предельно озлоблен. Озлоблен на весь мир, на всех людей.
«Меня никто не жалел, – угрюмо думал я, – никто, никогда! После того как умер отец, я ни от кого не видел добра – ни от близких мне людей, ни от чужих. Все они – дерьмо, все одинаковы! С какой стати я буду им сочувствовать? Проклятые, они заслуживают не жалости, а мести».
Так я размышлял, продираясь сквозь базарную толпу, и потом шагал по берегу Дона. Я шел к блатным. Путь мой был ясен; сама судьба указала мне его.
Я ступил на эту стезю случайно, но менять ее отныне не собирался! Единственное, что меня беспокоило, – это предстоящее знакомство с «кодлой», с таинственным воровским миром. Как там отнесутся ко мне, как примут? Да и примут ли?
* * *
Я разыскал блатных довольно быстро; они размещались за бугром, на пляже – на песчаной косе, омываемой мутной, радужной от мазута водою.
Кодла была в сборе! И выглядела она со стороны весьма мирно. Развалясь на песке, урки выпивали, закусывали, некоторые из них загорали, подставляя солнцу расписные, татуированные плечи и животы. Иные сидели, собравшись в кружок; там шла игра, трещали карты, раздавались отрывистые, странные, похожие на заклинания слова: «Иду по кушу. Не заметывай! Четыре сбоку – ваших нет!»
Здесь же слонялись и женщины, очевидно, воровки или же проститутки, а может быть, просто подруги блатных.
Внезапно из-за днища опрокинутой барки выглянула белесая, с растрепанной челочкой голова.
– Эй, ты, – крикнул Хуторянин и свистнул в согнутый палец. – Где это ты застрял? Иди, давай получай долю!
Я приблизился к барке, и тотчас же у меня схватило от голода кишки, рот наполнился вязкой, тягучей слюной… Ребята пировали!
На разостланной газете у их ног были навалены помидоры, куски колбасы, ноздреватые, крупные ломти хлеба. Лоснилась желтоватая тарань. Зыбко поблескивала початая бутылка водки.
– Я уж было подумал – тебя прихватили, – проговорил Хуторянин. – Смотрю: нету и нету… Так как – все нормально?
– Нормально, – усмехнулся я, вспоминая торговку, перекошенное ее лицо, пронзительный, судорожный голос.
– Ну и лады, – сказал он, – отдыхай… Может, захмелиться хочешь?
И, не дожидаясь ответа, быстро (он все делал быстро!) схватил бутылку, плеснул из нее в стакан и широким жестом придвинул мне закуску.
Молча, благодарно принял я из рук его стакан водки, выпил, перевел дух и хищно впился зубами в пахучую, нежно похрустывающую горбушку.
Покуда я ел, ребята помалкивали, курили, затем один из них (тот, кто был в клетчатой кепочке) сказал с едва уловимым акцентом:
– Давай, дорогой, рассчитаемся.
Он пошуршал в кармане, достал оттуда пачку смятых червонцев, разгладил их, разровнял и сунул мне в ладонь.
– Держи! Девять красненьких. Всем поровну – так?
– Так, – согласился я. И замолчал, посуровел, разглядывая замусоленные эти бумажки – первую блатную добычу, первый свой воровской гонорар.
– Это все, конечно, зола, – проговорил Хуторянин, по-своему расценив мою задумчивость, – но ничего! Курочка по зернышку… К вечеру пробежимся еще разок – и лады. Базар у нас здесь бога-а-тый.
Он выразительно щелкнул пальцами. И вдруг спросил, глядя на меня в упор:
– Ты откудова залетел?
– Из Москвы, – ответил я, весь подобравшись внутренне, боясь хоть в чем-нибудь оплошать.
– Чалиться где-нибудь приходилось?
– Конечно, – сказал я. Слово «чалиться» было мне знакомо, означало оно – сидеть, быть в тюрьме… Я запомнил его давно и накрепко.
– Где же ты побывал?
– Да почти везде, – процедил я, лениво оттопыривая губу. – В Бутырках, на Красной Пресне.
– Я тоже в Москве подзасекся разок, – протяжливо и гортанно сказал смуглолицый. – Только я не на Пресне был, а в Таганке… Знаешь Таганку?
– Знаю, – соврал я, – тюрьма знаменитая.
– Ну, давай знакомиться!
Он протянул растопыренную, раскрытую для пожатия пятерню. Представился:
– Кинто, – и посмотрел на меня выжидательно.
И вот, в тот самый момент, когда я уже готовился пожать ему руку и мысленно, наспех подыскивал собственное свое прозвище (хотелось назваться как-нибудь позамысловатей, поблатней), откуда-то сбоку прозвучал шепелявый, медленный, странно знакомый голос:
– Чума, ты, что ль? Вот не ожидал!
Я поднял голову – и увидел Гундосого.
22
Сын босяка – это красиво!
Первым моим чувством было смятение. Встреча с давним этим врагом не сулила мне ничего хорошего…
Кривя в ухмылочке мокрые свои губы, Гундосый спросил:
– Ты что, Чума, тут делаешь?
– Сам видишь, – сказал я, – выпиваем…
– Ну так пойдем со мной, – заявил он, – выпьем еще и, кстати, потолкуем. Как-никак, давние знакомые.
Я медленно встал и побрел за ним, увязая в раскаленном песке. Тон его озадачил меня. В нем не чувствовалось прежнего высокомерия; слова звучали мягко, почти дружелюбно.
«Что– то тут не так, -лихорадочно соображал я,– что-то за всем этим кроется… Непонятно только – что?»
Когда мы отошли, он сказал, искоса оглядывая меня:
– К шпане, значит, прибился? Блатную жизнь полюбил? За-а-абавно!
– Так уж вышло, – я пожал плечами, – Такая выпала карта… И переигрывать поздно.
– И… не страшно? – поинтересовался он.
– А чего бояться-то? – беспечно ответил я.
– Ну, как же! Наша жизнь – не мед. Нет, не мед. Всякое бывает.
– Ерунда, – отмахнулся я. – Ты же знаешь, я не из пугливых. Помнишь ту ночь – на Красной Пресне?
Мгновенная судорога передернула его лицо. Верхняя рассеченная губа дрогнула и приподнялась, придавая ему сходство с каким-то мелким зверьком.
– Слушай, – сказал он, – к чему ворошить старое? Он подался ко мне, придвинулся вплотную:
– Ты вот что… Хочешь со мной дружить? Хочешь, чтоб я тебе помог?
– Что-о-о? – я даже попятился, удивленный. – Дружить?
Я ожидал всего что угодно, но только не этого! И колеблясь, томясь, опасаясь подвоха, спросил Гундосого:
– Это… серьезно?
– Конечно, – ответил он, – тут, милок, не до шуток. Если желаешь – помогу! Замолвлю за тебя слово. Блатные пока ничего про тебя не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда – сам понимаешь…
И, выдержав паузу, померцав глазами:
– Так как? – повторил он. – Хочешь?
– Ну, ясно, – сказал я, – еще бы! Только ты объясни: чего ты сам-то хочешь?
– Дело простое, – с натугой выговорил он. – Про тот случай – на Пресне – забудь! Не поминай ни единым словом нигде, ни с кем. Понял?
– Понял, – сказал я, не в силах скрыть торжествующей улыбки.
Вот, значит, как все обернулось! Любопытные сюрпризы иногда устраивает судьба. Гундосый утаил от ребят давнюю ту историю с надзирателем и оказался теперь в моих руках.
Наши шансы, таким образом, уравнялись. И неизвестно еще, кто кого должен отныне бояться по-настоящему!
Что– то в моем лице не понравилось ему, вероятно, улыбка. Очень уж она была откровенной! И он сказал, угрожающе понизив голос:
– Имей в виду, Чума! Начнешь трепаться – будет плохо. Наживешь беду.
– И ты тоже, – ответил я мгновенно и добавил с острым, мстительным удовольствием: – Имей в виду, Гундосый! Блатные ничего пока не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда – сам понимаешь…
– Н-ну, что ж, – он насупился, сильно потянул воздух сквозь сцепленные зубы. – В конце концов, погорим оба… Какой с этого прок? Что ты здесь выгадаешь?
– Да в общем-то ничего, – признался я.
– Тогда порешим по-доброму?
– Ладно, – сказал я, – порешим…
– Ну вот и порядок!
Гундосый выплюнул изжеванный окурок, утер рот ладонью, затем сказал, пришептывая и мигая:
– Теперь и в самом деле пора выпить! Только не здесь. Жара, пылища… Вот что, – он хлопнул меня по плечу, – пошли на «малину»! Кстати, познакомлю тебя кое с кем… На всякий случай, давай договоримся заранее: ты из воровской семьи, вырос в притоне. Мать – шлюха, отец – босяк, из старорежимных, из тех, кого раньше называли «серыми». Согласен?
– Господи, – сказал я, – ты прямо как в воду смотрел; почти все совпадает! Отец когда-то и в самом деле босяковал здесь, был самым настоящим «серым».
– Тем лучше, – подмигнул Гундосый. – Сын босяка – это красиво! Это звучит!
Воровская малина помещалась на одной из глухих окраинных улиц – в подвале углового двухэтажного здания.
В полутемном этом подвале было прохладно и душно. Синими полосами стлался над головами густой табачный дым. Прерывисто тенькала гитара, и женский голос пел с хрипотцой:
Ты не стой на льду – лед провалится,
Не люби вора – вор завалится.
Вор завалится, будет чалиться.
Передачу носить не понравится.
Хихикая и потирая ладони, Гундосый сказал:
– Гужуются урки!
И потащил меня к столу. Там сидело двое: грузный немолодой уже мужчина с усами в пестрой ковбойке и другой – долговязый, сутулый, с длинным лицом, с уныло поджатыми губами.
– Привет, Казак, – сказал Гундосый. – Когда приехал?
– Утром, – отозвался человек в ковбойке, – с тбилисским, десятичасовым.
– Сделали дело?
– Да не совсем, – поморщился он и тут же спросил, коротко кивнув в мою сторону: – Кто?
– Залетный, – поспешил объяснить Гундосый. – Я его знаю – всю его породу… Честная семья, истинно воровская!
Склонившись к Казаку, он что-то сказал негромко. Слов я не уловил; гитарист в этот момент взял новый аккорд, тронул басы. Под низкими сводами подвала поплыла протяжная мелодия «цыганочки». И тот же сипловатый голос завел, затянул:
Миленький, не надо, родненький, не надо.
Ой, как неудобно – в первый раз!
Прямо на диване, с грязными ногами,
Маменька узнает – трепки даст.
Плавное течение мелодии внезапно пресеклось, сменилось упругими плясовыми ритмами. Рокот гитары стал суше и звончей. И мгновенно в песню включился новый голос – мужской:
Я не буду, я не стану,
Я не вырос, не достану…
Гитара смолкла на миг. Еле слышно дрогнула одинокая струна. И в звенящей этой тишине призывно и отчетливо отозвалась женщина:
Врешь, ты будешь!
Врешь, ты станешь!
Я нагнусь, а ты достанешь.
– Делай, Марго, – закричали из угла, – давай, Королева! Огня больше, огня… Топни ножкой!
Стремительно зазвучали струны, грянула и рассыпалась дробь каблуков. Там в углу началась беспорядочная пляска… Малина гуляла! Она полна была адского веселья, угара и грохота.
Разворошив седоватые свои усы, Казак вложил в рот два пальца, пригнулся, багровея. И тотчас комната огласилась режущим, разбойничьим свистом.
Сутуловатый и тощий его собеседник (он был весьма метко прозван Соломой) сказал с укоризной:
– Что с тобой, друг мой? – и отодвинулся, потирая ухо. – Ты не на Большой Грузинской дороге. Ты – в обществе. Уймись!
Казак вытер пальцы о рубашку, сказал, покряхтывая:
– Вот ведь что делает, чертова баба! Разве удержишься?
– Да-а, – проговорил кто-то за моим плечом, – хорошо поет Королева. Только вот хрипит – Это зря…
– Ну, не скажи, – возразил Солома. – В этом тоже свой смак имеется. Вся заграница так хрипит. Весь Запад.
– Какая еще заграница? – прищурился Казак. – Откуда ты ее выдумал? Ох, любишь ты, Солома, треп разводить!
– Постой, постой, – сказал Солома. – Поч-чему – треп? Я говорю, как человек искусства, – он поднял палец. – Как старый онанист и ценитель Есенина!
Пока шел этот разговор, Гундосый исчез куда-то и вскоре явился, нагруженный свертками и бутылками, водрузил все на стол и потянул меня за рукав:
– Садись, Чума! Выпьем за все хорошее…
Когда мы приняли по первой порции, Солома поворотился ко мне и медленно спросил, крутя в пальцах стакан:
– Чем промышляешь, малыш?
– Да по-разному, – замялся я.
– С кем партнируешь?
– С Хуторянином и с Кинто.
– Ага, – сказал он одобрительно, – эти годятся. В люди выходят, правила чтут… Что ж, малыш, желаю удачи!
Потом к столу подошла Марго – черноволосая, с мощной, туго обтянутой грудью, уселась подле меня, закинула ногу на ногу, сцепила пальцы на поднятом, заголенном колене.
– Что-то я, мальчики, усталая нынче, – сказала она, потягиваясь всем своим крупным телом. – Хотя, конечно… Вторые сутки глаз не смыкаю…
– Много работаешь, – ухмыльнулся Гундосый.
– Да уж, известное дело, – равнодушно ответила Королева, – немало. А как же иначе?
И, подрожав ресницами, обведя взглядом стол, она легонько толкнула меня локтем:
– Налей-ка водочки, кучерявый.
От выпитого, от усталости, от всех треволнений безумного этого дня меня как-то быстро сморило. Безмерная сонливость овладела мною. Навалясь на край стола, я опустил голову и задремал незаметно.
Какое-то время еще слышался топот, звон посуды, гул голосов. Изредка – и словно бы издалека – просачивались сквозь шум невнятные фразы:
«В Тбилиси, ребята, дело тухлое».
«Я как старый онанист и ценитель Есенина…»
«Ты с чего это хрипишь, Марго? С перепоя или от сифилюги?»
Потом все спуталось, слилось, подернулось вязкою пеленою.
Последнее, что мне запомнилось, было круглое, облитое загаром колено Марго, раскачивающееся в двух сантиметрах от моего лица.
* * *
Так я вошел в блатное общество!
Приняли меня здесь вполне благосклонно (сын босяка – это красиво!) и с ходу зачислили в разряд «пацанов» – так на жаргоне именуется молодежь, еще не обретшая мастерства и не достигшая подобающего положения.
По сути дела «пацан» – то же самое, что и комсомолец. Перейти из этой категории в другую, высшую, не так-то просто. Необходимо иметь определенный стаж, незапятнанную репутацию, а также рекомендации от взрослых урок.
Процедура «возведения в закон» ничем почти не отличается от стандартных правил приема в партию… Происходит это, как водится, на общем собрании (толковище). Представший перед обществом «пацан» рассказывает вкратце свою биографию, перечисляет всевозможные дела и подвиги, причем каждое из этих дел подвергается коллективному обсуждению. И если блатные сходятся в оценке и оценка эта положительна, поднимается кто-нибудь из авторитетных урок, из членов ЦК и завершает толковище ритуальной фразой:
– Смотрите, урки, хорошо смотрите! Помните – приговор обжалованию не подлежит.
Впоследствии это произошло и со мной (на Кавказе, в городе Грозном – среди местных майданников). Однако прежде чем я стал законным уголовником, мне пришлось немало поколесить по югу страны…
Самой важной для меня проблемой в ту пору был выбор ремесла, выбор должной профессии.






