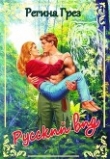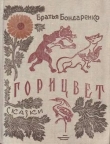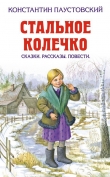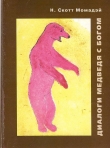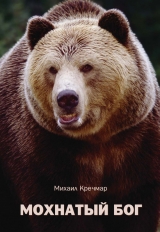
Текст книги "Мохнатый бог"
Автор книги: Михаил Кречмар
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Скотий бог» Волос, вероятно, трансформировался в хозяина и покровителя лесного зверья. И, возможно, этим первобытным хозяином и покровителем был как раз самый мо гучий лесной хищник – медведь.

«Отдых Великого князя Владимира Мономаха после охоты», в. м. Васнецов.
После принятия христианства двойником древнего Волоса стал святой Власий Севастийский, что, конечно, произошло по созвучию имён: Волос – Влас.
Считается, что моления Волосу начинались с нового года и продолжались все первые шесть дней января, которые отмечены «разгулом нечисти». В пользу этого говорят, по утверждению того же Б. Рыбакова, болгарские новогодние обряды, в которых участвовали 12 «старцев», одетых в звериные и скотские маски и обвешанные по поясу коровьими бубенцами-боталами. Этих старцев-сурватаров называли ещё и «медведями». Последним днём Святок у болгар было 7 января, когда вожак колядников угощал свою дружину, являвшуюся в масках. Среди них маска медведя была обязательной.

Старинный герб Перми (1783 г.).

Современный герб Пермской области (1995 г.).

Старинный герб Ярославля (1778 г.).

Герб Рыбинска (1778 г.).
По всей вероятности, Святки ранее делились на две половины: первая была посвящена будущему урожаю и гаданию о замужестве, а вторая (начиная с новогодней ночи) была связана со скотом и зверьём и представляла собой «Велесовы дай». Велес мог выступать как в виде тура-хозяина, так и медведя – «лесного царя».
В Михайловских курганах возле Ярославля сделано очень много находок, свидетельствующих о культе медведя. Чаще всего это были ожерелья из медвежьих клыков, слепки лап, ритуальные статуэтки. До самого недавнего времени в Поволжье бытовали многие поверья, связанные с медведями. В частности, если дорогу (в отличие от чёрного кота) перебежит медведь – жди удачи. Вспомнишь же медведя в море или озере – ожидай бури.
Пермская земля в своё время являлась средоточием медвежьего культа. При раскопках на Верхней Каме найдено очень много фигурок медведей из бронзы. Гляденовское кострище, раскопанное неподалёку от Перми, сплошь состоит из остатков жертвоприношений. В числе находок – медвежьи клыки очень крупных размеров и множество фигурок, где медведь изображён в самых различных положениях.
Раскопки позволили сделать вывод, что во всей Восточной Европе именно в Пермской и Ярославской землях медведь почитался особенно.
Имея столь прочные корни в народном сознании, бурый медведь не мог не перекочевать оттуда на многочисленные памятники материальной культуры – картины, лепнину, ювелирные украшения, эмблемы и гербы городов.
Бурый медведь отражён на гербах Ярославской и Пермской губерний, причём во втором случае это изображение весьма отчётливо перекликается с существовавшим в верхнем Прикамье медвежьим культом и восторжествовавшим над ним христианством. Если в 1666 году в указе Алексея Михайловича упоминается лишь «печать Пермская, на ней медведь идущий», то в более позднем «Титулярнике» на спину медведя поставлено Евангелие, а для пущей верности водружён ещё и крест.

Герб Новгорода (1781 г.).

Герб Новгородской области (1995 г.).

Старинный герб Сыктывкара (Усть-Сысольска, Коми) (1780 г.).

Современный герб Сыктывкара (1993 г.).
Фигура медведя включена в эмблему Ярославля, описанную в большой государственной книге, составленной по распоряжению Алексея Тишайшего в 1672 году.
На зелёной траве, на опушке леса, стоит на задних лапах медведь. На правом плече он держит воздетый протазан, левая лапа чуть приподнята. Всё это изображение заключено в овальную рамку из стилизованных листьев. В рамке над головой медведя славянской вязью выполнена надпись: «Ярославский».

Современный герб Кудымкара (Коми-Пермяцкий АО).

Герб московского района Южное Медведково (2004 г.).

Современный герб Карелии (1993 г.).

Белогрудый медведь на гербе Хабаровского края (1994 г.).
В ярославских землях до недавних пор существовало предание, связанное с историей основания города. Ярослав Мудрый шёл с дружиной, обозревая ростовские земли. Дорога была глухой, пустынной, местность, заросшая лесом, – дикой. Князь отстал от дружины в дремучем лесу на правом берегу Волги, недалеко от места слияния с ней речки Скоростей. Вдруг из оврага появился медведь и бросился на князя. Не растерявшись, тот ударил зверя секирой. В память о чудесном избавлении от опасности, князь распорядился на этом месте построить часовню, а окрестности, видимо на пакость медведям, заселить людьми – переселенцами из Ростова.
При Петре I герб был немного изменён, вместо протазана в лапы медведю вставили секиру. При Екатерине Великой тоже последовали кое-какие изменения: лес и трава убраны, другими стали рамка и положение медведя. В последний раз герб пересматривался в царствование Николая I.
Медведь присутствует и в гербах других российских городов, например Рыбинска. Его герб описывается следующим образом: «На красном щите – река; к её берегу ведут две массивные лестницы, обозначающие пристань; из-за реки выходит медведь с золотой секирой в левой лапе; внизу видны две стерляди, свидетельствующие об изобилии рыбы».
В новгородском гербе медведь тоже занимает заметное место. Ещё в «Печати наместника Великаго Новагорода» (XVI в.) одной из фигур, наряду с рысью (барсом?), был медведь. В «Титулярнике» (XVII в.) новгородский герб представлен уже несколько иначе, но медведь не только не выведен из него, а даже рысь на древнем гербе заменена вторым медведем. С тех пор герб города стал носить на щите изображение двух медведей.
Новгородцы к медведю вообще испытывали давнее и подчёркнутое почтение. Подобно тому как носы кораблей викингов – драккаров – украшались головами змей и драконов, нос новгородской ладьи – «ушкуя» – выполнялся в виде головы медведя – наверное, как самого грозного зверя, известного в то время новгородцам. Правда, это было скорее всего изображение головы белого медведя, до сих пор сохраняющего на поморском Севере название «ошкуй», или «ушкуй».
В Карелии, «Стране непуганых птиц», если верить М. М. Пришвину, ещё в начале XX века сохранялось множество суеверий, связанных с медведями. В принципе у местных жителей считалось, что «зверь», или «звирь» (так назывался в то время медведь в лесных областях Карелии, и нельзя в этом иносказании не увидеть отголоска языческих верований), подчинён человеку. «Господь покорил его человеку», – говаривал писателю полесник Филипп. Однако такое подчинение имело и свои обратные стороны – по мнению лесных жителей, этим могли пользоваться колдуны, и они натравливали медведей на скотину. Разумеется, если её хозяева не оказывали колдунам должного почтения. Правда, на этот случай существовали другие колдуны, «отпускавшие» скотину от нападения медведей. Слепой колдун Микулаич поделился с писателем опытом подобного «отпуска», или «заговора», скотины – как самим текстом, так и описанием процесса.
«Бывало, троица подходит, со всех мест шлют, успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батожок и даёт пастуху записку с отпуском. Если пастух грамотный, то читает её, обходя скотину три раза вправо от батожка; если неграмотный, то за ним идёт кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берёт хлебный колосок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось.
Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня.
– Это отпуск хороший, – говорил он, – этим отпуском сто коров отпущено и сорок лошадей. Теперь пиши, верно пиши.
ОТПУСК
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Выйду я, раб Божий, пастырь (имярек), благословлясь из двери в дверь, из ворот в ворота. Стану я лицом на восток, хребтом на запад и помолюсь Христу небесному. Господь сотворил небо и землю, реки и озёра, и земную тварь, и человека, и меня, раба Божия, с моим любимым скотом, любимым животом, со скотинкой разношёрстной, доморощенной и новоприведённой, с коровами, быками, с тёлками рогатыми и комлатыми. Праведное солнце и праведный Господи! Поставь вокруг моего стада тын железный от земли и до неба и к тому тыну поставь двери стальные, ворота хрустальные, замки булатные, ключи золотые, чтобы не мог никакой дикий зверь видеть моего любимого стада, чтобы казалось моё стадо рысю, волку и широколапому медведю диким серым камнем. И как катится солнце праведное с лучами ясными с утра до вечера всякий день и час, так чтобы и катилось моё любимое стадо по всей поскотине на мою трубу и на мой голос. И как собирается в Божью церковь народ к пению церковному и ко звону колокольному и как муравьи сбегаются в свой муравейник, так и чтобы моё любимое стадо собиралось к своим дверям во всё красное лето отныне и до века. Аминь».
Современному читателю, привыкшему к бетонным фермам и ежегодной заготовке кормов, трудно представить себе, какую опасность представляли крупные хищники, в том числе и медведи, для мелких отдельных крестьянских стад, выпасавшихся на лесных полянах.
Как утверждает русский натуралист В. Шнитников, медведи в одной вологодской деревне за лето уничтожили 50 голов скота; в другом случае один-единственный медведь в шести соседних деревнях зарезал свыше 80 домашних животных.
Зоолог П. И. Данилов пишет о том, что в конце прошлого – начале нынешнего столетия основными жертвами медведя в Олонецкой губернии были как раз домашние животные. В 1906 году медведи задрали здесь 157 лошадей, 55 жеребят, 385 коров и быков, 57 телят и 59 овец.
При этом за период 1966–1976 годов было известно лишь 11 датированных нападений медведя на коров и лишь 4 из них закончились успешно для хищника.
В Восточной Сибири на сегодняшний день угроза нападения медведя на домашний скот гораздо выше, чем в Европейской России. Например, в 1983 году в Забайкалье было весной задавлено медведями 80 голов крупного рогатого скота, 5 лошадей, 15 овец и 31 свинья. В Прибайкальском районе (с. Петровка) медведь за одно нападение задрал 5 коров, 15 загнал на скалу, с которой коровы упали и покалечились.
В давние времена в России существовала такая форма народного цирка, как «медвежья забава». Ручных медведей водили по деревням, дворянским имениям и маленьким городишкам так называемые медвежатники.
Как пишет об этом уже упоминавшийся В. Шнитников, ходили с медведями чаще всего крестьяне из лесных губерний Поволжья, татары или цыгане. Обычно ходили вдвоём: один изображал так называемую козу, а другой выступал в качестве музыканта. В качестве музыкальных инструментов русскими использовался барабан, а цыганами и татарами – скрипка.
В однообразной дремотной серой жизни российских городов и деревень приход скоморохов с медведями рассматривался как настоящее событие – сродни драке или пожару. Представления с медведями смотрели и стар и мал – а ведь только такая популярность могла позволить поводырям прокормить не только себя, но и столь прожорливого «артиста», как медведь.
Представление состояло из двух отделений – пляски медведя с «козой» и разных «штук», которые медведь проделывал один. Костюм «козы» представлял собой мешок и несколько скреплённых вместе палочек, которые должны были изображать мордочку и рожки козы, причём воображаемая «коза» могла даже щёлкать воображаемыми «зубами».
Содержание ручных медведей было, судя по всему, довольно распространённым явлением на Руси, о чём мы можем судить хотя бы по классике русской литературы – известной со школьной скамьи повести Пушкина «Дубровский» и поэмы Некрасова «Генерал Топтыгин».

Описание охот государя императора Александра II.
Некоторые русские цари, как и древние римляне, использовали медведей для подобия гладиаторских боёв. Основоположник государственности и державности Иоанн Грозный натравливал медведей на опальных монахов, причём последние не имели никаких шансов на спасение.

Иван Грозный травит медведями подданных.
Из анекдотов, дошедших до нас из «славных дней Екатерины», мы узнаём, что в городе Елабуге медведь сорвался с цепи перед трактиром и двинулся по главной улице, гоняя прохожих, пока перед зверем не оказался некий неустрашимый дьякон, возвращавшийся с церковной службы. Сей дьякон медведя усмирил и доставил обратно к трактирщику, который, однако, попытался вчинить дьякону иск и получить с него штраф за повреждённую у зверя лапу.
История о проказе молодого Пьера Безухова, привязавшего городового к спине приручённого медведя и высланного за это из столицы, также взята Львом Толстым из реальных рассказов очевидцев. Правда, история приписала этот подвиг гусару Каверину, будущему сподвижнику Дениса Давыдова.
Правда, русские власти не были бы сами собой, если бы время от времени не запрещали что-нибудь – хоть бы и медведей. Гаршин подробного описывает в рассказе «Медведи» трагедию на окраине скромного губернского города, куда цыгане привели медведей, которых должны были немедленно уничтожить.
Вообще, трудно сказать, что отношение к медведям в России было снисходительным. В уже приводившихся выше сказках постоянно раздаётся то «давай, мужик, я тебя съем», то «давай, мужик, я тебя заломаю», то «давай, медведь, запорю-ка я тебя рогатиной». Согласитесь, что такие отношения трудно отнести к идиллическим, какими сейчас принято характеризовать «старые добрые времена». Старые – это уж точно, но судить об их доброте предоставим современникам тех лет. Пусть даже и в сказках.

Охота царя Михаила Романова.
Тем не менее приезжающие в Россию иностранцы почти постоянно убеждались в той истине, что эта страна – подлинно «страна медведей». Даже если они оставались гостями чопорного Санкт-Петербурга и хлебосольной Москвы, из окрестностей которых медведи исчезли ещё в XVIII веке.
Медведи в России присутствовали почти повсеместно – на лепных фронтонах дворянских усадеб, на узорчатом шитье, в ледяных скульптурах перед русским Рождеством, на ярмарках и в цирках, их проводили перед гостями цыгане и потешники– скоморохи, а во время обильных возлияний за русским хлебосольным столом ноги чужестранцев по щиколотки утопали в медвежьих шкурах.

«Утро в сосновом лесу». И. И. Шишкин (медведи написаны К. А. Савицким).
Из того времени нам известно и о таком забытом предмете туалета, как шуба из медведя. Общеизвестно, что мех этих зверей хоть и тёплый, но достаточно грубый и, главное, тяжёлый. Поэтому традиционно он использовался для изготовления санных полостей, в крайнем случае предметов солдатской формы.
Но из всех упомянутых медвежьих забав самой распространённой, самой легкодоступной и самой опасной оставалась охота.
Часть III Охота на медведей

Глава 11 Старинные охоты

Общеизвестно, что со времени совместного появления на естественно-исторической сцене людей и медведей отношения между ними приняли характер активного противоборства. Кроме подстерегающего врага, разорителя пасек и поедателя запасов медведь, с другой стороны, в понимании первобытного человека был и объектом охоты, пищей, шатающейся невесть зачем по лесу.
Таким образом, их взаимное общение приняло законченный вид отношений охотника и дичи. Правда, этот случай был несколько своеобразен, потому что охотник и дичь временами менялись ролями.
Бурый медведь, как уже отмечалось, сильно отличался от неповоротливого и уязвимого своего собрата – медведя пещерного. Пока на земной поверхности обитали оба этих вида, у человека была определённая свобода в выборе объекта. Однако пещерный медведь вымер, и человек, приложивший к его истреблению руку, лишился такого удобного объекта гарантированной охоты.
Попытка заменить пещерного медведя на бурого стоила человечеству, вероятно, нескольких тысяч раздробленных черепов и при этом ни к чему хорошему не привела. Людям пришлось переключиться на разнообразных тарпанов, оленей, сайгаков, туров и бизонов. Несмотря на весь накопленный человечеством опыт в убийстве животных, бурый медведь оставался серьёзным противником под стать самому человеку.
Некоторые исследователи, например уже упоминавшийся Бьорн Куртен, считали, что бурые медведи наряду с пещерным составляли значительную часть в добыче и соответственно рационе первобытного человека. Другие же, как, например, Н. К. Верещагин, утверждают, что для подобного умозаключения нет достаточных оснований. Резон в их рассуждениях, безусловно, есть. Выбирая добычу между неуклюжим, стеснённым в движениях и преимущественно растительноядным пещерным гигантом и юрким подвижным ловким лесным хищником, кого бы вы предпочли в первую очередь? Косвенно свидетельствуют об этом неолитические памятники Приохотья и Камчатки, обследованные археологом Н. Н. Диковым. Их древние обитатели при окружающем медвежьем изобилии отнюдь не сделались заядлыми «пожирателями медведей» – об этом свидетельствует скудность останков последних на первобытных стоянках. Да и медвежьи культы прочих народов свидетельствуют о трудности и опасности охоты такого рода. Нет, ни у одного племени бурые медведи не могли стать основой материального благополучия.
Тем не менее люди не могли смириться с тем, что подобный запас мяса, жира, и впридачу прикрытый хорошей шкурой, продолжает встречаться в лесах, оставаясь недоступным для людей. И при каждой встрече последние пытались этот запас прибрать.
Для начала люди использовали на этой охоте самые традиционные средства добычи – лук и стрелы, иногда (но неохотно) копьё. Самое удивительное, что многие народы обходились этими приспособлениями при охоте на медведя до самого недавнего времени.
Австрийский натуралист и писатель Герхард Гартвиг указывает, что остяки бьют медведя стрелами, которые «длинны, имеют на конце треугольный железный наконечник или острый кусок стали, имеющий форму ножа, или же два тонких острия, имеющих вид раздвоенного хвоста ласточки».
Такие же стрелы использовались коряками и чукчами в междоусобных войнах. Можно предположить, что оружие против медведя и человека не очень сильно различалось между собой.
Русский натуралист Н. Сокольников описывает весьма рискованный и, видимо, эффективный способ охоты с копьём на белого медведя, который, впрочем, нам, людям начала XXI века, выросшим в городских условиях, кажется совершенной фантастикой.
«Слышал только от чукчей, что бить его вовсе нетрудно и что при этом для ловкого человека и опасности нет никакой. Дело в том, что на бегу белый медведь свернуть быстро на сторону не может: поэтому охотник пускается от него бежать, а когда медведь нагоняет, отскакивает немного в сторону и стреляет или колет копьём пробегающего мимо зверя».
Вероятно, подобным образом первобытные евразийцы пытались добывать и медведя бурого. Впрочем, эта охота с копьём позднее приобрела несколько иную форму и начала называться охотой с «пальмой» или с рогатиной.
А. Черкасов, оставивший красочные и довольно подробные «Записки охотника Восточной Сибири», даёт описание совершенно варварского, но в то же время остроумного способа охоты, который был в употреблении у орочонов – одного из народов нынешнего Забайкалья.
Черкасов пишет, что орочоны при охоте на медведя не пользовались огнестрельным оружием, обходясь двумя приспособлениями – «пальмой» и распоркой. «Пальма» – инструмент, который до сих пор в ходу у многих сибирских народов, – представляет собой длинное (30–40 см) и широкое (4–5 см) тяжёлое лезвие – просто нож с односторонней заточкой, насаженный на длинную, почти в рост человека, рукоятку. Черенок лезвия у классической «пальмы» примотан к древку длинной полосой бересты на первую треть высоты. Иначе говоря, «пальма» – это короткое лёгкое копьё с длинным, заточенным с одной стороны наконечником. При этом «пальма» использовалась да и используется до сих пор в отдалённых местах Сибири, прежде всего, не как оружие. Она служит для того, чтобы просекать дорогу в зарослях кедрового стланика, не сходя с оленя. Таким образом, это орудие выполняет функции одновременно и копья, и мачете. Современные Чингачгуки выковывают лезвия из плоских рессор для грузовых автомобилей.
Другое орудие – так называемая распорка – представляло собой нечто вроде небольшого очень прочного якоря, или крючка-двойника больших размеров. Лапы, выкованные из железа, имеют в размахе около 7–8 сантиметров. Древко делалось из очень крепкого дерева и имело длину 20–30 сантиметров. Это приспособление было предназначено для того, чтобы медведь при нападении схватил распорку зубами. Раз зацепившись дёснами за зазубренные лапы, он уже не мог выплюнуть этот предмет, приходил в ярость и всё своё внимание уделял только постигшей его беде. Тут коварный орочон улучал момент, когда зверь терял бдительность, и незатейливо прирезывал его «пальмой».
У Черкасова очень подробно описывается технология засовывания пресловутой распорки в пасть медведю. Тут и ухищрения, вроде маскировки её в рукаве шубы, чтобы медведь считал, что кусает человека, и очень распространённые ссылки на якобы необычайную ловкость аборигена, позволяющую ему проделывать вещи, недоступные обычным смертным. Единственное замечание, которое может здесь себе позволить автор настоящей книги, – это то, что по его наблюдениям и впечатлениям многих людей, реально наблюдавших нападение медведя, этот зверь никогда не пускает сразу в ход зубы, а предварительно старается ударить противника лапой, с тем чтобы выбить у него оружие, повалить его и лишить возможности сопротивляться.