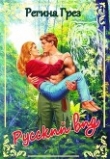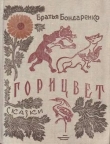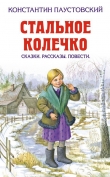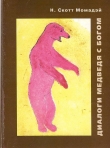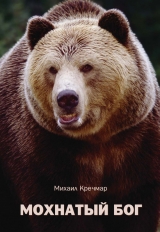
Текст книги "Мохнатый бог"
Автор книги: Михаил Кречмар
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«10 августа на церемонии умерщвления медведя в селении Куннуи (на берегу Вулкановой бухты, на острове Йезо) присутствовал доктор Б. Шейбе. На его описании стоит вкратце остановиться, потому что оно содержит ряд интересных деталей, о которых ничего не говорится в предыдущем сообщении. Войдя в хижину, доктор Шейбе застал в ней около тридцати одетых в лучшее платье айнов: мужчин, женщин и детей. Сначала хозяин дома совершил у очага возлияние богу огня, и гости последовали его примеру. Затем в священном углу дома было совершено возлияние богу дома. Всё это время молчаливая и грустная хозяйка дома, вскормившая медведя, просидела в одиночестве, время от времени заливаясь слезами. Горе её было совершенно искренним и по ходу праздника всё более усугублялось. Затем хозяин с несколькими гостями, выйдя из дома, совершил возлияние перед медвежьей клеткой. Медведю поднесли в блюдце, которое он тут же опрокинул, несколько капель воды. После этого женщины и девушки начали танцевать вокруг клетки: не отводя глаз от клетки, они слегка сгибали ноги в коленях и подпрыгивали на носках. При этом они ударяли в ладоши и пели что-то заунывное. Хозяйка и ряд других женщин старшего возраста, выкормивших много медведей, танцевали с полными слёз глазами, протягивая к медведю руки и называя его всякими нежными именами. Раздражённый шумом, медведь начал метаться по клетке и жалобно рычать. Медведя с верёвкой на шее выпустили из клетки и стали прогуливать вблизи хижины. В это время мужчины во главе с вождём выпустили в животное стрелы с деревянными пуговицами вместо наконечников. Выстрелить из лука пришлось и самому Шейбе. Затем медведя подвели к священным инао и всунули ему в рот палку. Девять мужчин опустились перед ним на колени и придавили его шею к столбу. Минут через пять животное, так и не издав ни единого звука, испустило дух. Тем временем женщины и девушки плясали, причитали за спинами мужчин, которые душили медведя, и колотили их. Тушу медведя положили на подстилку перед инао и, сняв с палок меч и колчан, повесили их на шею животного. Так как убили медведицу, то её шею украшали ожерельем и серьгами. Перед убитым медведем поставили лепёшки из пшена и бульон из пшена и саке. Мужчины расселись перед тушей на подстилках, совершили возлияния и крепко напились.
Мужчины с жадностью пили кровь, стекавшую в чаши, женщины и дети почему-то кровь не пили, хотя обычай им этого не запрещал. Окончился праздник попойкой с участием женщин».
Айны с острова Сахалин, как утверждает Дж. Фрэзер,
«…рассматривают медведя не как бога, а всего лишь как посла, которого они посылают к богу леса с разными поручениями. Животное приблизительно два года держат в клетке, после чего умерщвляют во время праздника, который устраивают обязательно зимой и обязательно ночью. Предпраздничный день проходит в причитаниях: сменяя друг дружку, старухи предаются плачу перед медвежьей клеткой. Посреди ночи или перед рассветом кто-нибудь из айнов обращается к животному с длинной речью, в которой напоминает ему, что жители селения о нём заботились, кормили его вкусной пищей, купали в реке, держали в тепле и холе. „И вот, – продолжает он, – мы устраиваем в твою честь великий праздник. Не бойся, мы не причиним тебе никакого вреда. Мы только убьём тебя и пошлём к богу леса, который любит тебя. Сейчас мы покормим тебя лучшей пищей, какую ты когда-либо получал от нас. Все мы будем оплакивать твою кончину. Убьёт тебя лучший среди нас, айнов, стрелок. Вот он, смотри, он плачет, он просит тебя о прощении. Это произойдёт так быстро, что ты ничего и не почувствуешь. Тебе не нужно объяснять, что мы не можем кормить тебя вечно. Мы достаточно сделали для тебя – теперь твоя очередь пожертвовать собой ради нас. Попроси бога зимой послать нам в изобилии выдр и соболей, а летом тюленей и рыбу. Не забудь наших наказов, ведь мы любим тебя, и дети наши тебя никогда не забудут". После того как медведь при общем возбуждении зрителей заканчивал свою последнюю еду, старухи вновь заливались слезами, а мужчины издавали сдавленные рыдания, с трудом и опасностью для жизни связывали медведя, выпускали его из клетки и в зависимости от расположения духа животного трижды проводили его на поводу или протаскивали вокруг клетки, вокруг дома хозяина и, наконец, вокруг дома айна, обратившегося к нему с речью. После этого его привязывали к дереву, и оратор вновь обращался к нему с продолжительным увещеванием, которое иногда длилось до рассвета. Медведь выслушивал эту речь без особой радости, он всё больше сердился, в возбуждении ходил вокруг дерева и жалобно завывал, пока при первых лучах восходящего солнца лучник наконец не выпускал ему в сердце стрелу. После этого стрелок отбрасывал лук в сторону и бросался на землю, его примеру с плачем и причитаниями следовали старики и старухи. Мёртвому животному давали „поесть" риса и дикого картофеля и со словами жалости и благодарности за всё, что он совершил и выстрадал, отрезали ему голову и лапы, которые хранили как священные реликвии. После этого айны пили кровь и ели мясо медведя. Кровь все присутствующие пьют ещё тёплой, мясо же едят в варёном виде, потому что обычай запрещает его жарить. По окончании праздничной трапезы голову уносят вглубь леса и кладут на кучу выцветших медвежьих черепов, этих разлагающихся останков прошлых празднеств».

«Медвежья хижина» у народов Приамурья.
По книге И. Херана «Медведи и панды».
Сходный медвежий праздник был распространён и среди других дальневосточных народов – нанайцев, нивхов, орочей. По большей части это было то же отослание духа убитого медведя к верховным божествам с целью выпросить какой-нибудь толики материальных благ. Это, конечно, не исключало и чисто гастрономических интересов участников обряда – так, нивхи, одни из наиболее стойких «медведепоклонников», считали, что мясо медведя, выкормленного рыбой в неволе, является изысканным деликатесом. (Ещё раз – о вкусах не спорят.)

У орочей охотник, поймав медвежонка, считал своим долгом в течение трёх лет выращивать его в клетке, чтобы по истечении указанного периода публично предать его смерти и вместе с друзьями съесть. Так как эти ежегодные праздники носили общественный характер, орочи старались, чтобы каждое село, когда подойдёт его очередь, устраивало подобный праздник. Выведенного из клетки медведя на верёвках проводили по всем домам в сопровождении людей, вооружённых копьями, луками и стрелами. В каждом доме медведя и поводырей угощали едой и выпивкой. Эти визиты длились несколько дней, и эти дни проходили в забавах и шумном веселье. После этого медведя привязывали к дереву или деревянному столбу и толпа расстреливала его из луков.
Нивхи в своём обряде довольно точно следовали айнским образцам: убивали старую медведицу, медвежонка которой выкармливали в селении. Когда медвежонок подрастал, нивхи вытаскивали его из клетки и силой водили по селению. Сначала его отводили на берег реки, потому что таким образом вызывался богатый рыбный промысел. Затем его приглашали в каждый дом, где хозяева угощали его выпивкой и закуской. Некоторые особо усердные нивхи в своём религиозном рвении простирались перед медведем ниц. Считалось, что подобное «гостевание» приносило счастье обитателям туземных хижин.
Обряд предписывал нивхам непременно приставать к животному, дразнить его и всячески злить. Естественно, что после обхода деревни медведь становился угрюмым и озлобленным. Тогда сердобольные нивхи привязывали его к столбу и расстреливали из луков.
После этого убийства следовал пир, на котором отрезанную голову медведя украшали стружками и ставили на стол в качестве участника трапезы. Собравшийся за столом народ просил у мёртвой головы извинения и наваливался на совсем недавно принадлежавшее ей мясо. Медвежатину к столу подносили в особых деревянных сосудах, покрытых тонкой резьбой. По окончании мясоедения череп, в праздничном убранстве из опилок из стружек, насаживали на дерево перед домом. В заключение обряда все присутствовавшие плясали специальный «медвежий» танец, ворча и переваливаясь по-медвежьи.
Российский путешественник Л. фон Шренк был свидетелем такого медвежьего праздника в нивхском селении Тебах. Он оставил нам почти каноническое описание этого обряда.
«Оказывать животному знаки уважения начинают сразу же после его пленения. Медведя торжественно вводят в селение и сажают в клетку, в ней пленника по очереди кормят все жители селения. Медведь – даже если его купил или поймал один человек – является в некоторой степени общественной собственностью. А так как мясо его пойдёт на общий праздничный стол, то и принимать участие в уходе за ним должны все жители селения. Длительность пребывания медведя в плену зависит от возраста пойманного зверя. Матёрых медведей держат не более нескольких месяцев, а медвежат – до тех пор, пока те не вырастут. Праздник обычно справляют в январе-феврале, когда медведь покрыт толстым слоем жира. В частности, праздник, на котором побывали русские путешественники, растянулся на много дней – на нём было убито и съедено три медведя. Этих животных в сопровождении процессии по нескольку раз обводили по всему селению и насильно затаскивали в каждый дом, жители которого считали за честь для себя угостить дорогих гостей. Однако прежде чем начать обход селения, гиляки (нивхи. – М. К.)в присутствии животных играли в скакалку».
Фон Шренк был склонен полагать, что через верёвку они прыгали в честь зверей. В ночь перед расправой всех трёх медведей при лунном свете долго водили по льду замёрзшей реки. В эту ночь жителям селения запрещалось спать. На следующий день медведей ещё раз спускали с крутого берега реки и трижды обводили вокруг полыньи, из которой черпали воду женщины. После этого их приводили на заранее выбранное место неподалёку от селения, где медведей расстреливали из луков. В знак того, что место жертвоприношения было священным, его обносили палочками, с концов которых, подобно завиткам, свешивались стружки.
Приведя в порядок дом, выбранный для собрания гостей, и украсив его, нивхи вносили в него через окно медвежьи шкуры с приделанными к ним головами. Приготовление медвежатины у нивхов, как и у эвенов, было чисто мужским делом. К нему приступали неторопливо и осмотрительно, с торжественностью. На празднике, на котором присутствовали русские путешественники, старики начали с того, что обвили котёл плотным венком из стружек и наполнили его снегом, потому что пользоваться обычной водой для варки медвежатины запрещается. Варёное мясо выуживали из котла железным крюком и опускали в корыто, стоящее перед медведями, чтобы те могли первыми отведать собственного мяса. Медвежий жир, нарезав ломтями, вывешивали перед медведями, а потом складывали в небольшое деревянное корыто, стоящее рядом с ними на земле. В это время женщины занимались изготовлением повязок из разноцветных тряпок, которыми после захода солнца повязывали медвежьи морды чуть пониже глаз, «чтобы высушить вытекавшие из них слёзы». По окончании церемонии утирания слёз, текущих из глаз бедных мишек, все собравшиеся с рвением приступали к поеданию мяса. Бульон, в котором варилось мясо, к этому времени был уже выпит. Деревянные чашки, блюда и ложки, которыми нивхи пользовались для медвежьей церемонии, были украшены резными фигурками медведей и орнаментами, имеющими отношение к медведю и медвежьему празднику. Нивхи никогда никому не передавали эти предметы. Обглоданные кости участники праздничной трапезы клали обратно в котёл, в котором варилось мясо.

По утверждению фон Шренка, старики торжественно относили обглоданные кости и череп медведя на особое место в лесу, расположенное неподалёку от селения. Там они зарывали все кости, за исключением черепа. После этого срубали молоденькое деревцо, расщепляли пень и вставляли череп в расщелину. Согласно нивхским поверьям, по мере того, как это место зарастает травой, череп скрывается из виду и медведю приходит конец.
Глава 9 Медведи и Западная Европа

В Западной Европе «с медведями всегда было слабо». Традиций, связанных с этими зверями на её территории, было гораздо меньше, чем в славянских странах. И это легко объяснимо, потому что со времён античности количество людей здесь постоянно увеличивалось, а медведей – столь же постоянно сокращалось.
Естественно, в первую очередь исчезли медведи, обитавшие на ограниченных территориях – островах. Согласно саксонским хроникам, последний медведь в Англии был убит за десять лет до завоевания её Вильгельмом Нормандским – в 1057 году. Судя по литературным источникам, в горной Шотландии эти звери продержались подольше – но не надолго – лет на сто. В равнинной Франции медведи исчезли ещё лет на двести попозже. Однако в горных окраинах этой страны – массивах Альп и Пиренеев они сохранились по сегодняшний день. В середине XVI века на пиренейских медведей Наварры охотился весёлый король Генрих – будущий великий государь Франции.
О сокращении численности медведей на территории бывшей Римской империи можно судить даже по количеству упоминаний о них в литературных и фольклорных источниках, а также в произведениях искусства. Если такие звери, как лев, леопард, тигр, слон, и даже такая относительная экзотика, как крокодил, упоминаются многократно и в пророчествах Мерлина, и в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского, присутствуют на вышитых шелках и фасадах соборов, в эмблемах городов и рыцарских гербах, то медведю во всём этом многообразии досталось гораздо более скромное место.
Это сказано о количестве упоминаний, но не о месте медведя в культурологической иерархии животных. Достаточно сказать, что «Медведем» – Артосом звали легендарного предводителя британцев, которого позднее прозвали Артуром, впоследствии основателя британской государственности.
Не очень часто медведь упоминается уже в древней мифологии. Скорее всего это связано со старинной традицией, восходящей ещё к временам зороастризма, – считать нечистым жирное и всеядное животное. (Позднее эта традиция будет поднята на щит мусульманами, у которых этот зверь вместе со свиньёй и собакой попадёт в число обязательных пищевых запретов для правоверных.)
Возможно, дело в моей недостаточной эрудиции (ведь автор является прежде всего зоологом, а не специалистом по культуре), но кажется, что у римлян этот зверь использовался в основном для цирковых сражений. Изображения медведей и их травли гладиаторами встречаются на ювелирных изделиях и стенках сосудов, мозаиках вилл и стенах бестиариев. География доставки этих зверей тоже была весьма обширна. Медведей для боёв привозили из ближних Апеннин и дальних Пиренеев, из лесной Паннонии и совсем уж таинственной Британии. Однако в этом вопросе римляне были готовы превзойти кого угодно, в том числе и самих себя, поэтому в I веке н. э. Кальпурний в своей переписке с Плинием Старшим упоминает о том, как белых медведей стравливали с тюленями. По мнению Перри, это, пожалуй, первые сведения о белых медведях в исторических документах.
Совершенно исключительный интерес представляют для нас древнегреческие весёлые медвежьи праздники, носившие название «комедиа». От этих карнавальных действ получила своё название позднейшая античная комедия, а само слово «комедиа» дошло практически без изменений до самых наших дней. Так что, устраиваясь в партере театра перед современной комедийной постановкой, вы опосредованно соприкасаетесь с древней традицией медвежьего праздника.
Смысловое и лингвистическое единство комедий античного мира и славянских «комоедиц» не подлежит сомнению. Следовательно, возникновение подобных медвежьих праздников на территории Европы можно отнести очень далеко в глубь веков. Медведица в античной мифологии была связана с Артемидой. Артемиде был посвящён месяц Артемизион – март, время, когда медведи в Южной Европе выходят после зимней спячки. Праздники «комедии» проводились тоже в марте, месяце Артемиды, и скорее всего послужили прообразом позднейших славянских празднеств, а в конечном итоге – Масленицы. Жрицы Артемиды-Бравронии исполняли ритуальные пляски в медвежьих шкурах.
Общий закон эволюции древнейших охотничьих культов – от мезолитического культа оленя (у славян – лося) к позднейшему культу медведя сказался и на мифологии Артемиды. Мы видим здесь как оленей (ланей), так и медведей.
Культ медведя, и в частности медвежьей лапы, широко распространён в археологических материалах и фольклоре Скандинавии. Медвежьи лапы и когти упомянуты также в литовской летописи при описании похорон легендарного князя Свенторога.
По фольклорным материалам мы можем обратиться к древним рунам «Калевалы». В 46-й руне мы видим обряд захоронения медвежьего черепа:
Ни на льду его не бросил,
Ни в снегу не закопал я:
Рвали б там его собаки,
Замарали б скоро птицы.
Не сложил его я в топи,
Не зарыл в песок глубоко:
Там его проели б черви,
Муравьи бы повредили.
Вот куда я снёс добычу,
Эту маленькую долю:
К золотой холма вершине,
На вершину горки медной.
Там на дереве повесил,
На сосне, на стоветвистой,
На ветвях её крепчайших,
На верхушке на широкой,
Человеку на усладу
И прохожему на радость.
Здесь надо сказать, что в старинных сагах упоминание о медведях обычно носит не очень дружественный характер: в известном сне императора Карла Великого, который описывается в «Песне о Роланде», под медведем подразумевается предатель рыцарь Ганелон, по губивший часть франкского войска.
Отчасти сведения о медведях присутствуют и в библейских документах. В частности, упоминается, что дети, оскорбившие пророка Елисея, были растерзаны двумя медведицами.
В книге А. Б. Лакнера «Русская геральдика» указано, что в западноевропейской геральдике «медведь, за то, что он предвидит погоду, умеет вовремя скрыться в берлогу, где готовит своё логовище, считается символом предусмотрительности и почитается проходящим (passant), когда идёт, и поднявшимся (leve), когда стоит на задних лапах».

Герб финской провинции Сатакунты.

Герб Берлина.

Герб кантона Берн в Швейцарии.
Но не только символом предусмотрительности считался медведь у западноевропейского обывателя. Медведь (уж неизвестно почему) был ещё и символом похоти и непристойного поведения.
В государственных гербах медведь не занимал значительного места – мы можем привести в пример только один из ранних вариантов герба Финляндии под властью шведской династии Вазы – чёрный медведь, поднятый на дыбы с саблей в лапах.
Медведь сохранился в гербе столицы Германии Берлина, само название её, по некоторым сведениям, происходит от нем. bar– медведь. Столица одного из кантонов Швейцарской Конфедерации, Берн, тоже носит в своём названии отзвук медвежьего имени.
Упоминание о медведях и, возможно, отзвуки неких верований, напоминающих по содержанию сибирские, содержатся в некоторых старинных фамилиях Южной
Франции и Италии. В частности, туда можно отнести фамилию одного из хронистов мрачного периода Столетней войны Юрсена, или Урсена (он выведен А. Дюма в качестве одного из действующих лиц романа «Изабелла Баварская»). А в Италии одна из самых влиятельных семей, из которой вышли многие государственные и церковные деятели (в частности, папа Иннокентий XII), носила фамилию Орсини, что в дословном переводе означало «Рождённый медведицей».
Присутствовали медведи в качестве карнавальных масок и украшений на различных церемониях Средневековья, носивших более или менее мирской характер, – такие костюмы описаны у Фруассара в описании бракосочетания Карла и Изабеллы.
Тактика «замалчивания» медведей продолжается в западноевропейском искусстве практически до начала XX века, когда реалистические традиции уступили место модерну. Тяготеющий к батальным и охотничьим сценам Делакруа оставил нам несколько «Охот на львов», «позабыв» при этом медведей. В такой весьма специфической области искусства, как украшение охотничьего оружия, художники отдавали предпочтение львам и орлам и даже вовсе несуществующим драконам и грифонам. Даже в охотничьих жанровых сценках преобладают гравюры с весьма распространённой в Средневековье парфорсной охотой на оленей и кабанов.
Совершенно иное отношение к медведям мы встречаем у обитателей Восточной Европы, и в частности России.
Глава 10 Медведи в России: историческая ретроспектива

Понятия «Россия» и «медведи» неразделимы. Жители всех северных стран так или иначе, как это уже показывалось в предыдущих главах, оказывались связанными с бурыми медведями, но ни одна страна со своим населением не отождествлялась с ними в такой мере, как Россия и русские. Из самых первых западных источников, упоминающих о славянских землях, мы узнаём о населяющих их медведях. Викинги, предпринимающие походы в Гардарику, уже в X веке говорят о ней как о стране людей и медведей. Термином «медвежий край» в равной степени пользуются польские наёмники Лжедмитрия, голландцы Петра I и гвардейцы Наполеона Бонапарта. Уже в XX веке премьер-министр воюющей Великобритании Уинстон Черчилль в переписке со своим военным министром Иденом использует слово «медведь» как кодовое обозначение Советского Союза. И совершенно естественным показался выбор бурого медведя в качестве эмблемы Олимпийских игр, проводившихся в 1980 году в Москве. В культуре России и её фольклоре медведи тоже играли вполне заметную роль.

Уже в каменном веке охота на медведя и медвежий культ являются фактической монополией центральной и южной половины Восточной Европы – практически России и славянских стран.

Медвежье капище.
Несмотря на то что праславяне в известный нам исторический период были уже совершенными земледельцами, медвежий культ или отдельные его элементы сохранялись ещё долгое время, что само по себе говорит о его глубокой древности. Мы хорошо знаем, в чём смысл табу – запрета на произнесение имени. Запрещались обычно имена могучих, сильных животных, хищников, представлявших опасность для первобытных племён. Позднее под таким же запретом были имена особо злобных духов. У славян до сих пор название медведя осталось в древней, зашифрованной, иносказательной форме: «медведь» – «мёд ведающий».

Традиции запрета имён у славян уже тогда были настолько прочны, что до сегодняшнего дня «истинное» имя медведя до нас так и не дошло. Мы можем только догадываться, что исконная форма была, очевидно, близка к североиндоевропейской форме (нем. bar).На это указывает и то, что зимнее жилище медведя повсеместно в России называют «берлогой», т. е. «логовищем бера».
Могилы медвежьих лап, олицетворявших в сознании первобытного охотника такую необходимую ему мощь и силу, были, возможно, первым обращением праславянина к магии и заклинаниям. Не будет преувеличением сказать, что славянство пришло к Церкви через культ медведя. Культ отрубленных медвежьих лап известен на территории России на протяжении многих тысяч лет – с позднего каменного практически до железного XIX века. В окрестностях Новгорода в неолитических слоях часто встречались «пальцевые кости медвежьей лапы, зарытые в одну яму с костями человека».
Ритуальные могилы медведей раскопаны археологом Д. А. Крайновым в Волго-Окском междуречье. Там же лежали и амулеты из медвежьих костей или имитирующие медвежьи когти.
Средние века нам многое рассказали о культе медвежьих лап. Глиняные модели медвежьих лап находились в славянских курганах Поволжья и Приладожья; в некоторых могилах, где русичи сжигали трупы павших витязей, найдены кости медвежьих лап с когтями.
Некоторый интерес представляют раскопанные археологами на общинных кладбищах бронзового века одновременные находки моделей человеческих половых органов и медвежьей кости пениса. Знатоки старины утверждают, что на Руси был древний обычай называть новобрачных «медведями», придавать медвежьему святочному или масленичному празднику эротический характер.
Как мы ещё убедимся, в фольклоре существует большой пласт сказок, где главным героем является полумедведь-получеловек, получившийся от совокупления человека со зверем. Причём известны оба возможных варианта этой ситуации: отец – медведь, а мать – женщина, или же мать – медведица, а отец – человек (поп, крестьянин). Признаки в этом детёныше тоже вполне смешанные: либо у медвежьего сына «кожа медвежья, лицо человечье», либо он «до пояса человек, а от пояса медведь». Иногда у него медвежьим остаётся только ухо. Зачастую полумедведь-получеловек убивает своего звериного родителя и, как правило, не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу.

Иногда в древних могилах можно встретить скелеты людей, положенных туда в скорченном состоянии. Академик Б. Рыбаков, известный русский историк, утверждает, что таким образом наши далёкие предки готовили тела умерших к позднейшему воскресению. А поскольку в этих же могилах встречаются и знакомые уже кости медвежьих лап, то позволено думать, будто наши предки рассчитывали, что чудовищные медведи-оборот-ни восстанут из могил защитить Россию.
Здесь снова можно вспомнить сказки об оборотнях, людях-полуживотных или людях, понимающих язык животных. Постоянный мотив многих сказок – это мысль о том, что были времена, «когда ещё люди звериный язык понимали». Косвенно это тоже связано с возможностью для человека воплотиться в зверя, а после перемены тех или иных обличий – снова в человека. Такой «круговорот душ» должен был соответствовать взаимопониманию человека и природы.

Встреча с медведем в лесу.
Культ медведя оставил свои следы на горе Сленжа, или Собутка, замечательном памятнике культуры на западной окраине праславянского мира, близ Бреслау в Силезии (ныне – Западная Польша). Вокруг этой священной горы славянского племени силезян расположен целый комплекс языческих сооружений, в которых медвежий культ занимал не последнее место. Археологи считают, что это была самая древняя эпоха славянского мира – так называемая эра Сварога, начало железного века.
Сленжа – весьма живописная гора совершенно конической формы, достигающая высоты почти 500 метров над равниной. В вершину Сленжи часто ударяют молнии. В XVIII столетии правоверные католики решили очистить гору от приписываемой ей нечисти и построили на вершине костёл. Старые боги оказались сильнее – костёл был разрушен ударом молнии.
Путь на священную вершину Сленжи обозначен доисторическими скульптурами из камня, среди которых много изваяний в виде медведей.
Контакты праславян со скифами внесли некоторые коррективы в знаменитый скифский «звериный стиль».
Фигурки медведей, которые, как известно, в степях не водились, появляются после походов скифов в леса роксоланов. Медведи возникают среди ритуальных фигурок. Жертвенный нож из Киева, навершие которого увенчивает изображение медвежьей шкуры, может быть отнесён к искусству скифов-сколотов.
Исследователь медвежьего культа Н. Воронин установил у восточнославянских народов (хранителей сказок о богатыре-медведе) следы медвежьего праздника. Слабым отголоском медвежьих действ являются, в частности, медведи-ряженые на Святках.

Голова медвежьего жезла.
Записи середины XIX века на территории Белоруссии донесли до нас облик настоящего медвежьего праздника – так называемых комоедиц. Он праздновался накануне христианского Благовещенья, 24 марта, как весенний праздник пробуждающегося после зимней спячки в берлоге медведя. К этому дню пекут специальные кушанья, а в самый медвежий день надевают вывороченные шерстью вверх шубы и тулупы и исполняют особый танец, воспроизводящий движения просыпающегося медведя. Здесь нет признаков ритуального убийства медведя, но и смысл этого весеннего праздника иной. Комоедицы вплотную примыкают к весеннему равноденствию и к древней дохристианской Масленице. Может быть, именно с этого эпизода пробуждения природы и начинался сложный масленичный цикл. Признаком олицетворения природы здесь был медведь.

«Борьба царского псаря с медведем». В. М. Васнецов.
Старое охотничье мировоззрение дожило у непосредственных соседей славян до I тысячелетия н. э. В святилище «Благовещенская гора», раскопанном академиком Б. Рыбаковым, у полукруга деревянных идолов найдено жерло большого ритуального сосуда, оформленного в виде медвежьей головы. Необычный сосуд, как полагает академик, предназначался для жертвенной крови и, по всей вероятности, именно медвежьей.
Следы архаичного медвежьего культа у праславян найдены на городище Тушемля под Смоленском. Они датированы VII–VIII веками н. э., когда славянская экспансия продвигалась в толщу балтийских и угро-финских племён. Небольшое овальное городище было застроено по всему периметру деревянными клетями, а внутри двора, около одной из его сторон, находилась небольшая ограда, посреди которой был обнаружен вертикально врытый столб, увенчанный сверху черепом медведя. Учёные-архео-логи сочли, что главным святилищем данного городища была голова медведя или шкура, облекавшая столб. Отголоски древних запретов слышатся и в некоторых средневековых литературных памятниках Руси, например, в «Вопрошаниях» Кирика учёный математик спрашивает епископа, нет ли греха в ношении медвежьих шкур. Тут нелишне ещё раз вспомнить, что медведь у многих народов считался нечистым животным и у мусульман, в частности, презирался наряду со свиньёй.
Академик Б. Рыбаков утверждает, что медвежья тема в археологии и фольклоре очень часто сопряжена с именем славянского языческого бога Волоса-Велеса. Неолитические следы медвежьего культа обнаружены у села Волосова; ритуальный топор с головой медведя был найден в центре города Ростова, где, как известно, долго сохранялось капище Волоса.
Звёздное скопление Плеяды, имеющее русское народное название «Волосожары», или «Волосыни», предвещает удачную охоту на медведя, как пишет исследователь медвежьего культа Н. Воронин.
Особенно сближает Волоса-Велеса с медведем наименование медвежьей лапы, оберегающей крестьянский двор. В народе её нарекли «скотьим богом». А именно так и обозначался Велес в русских летописях.
Вероятно, считают историки, Волос – древнейшее из всех славянских божеств, корни представлений о котором открываются с мустьерского медвежьего культа неандертальцев.
Слово «Волос» обозначает «волосатый», «волохатый». Может быть, предполагает Б. Рыбаков, тогда и «волхв» – славянский жрец – одет в медвежью шкуру?
Обращает на себя внимание тот факт, что сведения о связи Волоса с культом медведя идут с самого севера славянского мира, из ярославского Поволжья, расположенного на границах европейской тайги, где постоянное соприкосновение с этими крупными хищниками накладывало значительный отпечаток на быт поселенцев тамошнего края.