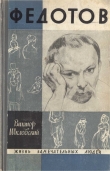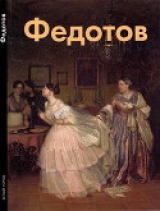
Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Михаил Алленов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)


Сватовство майора. 1848. Фрагменты

У Александра Дружинина, писателя, некогда сослуживца и ближайшего приятеля Федотова, автора самого содержательного мемуарного очерка о нем, есть такое рассуждение: «Жизнь есть странная вещь, нечто вроде картины, написанной на театральном занавесе: не подходи слишком близко, а встань на известную точку, и картина станет очень порядочная, да иногда кажется куда как хороша. Умение поместиться на подобной точке зрения есть высшая человеческая философия». Разумеется, эта иронически изложенная философия вполне в духе гоголевского поручика Пирогова из Невского проспекта. В первом варианте Сватовства Федотов словно маскируется под эту «высшую человеческую философию»: событие предстает в парадном обличье, и художник, спрятанный за водевильной маской, расточает восторги по поводу праздничного блеска сцены. Такая умышленная наивность как раз и является залогом художественной цельности федотовского шедевра. В качестве примера подобной стилизации чужой точки зрения можно вспомнить Гоголя. В его повестях рассказчик то отождествляется с героями (например, начало Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем или Невского проспекта), то маска сбрасывается, и мы слышим под занавес голос автора: «Скучно на этом свете, господа!» или «Не верьте Невскому проспекту». То есть, не верьте обманчивой видимости, блестящей оболочке жизни.
Смысл второго варианта «Сватовства майора» – в обнаружении настоящего «авторского голоса».
Художник словно отдернул театральный занавес, и событие предстало в другом обличье – как будто осыпался парадный глянец. Нет люстры и росписи на потолке, жирандоли заменены подсвечниками, вместо картин на стене – грамоты. Менее отчетлив рисунок паркета, нет узора на скатерти, вместо легкого кисейного платочка грохнулся на пол скомканный тяжелый платок.
С исчезновением люстры, карниза, с заменой круглой печи квадратной ослаблено впечатление осязаемости пространства. Отсутствуют замедляющие внимание ритмические членения, образованные в первом варианте предметами, исчезнувшими при повторении. В совокупности этих изменений проявляется характерное для последних произведений Федотова ощущение пространства как единой, непрерывной и подвижной светонасыщенной субстанции. Пространственная среда становится разреженной, разуплотненной, а потому все силуэты – более подвижными, темп действия – более стремительным. Теряет былое значение обстоятельность изобразительного рассказа, с предметного описания акцент переносится на субъективную оценку события.

Сватовство майора. 1850-1851
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Сватовство майора. 1848. Фрагмент
Совершающаяся трансформация изобразительных средств сопровождается изменениями в трактовке действующих лиц. Майор из фата и героя превратился в обрюзгшего злодея, сваха лишилась умной хитринки, в ее лице появилось что-то тупое; улыбка купца застыла в неприятном оскале. Даже кошка, словно копирующая в первом варианте манерную грацию невесты, здесь превратилась в жирного, грубошерстного, невоспитанного зверя. В движении невесты нет прежнего оттенка манерности. Рамы, пересекавшие ее силуэт в первом варианте и зрительно замедлявшие движение, теперь подняты вверх, чтобы отчетливо воспринималась стремительность линии, очерчивающей плечи и голову невесты. Движение выявляется как порывистое, даже смятенное. Если в первом варианте восторженное любование подробностями внушает иллюзию, будто художник видит сцену глазами лукавых «продавцов» и «покупателя» купеческого добра, то во втором варианте нам предлагается воспринимать окружающее глазами невесты – глазами человека, оказавшегося жертвой драматической коллизии.
Федотовский жанр посвящен тому, что называется «жизненными обстоятельствами». Для своего воссоздания они требуют обстоятельности, то есть должны быть подробно рассказаны. В этом отношении начало начал федотовского жанризма в сепиях первой половины 1840-х годов можно определить как «изобразительную словесность». Но само слово имеет назывную или описательно-изобразительную часть. И вместе с ней, другую часть, с ней не совпадающую – произношение, интонацию, то, что в речи называется выражением, выразительностью. Ведь значение произносимого и отношение к тому, что произносится, – не только в составе и группировке слов, но и во фразировке, интонации. Но тогда и в «изобразительной речи» тоже должен быть уровень собственно изобразительный и уровень выразительный. Если так, то можно ли высвободить в изображении эти выразительные возможности? Помощником Федотову в решении этой проблемы оказывается слово.

«Теперь невест сюда, невест». Автошарж. 1848-1850
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Квартальный и извозчик. 1848
(«Ах, братец! кажется, дома забыл кошелек»)
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Ах, папочка, как тебе идет чепчик!». Автошарж. 1848-1850 («Ах, папочка, как тебе идет чепчик – правду мамочка говорит, что ты ужасная баба»)
Рисунок. Государственная Третьяковская галерея, Москва
В рисунках второй половины 1840-х годов вся описательно-назывная, то есть изобразительная, относящаяся к характеристике обстоятельств, функция отдана словесному комментарию, порой весьма пространному. Комментарий этот включается в поле изображения и выполняет ту же роль, что субтитры на киноэкране. Кстати, такой прием совмещения изобразительного и словесного рядов был издавна известен и привычен в лубочных картинках. Изобразительный язык, не огруженный более задачей изъяснять и комментировать происходящее, сосредоточивается на игре собственными выразительными возможностями. Если это «изобразительная словесность», то на долю изображения теперь остается выражение: такая изобразительность начинает изображать то, что в слове существует помимо его изобразительно-предметного значения, а именно – голос, музыку, интонацию. Не случайно в словесных комментариях к изображаемым мизансценам у Федотова постоянно употребляются междометия: «Ах, я несчастная...» (Неосторожная невеста), «Ах, братец! кажется, дома забыл кошелек» (Квартальный и извозчик), «Ах, папочка! как тебе идет чепчик»', но особенно часто идут в дело вопросительный и восклицательный знаки, то есть, собственно, интонация.
Акцент переносится с предметной повествовательности на интонационный рисунок пластической фразы, на «поведение карандаша», копирующего и попутно комментирующего поведение персонажей. Иногда этот сдвиг внимания специально обыгрывается – предмет есть, но не сразу прочитывается. Так, в рисунке Продажа страусового пера (1849-1851) девушка, рассматривая, держит в поднятой руке перо, контур которого совпадает с изгибом ее плеча, отчего само перо с первого взгляда неразличимо: вся сценка уподобляется изящно сыгранному пантомимическому этюду с воображаемым предметом.
Или, например, в рисунке Молодой человек с бутербродом (1849) контур бутербродного ломтика в поднятой руке точно врисован в абрис жилетного воротничка так, что вообще не воспринимается в качестве отдельного предмета. Этюд, конечно, вовсе не о бутерброде: персты, держащие хлебный ломтик, кажутся просто прикасающимися к воротничку и зависающими в начале нисходящей диагонали, провожаемой ленивым взглядом сквозь кисть другой руки, лениво примеряющейся к диаметру воображаемого бокальчика, о котором существо лениво раздумывает: поднять ли? сейчас, что ли? или немного погодя? Грациозная балетная изысканность всей позитуры выдает томно-ленивое обыкновение рисоваться, свойственное завсегдатаям Невского проспекта, привыкшим ощущать себя на виду, ловить заинтересованные взоры и принимать картинные позы. Этот рисунок определенно соотносится с темой федотовской картины 1849 года Не в пору гость. Завтрак аристократа.

Продажа страусового пера. 1849-1851
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Неосторожная невеста. 1849-1851 («Ах, я несчастная – они старые товарищи – они знакомы. А я им обоим дала слово – обоим – по портрету: ох, я несчастная»)
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В Сватовстве майора рама картины имитирует портал сцены, как если бы мы обозревали происходящее из партера. В Завтраке аристократа интерьер показан так, как сцена воспринимается из– за кулис: мы видим как раз то, что прячется от входящего. Комизм положения здесь – того же рода, что на театральном жаргоне выражается понятием «накладка»: на художественно-обдуманное накладывается нечто «из другой оперы» или из действительной жизни так, что предумышленное и непредумышленное образуют своевольное парадоксальное единство. В данном случае такой искусственной инсценировкой является «театр вещей» в интерьере комнаты. Вещи здесь представляют не свое бытовое назначение, а образ «красивой жизни», это назначение дискредитирует: на стул нельзя присесть – на нем демонстрируются афиши модных ресторанов; кусочки резаной бумаги на ковре рядом с корзиной показывают именно то, что такая корзина в виде узкогорлого сосуда не приспособлена для того, для чего она, собственно, поставлена. Она здесь вовсе не за тем, чтобы служить емкостью для мусора, а чтобы демонстрировать благородную форму античной амфоры, а главным образом – благородный вкус хозяина. Бумага же, очевидно, резалась для того, чтобы на сияющем чистом листе нужного формата входящему сразу бросалась в глаза недавно, надо полагать, приобретенная статуэтка. Но рядом на другую часть того же листа легла надкушенная краюха черного хлеба, приняв тем самым тот же характер достопримечательности, выставляемой напоказ, что и остальные «красивые вещи». Эту– то «накладку» и пытается закрыть хозяин от входящего гостя.

Не в пору гость. Завтрак аристократа. 1850
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Но в данном случае Федотов использует тему «жизнь напоказ» не столько в интересах «критики нравов», сколько «в интересах живописи»: ведь все показное, что характеризует нравы героя картины – ковер, кресло, безделушки на столе, вся обстановка этой комнаты обладает эстетическими достоинствами. Для живописца, для его глаза эта «показуха» составляет увлекательный колористический ансамбль и позволяет ему продемонстрировать свое мастерство и любовь к предметной прелести уже безотносительно к той насмешке, которую может вызвать сама ситуация картины. Для обозначения этого комического казуса достаточно было бы только краюхи хлеба рядом со статуэткой, прикрываемых книгой. По благородству сочинения, блеску исполнительского мастерства Завтрак превосходит все прежние живописные произведения Федотова – ни одно из них не являло столь изысканного цветового ансамбля, такого фактурного многообразия, столь повышенной чувствительности к сложным и редким колористическим гармониям (сочетание синего с зеленым, например). Точность перспективных ракурсов (в позе привставшего с кресла хозяина и встрепенувшегося, повернутого в глубину пуделя), характеристика разнообразных фактурных качеств воспроизводимых вещей (сквозистого, ворсистого, мягкого, твердого, блестящего, матового и т. д.) – мастерство решения этих задач сопоставимо с лучшими образцами мировой живописи. Степень композиционной и живописной изощренности для художника, всего лишь три года назад обратившегося к живописи, невероятна.

Молодой человек с бутербродом. 1849
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В этом произведении заострено едва ли не главное противоречие федотовской живописи. Дело в том, что внутри сюжетов, посвященных житейским несуразицам, обстановка и весь окружающий мир характеризует изображаемых героев, их вкусы и пристрастия. Но они не могут совпадать со вкусом самого художника, поскольку здесь автора и героев разделяет ироническая дистанция. А теперь Федотов достиг той степени живописного мастерства, которое пробуждает естественную жажду утвердить свое чувство красоты и понимание прекрасного прямо, минуя эту дистанцию. Но пока сохраняется прежняя сюжетная программа, эта дистанция должна быть каким-то образом свернута, сокращена. В картине Не в пору гость это выражается в том, что комизм происшествия, в отличие от прежних произведений, сведен к анекдоту, «свернут в точку», уясняется с первого взгляда. И время созерцания картины как живописного создания разворачивается не в сфере этого комизма, а в сфере любования красотой предъявляемого нам живописного ансамбля безотносительно к сатирическим заданиям сюжета.
Совершенно понятно, что следующим шагом должно было быть устранение антагонизма между героями и автором. Этот шаг совершается в картине Вдовушка. Здесь впервые у Федотова появилось то, что в литературном произведении именуется «лирический герой», другое «я» художника, исчезла дистанция между художником и изображаемым миром, и, соответственно, полностью изменилась живописная стилистика. Вещи и их цветовые качества перестают называть и обсказывать внешние обстоятельства действия, а превращаются в своего рода инструменты, на которых исполняется внутренняя «музыка души» или то, что принято называть настроением, состоянием. Не вещи, а «душа вещей», не то, как они блестят, отсвечивают, а то, как они светятся внутренним светом в сумрачной мгле...

Вдовушка (с зеленой комнатой). 1850
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Сравнительно с произведениями, которые принесли Федотову славу, неотделимую от репутации увлекательного рассказчика и комедиографа, это изменение означало измену этому своему прежнему реноме. Федотов не мог не понимать, что он тем самым обманывает ожидания публики. Процесс работы над вариантами картины Вдовушка показывает, что это перевоплощение давалось Федотову не без труда.
Все варианты создавались в короткий промежуток на протяжении 1850 и 1851 годов, что затрудняет точность датировок. Однако хронологическая последовательность не обязательно выражает художественную последовательность или логику. Логика же эта такова. В варианте «с лиловыми обоями» (ГТГ) полностью иную сюжетную коллизию – отрешенное от всего внешнего, состояние погруженности во внутреннюю невидимую, неосязаемую «жизнь души» – Федотов пытался удержать в пределах прежней стилистики, предусматривающей описательный принцип изложения события в зримо осязаемых подробностях. В результате картина получилась многоцветной и внешне перечислительной. Пространство раздвинуто вширь и обозревается с некоторого удаления, напоминая прежний сценический прием картинного построения. В соотношении «фигура – окружение» перевешивает окружение. Короткая догорающая свеча освещает край алькова, фуражку покойного мужа-офицера, изображенного на портрете, серебро на полу. Мы должны заметить бирки с печатями на посуде, стуле, дверях: имущество описано и вдовушка должна покинуть этот дом. Изображено, стало быть, мгновение прощания с прежней жизнью. Однако состояние это скорее обозначено, нежели выражено. Фигура слишком внешне эффектна: театрально-балетная грация тонкого стана, картинный жест руки, опирающейся на край комода, задумчиво склоненная головка, узнаваемо брюлловский, слегка кукольный типаж. Несмотря на небольшой формат в плане композиционной типологии это похоже на обстановочный парадный портрет.

Вдовушка. 1851-1852
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В варианте Ивановского музея, напротив, несколько внешним образом форсируется то принципиально новое, что принес этот сюжет, а именно настроение, состояние, а им попросту является слезная печаль. Федотов сделал черты лица чуть одутловатыми, лицо будто опухло от слез. Однако подлинная глубина того, что мы называем состоянием, настроением, неизрекаема в подверженных исчислению внешних признаках и приметах. Его стихия – одиночество и молчание. Отсюда ведет свое происхождение вариант «с зеленой комнатой» (ГТГ). Пространство теснее обступает фигуру. Ее пропорции задают формат и ритмический строй картины, пропорции составляющих интерьер вещей (вертикально вытянутый формат портрета, прислоненного к стене, пропорции стула, комода, свечи, пирамиды подушек). Рама портрета уже не пересекает линии плеча, силуэт вырисовывается мерцающим контуром вверху на свободном пространстве стены, заставляя оценить совершенную, воистину ангельскую красоту профиля. Художник последовательно отказывается от несколько обыденной конкретности типажа ради идеального «лика». Взгляд, уходящий в себя, склонен сверху вниз, но никуда конкретно, «Как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело...» (Тютчев). Пламя свечи такое, какое бывает, когда она только-только зажжена: оно не столько освещает, сколько активизирует ощущение обволакивающего сумрака – этот с изумительной живописной тонкостью переданный парадоксальный эффект можно было бы прокомментировать пушкинской строкой «свеча темно горит».

Вдовушка (с лиловыми обоями). 1851-1852
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Вдовушка. 1850-1851
Ивановский областной художественный музей

Молодая девушка перед портретом офицера (Вдовушка). 1849-1851
Рисунок. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Изображается не событие, происшествие, а состояние, не имеющее представимого начала и конца; в нем теряется счет времени. В сущности, остановившееся время – событие на черте небытия – и есть то, чему посвящена картина. Этот внежанровый, траурно-мемориальный аспект темы проявлен в еще одном – полуфигурном – варианте (ГРМ): в геометризированной архитектурной статике композиции, повествовательном минимализме, строгом бестрепетном спокойствии, исключающем какой бы то ни было оттенок сентиментальности.
Во Вдовушке неопределенная длительность изображаемого психологического момента исторгала ее из границ конкретно представимого времени. В картине «Анкор, еще анкор!» (1851-1852) временные границы растворяются мотивом действия – прыжками туда-сюда, словно маятник, мечущейся собаки. Они отсчитывают пустое, утекающее время. Время одновременно идет и стоит, поскольку не сулит никакого изменения реальности. Его движение иллюзорно. Эта ситуация сформулирована в названии картины, где русское «еще» обрамлено французским «анкор», означающим то же самое «еще». Экзотический фразеологизм, нелепица заволакивает, словно дымовая завеса, пустое, однообразно повторяющееся, вращающееся на месте, уныло прозаическое «еще, еще, еще» – понукания обезумевшего от скуки обитателя избы, заставляющего несчастного пуделя бесконечно прыгать через протянутый чубук.
По тому же принципу построено живописное зрелище на полотне. Первому взгляду представляется нечто невнятное – колыхающееся дымно-душное марево; из него постепенно реконструируется элементарно-простейшее: свеча, стол, топчан, гитара, прислоненная к стене, лежащая фигура, тень пуделя и какое-то призрачное существо в дверном проеме в глубине слева. Люди и вещи превращены в живописные фантомы, какими они воспринимаются в зыбком промежутке между сном и явью, где кажущееся и действительное неотличимы друг от друга. Это двуликое, каверзное единство призрачного и действительного – одно из воплощений известной метафоры «жизнь есть сон».

Жена-модница (Львица).
Эскиз. 1849-1850 Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Маменька домой сбирается». 1849-1851
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В написанной ранее картине Офицер и денщик (1850) – тот же состав «действующих лиц»; похожая обстановка – топчан,стол,свеча, гитара; та же «колористическая интрига» – интерьер в рефлексах красной скатерти, освещаемой свечой. Наконец, идентичная тема – досужее времяпрепровождение в игре с домашним зверем (только здесь не собака, а стоящий на задних лапках котенок). Уютный уголок, самовар, чай,сахарница,витая булочка на столе – скудный, но все же десерт, добродушная улыбка на лице хозяина (кстати, физиономический нюанс, только в этом произведении промелькнувший у Федотова). То же самое добродушие в сочинительстве смешных казусов – тень за спиной хозяина напоминает козла, а так как он с гитарой, то получается нечто вроде намека на распространенное уподобление пения козлиному блеянию (снова автоирония: офицер здесь наделен автопортретными чертами, а Федотов, по воспоминаниям друзей, обладал приятным баритоном и прилично пел под гитару). Откровенно эстетское любование повторами выгнутых линий (абрис стула, край скатерти, дека гитары и изгиб протянутой руки, силуэт склоненных фигур хозяина и денщика) выдает желание сделать видимое приятным, благозвучным. В целом сценка срежиссирована и исполнена как бытовая юмореска.
Рядом с ней картина «Анкор, еще анкор!» кажется созданной специально в подтверждение афоризма почитаемого Федотовым Брюллова, что «искусство начинается там, где начинается чуть-чуть», и во исполнение той истины, что в искусстве содержание творится формой, а не наоборот. В самом деле, «чуть– чуть» модифицированы композиционные пропорции – и при полном тождестве сюжета полностью трансформировалась тема. Соотношение пространства и предметного наполнения изменено в пользу пространства, чрезвычайно активна роль пространственных пауз. Фигуры, обозначающие ситуацию, «затеряны» на периферии изображения. В центр, на композиционно главное место попадает освещаемый свечой стол, покрытый алой скатертью. На нем блюдо или сковородка с как будто картофелинами, кружка, кринка, складное зеркало, горящая и незажженная свеча – набор предметов, характеризующий то, что называется ненакрытый стол. То есть, он накрыт скатертью для того, чтобы быть накрытым для некоторого акта, именуемого обед, чай и т. п. (например, в картине Офицер и денщик стол именно накрыт к чаю). Так вот, ансамбля вещей, знаменующих, что стол накрыт, приготовлен к известному действию, здесь как раз нет. Это все равно, как если бы нам открылась сцена без декораций: хотя на ней может быть много всякой всячины, она все равно будет восприниматься как пустая сцена.

Офицер и денщик. 1850
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Портрет поручика Финляндского полка Петра Ефремовича Львова. 1846-1847
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Еще один парадокс – зыбкая призрачность картины, возникающей «в неверном свете» свечи, сочетается с отчетливой выверенностью композиционной геометрики. Очертаниями балок интерьер превращен в сценическую коробку, портал «сцены» параллелен фронту картинной плоскости. Диагональными линиями потолочной балки вверху слева и скамейки внизу справа резко проявлены очертания «перспективной воронки», втягивающей взгляд в глубину к центру, где (единожды в федотовских интерьерах) помещено окно. Этими рифмами делается ощутимой роль композиционных интервалов. Вблизи, на первом плане – своего рода авансцена между рамой картины и «порталом» сценической коробки, потом просцениум – между этим порталом и кромкой тени, где мечется собака. Аналогичный пространственный интервал прочитывается на заднем плане – в перекличке поставленного углом зеркала со скатами заснеженной крыши, виднеющейся за окном. Затененная часть интерьера оказывается, таким образом, зажатой «с фронта и с тыла» между двумя пустынными пространственными фрагментами и превращается в закуток, клетушку, нору – приют вековечной скуки. Но и обратно – ее сторожит, на нее смотрит (сквозь оконце), ее осеняет большой мир: гнездо ничтожного скучливого безделья включено в более крупную «масштабную сетку», и оно превращается в олицетворение Скуки.
Перед нами воистину «театр абсурда»: нам настоятельно предлагается обратить особенное внимание на то, что на сцене жизни нет ничего, достойного внимания. Совершенно то же провозглашает словосочетание анкор, еще анкор! Оно ведь означает повторяющееся воззвание, понукание к действию, тогда как само это действие есть не что иное, как одурь от бездействия. Это своего рода колыхающаяся пустота. Вне атрибутов аллегорической поэтики Федотовым создана аллегория на тему «суета сует» – бессобытийная пьеса со всеобъемлющей, всемирной темой. Поэтому, кстати, бессмысленная смесь «французского с нижегородским», фраза ничейного наречия, «Часов однообразный бой – / Томительная ночи повесть! / Язык для всех равно чужой / И внятный каждому, как совесть!» (Тютчев) – эта бессмыслица все же имеет смысл, и он в том, что в пространствах русской, равно как и французской скуки «часов однообразный бой» раздается и время утекает одинаково. .

Молодой человек, играющий с собакой. 1851
Этюд для неосуществленной картины Офицерская казарменная жизнь
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Особенности позднего творчества Федотова, отличные от предшествующего, определились во Вдовушке. Во-первых, обозначилась иная сюжетная коллизия – жизнь, придвинутая к порогу смерти, небытия: беременная вдовушка между смертью мужа и рождением ребенка. Во-вторых, сознание неинтересное™ этой новой сюжетики публике, возлюбившей художника за совсем иное, и,следовательно, сознание,что новые пьесы играются перед пустым зрительным залом и прежние средства уловления зрительского внимания не нужны. Картины создаются как бы для себя. Но это значит, что они адресуются куда-то за пределы настоящего времени – в вечность. Коли так, то живопись начинает изображать не то, что творится вовне, а то, что происходит во внутреннем мире, – не видимое, а ощущаемое, кажущееся. Главную роль в сотворении такого образа видимости играет свеча – непременный атрибут, начиная с Вдовушки, всех поздних произведений Федотова.
Ограничивая поле зрения, свеча интимизирует ощущение пространственной среды. Другое свойство свечи – делать зрительно осязаемым окружающий сумрак. То есть буквально и метафорически пододвигать свет к границе тьмы, зримое к черте незримого, бытие к порогу небытия. Наконец, со свечой неотъемлемо связано ощущение недолговечности вызываемого ею к жизни мира и подвластности ее света превратностям случая. В силу этого она обладает способностью делать картину зримой реальности призрачной. Иначе говоря, свеча – это не просто предмет среди предметов, это метафора. Апофеозом этой метафорической поэтики стала картина Игроки (1851-1852).

«Анкор, еще анкор!».1851 -1852
Государственная Третьяковская галерея, Москва
В давней акварели, изображающей Федотова и его товарищей по Финляндскому полку за карточным столом (1840-1842), драматургия карточной игры не составляет изобразительной задачи – создать групповой портрет. Вовлеченность в перипетии карточной игры, что называется, выводит из себя: тут не человек играет картой, а карта играет человеком, превращая лицо в олицетворение карточного случая, то есть в мистическую фигуру. Реальное становится воплощением иллюзорного. Именно такова общая тема, она же изобразительная стилистика картины Игроки. Вполне понятно, почему Федотов писал теневые фигуры игроков с манекенов: пластика статично-фиксированных марионеточных поз позволяла напомнить зрителю те состояния, когда, расправляя окоченевшее от долгого сидения тело – выгибая поясницу, потягивая руки, растирая виски, то есть приводя себя в чувство, – мы, в сущности, обращаемся с собой, как с мертвыми, извлекаем себя оттуда, где мы вели призрачное существование.
Подобные ситуации выражаются общеупотребительной фигурой речи – «приходить в себя», «возвращаться к реальности». В любом из таких случаев существует переходный момент, когда душа пребывает «на пороге как бы двойного бытия».
Быть может, в силу природной абстрактности графического языка (сравнительно с более чувственно конкретной живописью) в рисунках к Игрокам, выполненных лихорадочным, горячечным штрихом на бумаге холодного синего тона, соотнесенность таких вот двойственных состояний с миром запредельным, ирреальным выражена с более впечатляющей, чем в живописном полотне, пронзительной отчетливостью.

Игрок, сжимающий голову руками. Два этюда.1851-1852 Рисунок
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Игрок, сидящий за столом. Игрок, разминающий поясницу. Этюд. 1851-1852
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Потягивающийся игрок. Этюд. 1851-1852
Рисунок. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Некогда, применительно к жанровой живописи XVII века, Пушкиным была брошена фраза «фламандской школы пестрый сор». Творческие усилия Федотова были посвящены эстетическому освоению именно этого «хозяйства», открытого фламандскими и голландскими художниками XVII века. Но у художника, сделавшего своим профессиональным занятием пересыпание этого «сора», кажется неожиданной такая сентенция,присутствующая в его записных книжках: «Наблюдать, углубляться, подмечать законы высшей премудрости есть наслаждение для души». Где же у Федотова эта высшая премудрость? Этот пафос, это воспарение, где в его искусстве мы можем это обнаружить и понять? Только обозревая все в целом, только созерцая и пытаясь вывести интегральную формулу его творческого интеллекта. И тогда мы должны будем увидеть, что федотовский художественный мир пребывает под знаком двух «онтологических метафор», которые испокон веков характеризуют эту высшую премудрость. Эти метафоры суть: «весь мир театр» и «жизнь есть сон».
В дневниковых заметках Федотова встречаются чрезвычайно выразительные в этом смысле определения: «В пользу рисования строил гримасы перед зеркалом», «Опыт передразнивать натуру». Но вот однажды он называет свои занятия – «мои художественные углубления».
Во времена, когда искусство принято было подразделять на «форму» и «содержание», первенство обычно отдавалось страсти Федотова изображать жизнь, текущую действительность. Тогда как его художественные размышления мыслились как то, что «прилагается» к этой главной его страсти и привязанности. «Кому дано возбуждать в другом удовольствие талантами, то за пищу самолюбию можно и повоздержаться в иных лакомствах, это расстраивает талант и портит его чистоту (и благородство) (чем приятен он людям), целомудренность. В чем и скрыт ключ изящного и благородного». Эту последнюю сентенцию можно считать комментарием к рисунку Федотов, раздираемый страстями. Но если бы мы спросили себя, в чем же заключается чистота и целомудрие таланта, который отказывается от страстишек, чтобы возбудить в других удовольствие, то обнаружили бы, что они заключаются в стиле исполнения, в красоте рисунка и т. п., а вовсе не в коллекционировании «сюжетов из жизни». В качестве «художественных углублений» Федотова занимали как раз эти пластические модификации. «Счастлив тот, кто может довольствоваться своим положением, кто может всюду находить поэзию, ожемчуживать равно и слезу горести, и слезу радости. Горькая мысль из уст его сладка кажется, сладкая ж – восхитительна. Я завидую этой способности». Но сам-то Федотов, завидуя ей, именно эту способность развивал в себе, и поэтому это отношение между сюжетом и стилем можно было бы перевернуть и сказать, что Федотов в жизни выбирает такие положения и казусы, которые дают ему возможность изыскать и обогатить заповедник художественности жемчужинами, которых прежде там не было.