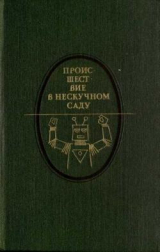
Текст книги "Происшествие в Нескучном саду"
Автор книги: Михаил Булгаков
Соавторы: Иван Ефремов,Константин Паустовский,Евгений Петров,Илья Ильф,Василий Ян,Владимир Обручев,Валентин Катаев,Андрей Платонов,Леонид Платов,Валерий Брюсов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
Константин Георгиевич Паустовский
Доблесть
Маленький мальчик рисовал цветными карандашами.
Он был очень озабочен и о чем-то напряженно думал.
Потом он поднял голову, посмотрел на меня, и из глаз его неожиданно полились слезы. Они ползли по щекам, капали на его измазанные карандашами пальцы, и от слез мальчику было трудно дышать.
– Па, – шепотом спросил он, – почему люди не придумали лекарства, чтобы не умирать?
Тогда мне пришлось рассказать ему эту историю.
Летчик Шебалин заблудился в туманах.
Морские метеорологические станции вывесили объявления о том, что на Европу надвигаются мощные массы тропического воздуха.
Стояла зима. Снега не было, но треск сухих листьев напоминал жителям морского города хрупкий треск льда. Этот звук был свойственен только зиме.
Знатоки морских туманов и дымной мглы – англичанин Тейлор и немец Георги – дали точное определение этого тумана: «Теплый тропический воздух, если его зимой приносит в Европу, превращается сначала в голубоватую мглу, затягивающую материки на сотни миль, а затем мгла переходит в моросящие дожди. Туман этот очень устойчив».
Летчик Шебалин знал это. Внизу были пропасти и рваные вершины Карадага, покрытые лишаями и ржавчиной тысячелетий. Туман закрывал вершину. Он ударялся с размаху в гранитную стену горы и взмывал к небу могучей белой рекой. Вокруг этого туманного столба – единственного ориентира – Шебалин упорно водил по широким кругам стремительную машину.
Равнодушно и глухо гудело море. Красное солнце – солнце ранней зимы висело во мгле и отливало сумрачной бронзой на мокрых крыльях машины.
В кабине самолета лежал в жару маленький мальчик.
Мать сидела около него, и каждый раз, когда Шебалин оборачивался, он видел глубокие, почти мужские, морщины около ее губ. Мальчик умирал.
Шебалин летал за мальчиком в степь и должен был его доставить в больницу в приморский город. Три часа назад, когда мальчика вносили в кабину, сухое небо было безоблачно и на чертополохе блестела паутина, казалось, ничто не предвещало тумана.
Шебалин знал, что, даже если удастся через два-три часа сесть на землю, – все равно будет поздно – мальчика уже не спасти. Просветов в тумане не было.
Машина с торжественным ревом рвала в клочья сырой и душный дым. Мальчик метался и бредил.
Внезапно Шебалин увидел внизу тень громадной и стремительной птицы. Самолет! Шебалин резко взял вверх.
– Конденсация! – крикнул ему в лицо бортмеханик. – Вылетели все-таки!
Шебалин кивнул. Встречная машина промахнула серебряным крылом. Шебалин узнал машину Ставриди.
Ставриди шел в тумане и рассеивал за собой широкими дорогами наэлектризованную пыль. Пыль притягивала частицы тумана, пыль превращала туман в крупный дождь. Его первые капли уже били наискось в стекла кабины.
Туман оседал глубокими пропастями, уже блестели под слюдяным солнцем мокрые ребра Карадага, и Шебалин увидел внизу землю, омытую дождем. Она переливалась и слепила глаза.
Шебалин уверенно пошел на посадку.
С аэродрома мальчика увезли в больницу. Шебалин медленно вылез из машины. Его не удивило, что аэродром был полон летчиков, не удивил вылет Ставриди.
Он знал, что рассеивание тумана было сложным и дорогим делом, но не удивился и этому, – жизнь мальчика была дороже.
«Кто же этот мальчик?» – подумал Шебалин. Он даже не спросил об этом, когда получил приказ лететь.
Вечером экстренные выпуски газет сообщили, что летчик Шебалин доставил в город мальчика семи лет, получившего сотрясение мозга. Врачи признали состояние мальчика почти безнадежным, но допускали, что благоприятный исход возможен лишь при условии абсолютной тишины и покоя.
Через час после выхода газет на улицах было расклеено постановление городского Совета, предлагавшее всем гражданам города соблюдать тишину. Наряды милиционеров прекратили движение около больницы.
Но эти меры были излишни. Без всякого приказа город затаил дыхание. И тем явственнее звучали голоса моря, ветра и сухой листвы.
Автомобили шли, крадучись, по окраинам. Шоферы, привыкшие газовать и рявкать сиренами, безмолвно сидели в темноте своих кабин, как заговорщики.
Ярость шоферов обрушилась на потертое такси, прозванное «кипятильником». Машина эта внезапно и оглушительно стреляла. Вдогонку ей шоферы грозили кулаками и кричали свистящим шепотом: «Чтоб ты пропал, чертов кипятильник!» Газетчики перестали кричать. Громкоговорители были выключены. Пионеры образовали отряды по поддержанию тишины, но у них почти не было работы.
Нарушений тишины не было, если не считать незначительного случая с портовым фонарщиком. Это был старый и веселый человек.
Он шел и горланил песню, потому что приморский город привык петь и смеяться. Песни он выдумывал сам.
Фонарь горит, и звезд не надо,
И звезд не надо на небесах,
И все мы рады, да – очень рады,
Что нам не надо бродить впотьмах!
Пионеры остановили старика. Тихий разговор длился недолго. После него пьяный фонарщик сел на мостовую, стащил, кряхтя, ботинки и пошел на цыпочках к своему одинокому дому на окраине. Он грозил в переулки пальцем и шипел на прохожих. У себя дома он выпустил кошку из чулана, чтобы она не мяукала, вытащил из кармана старинные часы – толстую луковицу, послушал их громкий стук, положил часы на стол, прикрыл сверху подушкой и погрозил часам кулаком.
Второй случай произошел в порту и потом долго обсуждался по всему побережью.
Надо сказать, что от стародавних времен на морях еще сохранились заслуженные грузовые пароходы. Скрипя и тяжело переваливаясь на волнах, они проплывали около нарядных теплоходов и недружелюбно косились на них. Теплоходы шипели пеной и винтами и закатывались по ночам в морских горизонтах, как закатываются ослепительные планеты.
Один из таких пароходов – «Труженик моря» – подходил с грузом кровельного железа к городу, где лежал в больнице мальчик.
В десяти милях от берега пароход получил от начальника порта радиограмму. Начальник порта предупреждал, что ввиду чрезвычайных обстоятельств выгрузка железа в порту запрещается на неопределенное время.
В двух милях от порта пароход получил вторую радиограмму. Она приказывала при подходе к порту ни в коем случае не давать гудка, визгливый гудок «Труженика моря» был хорошо известен.
Команда «Труженика моря», склонная к зубоскальству в такой же мере, как и все моряки, изощрялась в догадках. Но, несмотря на смешливое настроение, людей не оставляла тревога, – неуловимая связь между двумя приказами говорила о каких-то значительных событиях, происшедших в приморском городе.
При входе в порт к «Труженику моря» подошел моторный катер. Начальник порта поднялся на палубу и прошел в каюту капитана.
Когда начальник порта выходил из каюты, матросы услышали отрывок загадочной фразы: – …больница у нас на самом берегу моря…
Капитан «Труженика моря» поднялся на мостик и коротко приказал выходить на рейд и становиться на якорь. Никаких разговоров! Разгрузки не будет!
Команда роптала. Тогда капитан созвал ее на баке и прочел вслух сообщение газет о мальчике.
– Сами понимаете, – сказал капитан, – что в городе не должно быть шума. С нашим грузом нечего сейчас и соваться.
Но ожидание на «Труженике моря» не было похоже на обычное, полное скуки стояние на рейде. Никто не знал мальчика, но о нем упоминалось с глубокой нежностью.
Ожидание это было полно рассказов и размышлений, наивных и печальных. Газету с берега вырывали друг у друга из рук. Несмотря на скрытую тревогу за судьбу незнакомого мальчика, ту тревогу, что двадцать лет назад показалась бы матросам не только смешной, но попросту непонятной, каждый скрывал в себе и чувство гордости.
Была ли это гордость собой или начальником порта, – моряки не могли разгадать. Но при встрече с начальником порта они срывали кепки и долго смотрели вслед на его синий лоснящийся китель.
Город затаил дыхание. Город молчал. Молчание это давало жителям ощущение одиночества и свежести. Так после крепкого сна в комнате с настежь открытыми окнами утро входит во все поры тела глубоким безмолвием и солнцем. Мысль, очищенная от соков усталости и никотина, приобретает стремительный полет, и горизонты отодвигаются и тают, открывая новые берега, мысы, земли, давая новую пищу для волнений и поэм.
Город молчал, и тем явственнее слышались голоса моря, ветра и сухой листвы. Особенно громко шелестели розовые листья платанов. Но ничего не могло сравниться с канонадой прибоя.
На третий день болезни мальчика город пережил новое испытание. На мачте в порту взвился штормовой сигнал. С моря шел шторм, гремящий, как сотни скорых поездов, широкий шторм, который всегда срывается при безоблачном небе. И, как предвестник шторма, небо уже синело с нестерпимой ледяной яркостью.
Было выпущено второе экстренное обращение городского Совета к населению. В нем говорилось, что приняты меры, чтобы устранить шум, возникающий помимо воли человека, шум стихии. Под наблюдением изобретателя Эрнста в больнице заканчивается монтаж установки, наглухо выключающей внешние шумы.
Шторм ожидается к полночи, и к тому же времени должна быть включена установка, названная «экраном тишины».
В больнице быстро и бесшумно работали монтеры.
Времени оставалось мало. Ветер уже проносил над городом полосы высоких и прозрачных облаков. Шторм приближался. Первые порывы ветра продували городские площади и сносили к оградам кучи жесткой осенней листвы.
К ночи у мальчика ждали кризиса, и к ночи обрушился шторм. Он шел на берега сокрушительным ударом, в пене, хриплых. раскатах и визге обессиленных чаек.
Земля вздрогнула, леса в горах качнулись и глухо заговорили, и дым из труб пароходов с протяжным свистом помчался вдоль вымерших улиц.
За несколько минут до первого удара шторма Эрнст включил «экран тишины». Эрнсту было разрешено войти в палату, где лежал мальчик, чтобы проверить действие установки.
Оглохший от неистовства бури, Эрнст медленно поднимался по лестнице. Тишина была настолько совершенна, что Эрнст ясно слышал шуршание воздуха в своих легких. Эрнст вошел в палату, в безмолвие, залитое матовым пламенем ламп. О шторме можно было только догадаться по дрожи полов, сотрясаемых близким прибоем.
Но Эрнст не замечал этого. Он смотрел на мальчика. Мальчик лежал, приоткрыв рот, и улыбался во сне.
Эрнст услышал его ровное и легкое дыхание. Он забыл об «экране тишины», о шторме, он не замечал врача и молодой женщины в белом халате. Она сидела у постели мальчика, и Эрнст только потом вспомнил, как его – Да и то на одно мгновение – поразили слезы на ее глазах, слезы, медленно падавшие на ее колени.
Женщина подняла голову, и Эрнст понял, что это мать. Она встала и подошла к Эрнсту.
– Он будет жив, – сказала она и вдруг улыбнулась, глядя куда-то очень далеко, за спину Эрнста. Эрнст оглянулся. Позади никого не было.
– Вы великий человек, – сказала она. – Как я вам благодарна!
– Нет, – ответил, смешавшись, Эрнст. – Мы живем в великое время, и я так же велик, как и всякий трудящийся нашей страны. Не больше. Вы счастливы?
– Да!
– Вот видите, – сказал Эрнст, – создавать счастье – это высокий труд. Его осуществляет вся страна. Благодарить меня не за что.
Через полчаса город узнал о выздоровлении мальчика.
Радио, борясь со штормом, бросало эту весть в ночь, в океаны, во все углы страны.
Приказ о тишине был снят.
В кипение изнемогавшей бури врезались приветственные гудки пароходов, крики автомобильных сирен, хлопанье флагов, поднятых над домами, звон роялей и новая немудрая песенка фонарщика:
Осветил я бульвары, – пусть поет вся страна.
Что ж, что выпил я, старый, молодого вина!
В городе был устроен праздник. Шторм, как всегда, сменился неизмеримым штилем. Он уходил куда-то за край морей, плескался у пляжей на сотни миль, переливал у камней прозрачную воду и качал в ней красные листья кленов и теплое низкое солнце.
Если вы бывали ранней зимой у моря, вы должны помнить эти дни с легким дыханием, похожие на утренний сон, вы должны помнить этот голубоватый воздух, очищенный штормом, когда далекие ржавые мысы стоят грядой над морями и моря осторожно подносят к их подножиям солнечную рябь и тонкий туман.
Матросы с «Труженика моря» впервые услышали, как над спокойной водой поплыла симфония Бетховена.
Казалось, звуки поднимают пароход высокой и плавной волной, и потому вполне понятен был поступок боцмана, – он побежал на бак проверить, не сорвало ли пароход с якорей. И нечего над этим смеяться, как смеялся масленщик.
Вечером в порт вошел английский пароход «Песнь Оссиана». Экипаж его, удивленный видом праздничного города, – город казался огненным каскадом, льющимся с гор в бесшумное море, – вежливо запросил начальника порта, что происходит. Начальник порта ответил ясно и коротко.
В это время летчик Шебалин вышел из своего дома.
Далеко в горах выпал снег, и высокая луна магически блистала над серебряными снежными полями.
В саду около дома Шебалин встретил женщину. Это была мать мальчика. Она шла к летчику, чтобы поблагодарить за спасение сына.
В свете фонарей и в сумраке ночи лицо ее поразило Шебалина бледностью и радостной красотой. Она обняла летчика за шею, поцеловала, и Шебалин ощутил острую свежесть, как будто иней испарялся у него на губах.
Они спустились в город, держась за руки, как дети, и увидели мигающий свет электрических огней на мачте английского парохода. Шебалин остановился. Он узнал азбуку Морзе и громко прочел сигнал англичанина: «Командам советских кораблей. Поздравляем и тысячу раз завидуем морякам, имеющим такую прекрасную родину».
Маленький мальчик перестал рисовать цветными карандашами. Слезы высохли на его лице, и только ресницы были еще мокрые. Он засмеялся и спросил:
– А чей это был мальчик? Общий?
– Да, конечно, общий! – ответил я, застигнутый врасплох этим вопросом.
Илья Ильф, Евгений Петров
Светлая личность
Глава I «Веснулин Бабского»Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.
Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.
Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия – Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.
Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая – была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:
Остановитесь, потребители!
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?
В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.
Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».
Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.
Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.
Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.
Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев – герой гражданских фронтов в должности комбрига.
Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.
Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.
Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.
На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.
– Скорее! – крикнул Бабский.
– Что скорее? – спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.
Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:
– Просил же я вас подержать мой бицикл! Я – прошу убедиться – еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.
Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.
Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:
– Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться – одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?
– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! – восхищенно сказал Филюрин.
– Какие выводы?
– Выпить.
– Это всегда можно. Дайте только патент получить.
– Изобретатель должен угощать, – сказал Филюрин с убеждением.
На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.
В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.
Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!
Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.
Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.
– Скажите, Бабский, – спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, – изобретать – это трудно?
Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:
– Простейшее дело.
Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.
– Что это дает в месяц? – крикнул Филюрин вдогонку.
– Рублей шестьдеся-а-а-ат! – донеслось сквозь грохот.
Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.
Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.
«Не иначе как Бабский выронил, – подумал Филюрин. – Интересно, сколько такое мыло может стоить?»
В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы – любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.
Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.
Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.
В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.
Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.
Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.
Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.
Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.
Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды – очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.
Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пище-славе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до Земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина – мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.
Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).
Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.
В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.
В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.
Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.
– А! Это вы, товарищ Лялин! – примирительно сказал Бабский. – Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.
– Опять изобрели что-нибудь? – проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.
– Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин Бабского»! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.
Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.
– Так вы мне завтра в подотдел занесите, – нетерпеливо сказал Лялин, – там и подработаем вопрос.
– Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться, – суетился Бабский, – позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!
И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.
Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.
Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.
«Медицинское мыло, – с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, – наверно, не меньше сорока копеек стоит».
Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.
И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.
Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.
Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов не долго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.
Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.
Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале. А между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.








