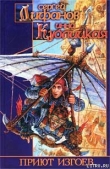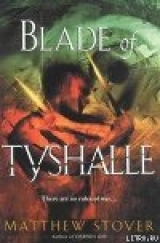
Текст книги "Клинок Тишалла"
Автор книги: Мэтью Вудринг Стовер
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
7
– Я прекрасно себя чувствую, – напряженно произносит Ррони, облизывая губы. Он сидит лицом к костру, и мне хочется верить, что румянец на его щеках лишь от жара близкого пламени. – Прошло четыре дня. Если бы я заразился, лихорадка уже началась бы, верно? – В глазах его стоит живой ужас. – Верно?
Оба мы одеты в чистое – сменную одежду из седельных сумок. Стреноженные кони пасутся невдалеке. Мы сидим на валежнике у крошечного костерка. Мои волосы начинают отрастать – бесцветная щетина, от которой череп похож на наждачку. Голова Ррони еще блестит обожженной лысиной.
Губа Торронелла рассечена, на лице раздутый лиловый синяк моей работы. С тех пор, как Ррони очнулся, он все сильней сопротивлялся тому, чтобы открыть душу целительному уюту Слияния; за эти четыре дня мы больше беседовали вслух, чем за последние десять лет.
Я тоскую по Слиянию, тоскую по той близости, что мы разделяли с братом, и мечтаю бесплодно о том, чтобы воспользоваться им, но даже не упоминаю об этом. Не могу. Под ложечкой копится тошнотворная мука, подсказывая, что я не хочу на самом деле разделить те чувства, что скрывает Торронелл. Поэтому я только киваю неуверенно, полагаясь на то, что темнота и неровный свет костра скроют выражение моего лица.
– Да, четыре. Кажется. Я не уверен.
– Как ты можешь не быть уверен? – шипит Ррони.
Я же не могу включить монитор и посмотреть!
Но этого я не могу сказать – Ррони и так плохо.
У меня нет секретов от брата. Ррони знал правду двадцать пять лет назад, еще до моего принятия. О таком не упоминают при наших спутниках; мое истинное происхождение остается тщательно скрываемой тайной дома Митондионн. Все – или почти все, не исключая наших товарищей, – знают, что у меня есть своя тайна, но и не подозревают, в чем она заключается. Все полагают, что я мул, одно из редкостных и жалких созданий, что появляются на свет от насилия хумансов над перворожденной. Считается, что мое прозвание – Подменыш – лишь вежливый эвфемизм.
Истина куда страшнее.
Я должен принять ее. После всего, что случилось, отрицать прошлое или бежать от него уже невозможно. Я актир .
Не актер, нет; мои ощущения никогда не передавались на Землю, чтобы Студия могла распродать их зевакам. Но актир – безусловно, ибо я на Земле родился. Родился человеком. Внешность перворожденного мне придали в Консерватории на острове Наксос при помощи косметических операций.
Меня зовут Сорен Кристиан Хансен. Двадцать два года я жил человеком – достаточно долго, чтобы окончить Коллеж боевой тавматургии при Студии, достаточно долго, чтобы фримодом отправиться в Поднебесье, якобы для тренировки. А там я сбросил людскую оболочку, словно сухие ошметки лопнувшей куколки, и расправил эльфийские крыла.
В первые годы, прожитые под личиной Делианна, я едва мог вспомнить свое настоящее имя, не говоря о том, чтобы произнести вслух, но гипнотические барьеры, установленные Студией, со временем стираются, если их не подновлять. Уже не один десяток лет я имел право поведать о себе правду, но так и не собрался.
Я уже не уверен, в чем она заключается.
Я едва помню Сорена Кристиана Хансена: от него остались только воспоминания мальчишки, пытавшегося скрасить детство фантазиями о том, что он – незаконнорожденный сын Фрейи, владыка лиосальфар . Мальчишки, мечтавшего только об одном – стать перворожденным чародеем. Двадцать семь лет, более половины жизни, я пробыл Делианном Подменышем и почти двадцать пять – принцем Делианном Митондионном, приемным сыном Т’фаррелла Вороньего Крыла.
Моя людская родня давно считала меня мертвым и вряд ли оплакивала. У Хансенов были и другие сыновья, а в семье выдающихся бизнесменов, таких, как Хансены из «Фабрик Ильмаринен», Сорен Кристиан был не только сыном и братом, но и ценным товаром.
Я не тоскую по ним. Мне не нравилось быть человеком, тем паче бизнесменом. Я не способен обманываться ностальгическими иллюзиями, которые поманили бы меня обратно в тесный мирок узких людишек, привилегий и прибылей, в котором варилось мое бывшее семейство. Я оставил Землю позади, стряхнул, как страшный сон, и на полжизни отдался мечте. Я никогда не думал, что этот четвертьвековой давности ужас отыщет меня, протянет лапу и вырвет сердце.
Ррони, сердце мое… только не поступай так со мной. Только не умирай.
Торронелл после меня младший из наследников дома Митондионн. Родился он триста семьдесят три года тому назад, и, как считаю я, сорокадевятилетний, существо столь древнее не может просто так отдать концы. Господи боже, он родился в тот год, когда Дарвин отплыл в море на борту «Бигля», – как он может сейчас умереть?
– Я же говорю, – повторяю я, – я же не в школе это изучал. ВРИЧ уничтожили за сто лет до моего рождения.
– Предположительно, – ядовито добавляет Ррони.
Я киваю.
– Все, что я помню, это романы Чумных лет. Я их в детстве много читал. Романы – это как… как эпические поэмы. Ты можешь много знать о мятеже Джерета, но вряд ли прочтешь на память полный текст Завета Пиришанта.
Ррони отворачивается.
– Это людская история.
– Мне помнится, что инкубационный период ВРИЧ составляет примерно четыре дня. А может, и десять, или двадцать, или месяц. Не знаю. Романисты порой вольно обходятся с фактами – а это может быть вообще другой штамм. Вирусы мутируют… ну, меняют свойства, и признаки болезни, и результат. Говорят, так и образовался сам вирус РИЧ.
Эту тираду я повторял уже с десяток раз за последние четыре дня. Каждый раз я перечислял все, что мне известно о болезни, и все, чего мне неизвестно, с той же терпеливой, неспешной дотошностью. Скорбный ритуал каким-то образом помогал Ррони держаться, позволял поверить, что я мог попросту ошибиться. Иного утешения я не мог ему дать.
– Как я могу умереть от хуманской хвори? – снова и снова спрашивал Ррони. – Мы даже не одной породы!
У меня на это был только один ответ.
– Не знаю.
Все, что я могу сказать, – что бешенство, изначальная, природная форма ВРИЧ, – поражает всех млекопитающих. Если инфекция развилась, летальный исход неизбежен. Никаких процентов, никаких лекарств, никаких апелляций. ВРИЧ – хуже. Намного хуже: быстрее развивается и куда более заразен. ВРИЧ персистирует в окружающей среде, образуя в отсутствие теплокровного хозяина споры, сохраняющие активность на протяжении месяцев.
И передается он воздушно-капельным путем.
Мне остается лишь молиться, что я успел.
Перворожденный, которого я убил в той деревне, стоит у меня за плечом днем и ночью. Из головы не идет, как день за днем должна была развиваться в нем зараза. Сколько еще он прожил бы в муках? Несколько суток? Неделю? Более жуткую смерть трудно себе представить. Иногда, в моих снах, у мертвеца оказывается лицо Ррони.
А иногда лицо самого Короля Сумерек.
Помню, как стоял в очереди вместе с другими детьми бизнесменов. Мне было пять лет. Помню, как прижалось к бедру холодное дуло иньектора, и короткий болезненный укол – прививку. На глаза навернулись слезы, но я сморгнул их, не издав ни звука. Случай был торжественный, обряд перехода в касту; прививка была моим пропуском в мир, и я принял ее, как подобает бизнесмену. Никогда не думал, что сейчас, сорок лет спустя, от того короткого укола будет зависеть судьба мира.
– Так сколько еще нам ждать? – бормочет Ррони, вывязывая узлы из белых от натуги пальцев. – Когда мы решим, умру я или буду жить? Вот-вот вернутся с разведки остальные – должны были явиться еще к прошлому закату. И что тогда? Что мы скажем им? Как убережем их от заразы? – Он с жалобным видом кивает на лошадей: – Если я заражен, то даже Нюллу и Пасси придется уничтожить – как ты уничтожил деревню.
Ррони и его скакуны… он часто говаривал, что лошадь суть совершеннейшее выражение Т’налларанн: сильные, быстрые, верные, яростные защитники, верные сверх возможного. Сейчас его обращенный к ним взор отяжелел от предчувствия погибели.
– Любая живая тварь может принести заразу в наши поселки, наши города. Так что нам придется убивать, и убивать, и убивать, пока здешние земли не превратятся в пустыню, ибо твой ВРИЧ может распространиться через любое создание… кроме тебя, – с горечью заканчивает он.
Я не поднимаю глаз.
– Будем держаться версии о проклятье.
– Они поймут, что мы врем.
– Они это уже знают, – напоминаю я. – Но не догадаются, в чем правда.
За несколько суматошных минут после того, как я спалил деревню, мне удалось придумать весьма жалкое объяснение своих действий: я вообще никудышный лжец. Друзьям я крикнул издалека что-то про могучее проклятье, наложенное на деревню и сгубившее ее обитателей до единого, а затем перекинувшееся на нас с Ррони, стоило нам зайти туда. Я заявил, будто опасаюсь, что проклятие сможет коснуться их через магическое слияние Оболочек, и отказался от любого контакта – телесного или мысленного.
Я приказал остальным членам отряда двигаться на северо-восток, к горам, продолжая разведку. Помните наш наказ, говорил я, нет ничего важнее задачи, мы должны узнать, что случилось с Алмазным колодцем. А мы с Ррони останемся здесь, чтобы изучить действие проклятия и по возможности избавиться от него. Спорить никто не стал. История вышла неправдоподобная, но чего не бывает в жизни… кроме того, я их принц.
– Не нравится мне это, – бурчит Ррони. – Они наши друзья. Они имеют право знать правду.
Не поднимая глаз, я качаю головой. Посмотреть ему в лицо я не могу.
– Такого они не заслужили. Расскажи правду о ВРИЧ, и придется поведать, откуда нам все это известно. Придется объяснить, что меня зараза не берет. А как только откроется это, обо всем остальном забудут. Они смогут думать только о том, как мы их предали.
Ррони отворачивается. Согбенная спина почти заслоняет макушку голого обожженного черепа.
– Может, так и есть… – хрипло шепчет он.
Я гляжу в огонь. Ответить я не рискую, а глянуть в лицо брату боюсь.
– Это совершил твой народ, – продолжает Ррони. Слова вытекают из него, словно капли желчи – тягучие и горькие, словно вздувающийся пузырь ненависти выдавливает их.
– Ррони, не надо. Вы мой народ..
– Твой народ… сотворил этот ужас. Невежественные говорят, будто актири насилуют, и убивают, и оскверняют все, чего касаются, ради развлечения. Возможно, те, кто утверждает это, не столь невежественны, как можно подумать. Как иначе объяснить это? Зачем еще вы сотворили бы такое со мной?
Сердце мое стискивает боль – раз, другой.
– Ты правда так думаешь, Ррони? Ты думаешь, что я сотворил с тобой это?
Торронелл молча отворачивается от костра в ночь. Знает, что ответа я не снесу.
Много-много лет назад, когда я оказался от наследия своей касты и перспектив актерской карьеры, я любил напоминать себе, что совершил это из особенного духовного благородства, ибо не мог наживаться на чужих страданиях… я был очень молод.
Использование киборгов-работяг в тяжелой промышленности, на фабриках «Ильмаринен» я воспринимал как равнозначное, с точки зрения морали, кровавому насилию, которое чинили среди туземцев Поднебесья известные актеры, поскольку и то, и другое требовало до определенной степени воспринимать людей как предметы. «Фабрики Ильмаринен» использовали киборгов-сборщиков как легко заменяемых и так же легко программируемых роботов. Актеры, даже те, что подвизались в героических амплуа, вынуждены были культивировать равное пренебрежение к жителям Поднебесья, которых волей-неволей убивали и калечили в ходе своих Приключений. Основой успеха Студии был пополняемый расходный запас «злодеев».
По мере того, как шли годы и я лучше узнавал себя, я понял постепенно, что мое решение мало общего имело с моралью и еще меньше – с благородством. Все упиралось в дело вкуса.
Я ненавижу убивать. Мне невыносимо причинять кому-то боль или даже осознавать, что боль причиняют ради меня. Возможно, дело тут в моем даре – способности влезать в шкуру другого человека, и моя эмпатия достигла такой тонкости, что каждый удар я заранее ощущаю на себе. Причина, в конечном итоге, не так важна, как результат: я не был, не мог быть и не мог стать убийцей.
Перворожденные не молятся. У нас нет богов в людском понимании этого слова. Наши духовные порывы коренятся в неистребимом, неотделимом родстве со сплетенной паутиной судеб. Мы касаемся источника Силы и находим его в себе. Сквозь нас течет кровь мира, как пронизывают ее жилы все сущее. Мы не просим милостей от жизни – мы чувствуем в ее ходе.
Но родился я человеком и на грани отчаяния возвращаюсь к обычаям предков.
Когда гаснут угли походного костра, в глухой ночи я безнадежно умоляю Т’налларанн, чтобы мне не пришлось убивать своего брата.
8
Серебряные сумерки пахнут кровью.
Я покачиваюсь с пятки на носок, стоя на краю мертвой деревни. Длинные кудри цвета лунного луча легко колышутся за ушами. По мере того как Т’ффар склоняется к западу и меркнет свет дня, мои хирургически подстроенные глаза отзываются. Оседающие хрупкие скелеты кривых домишек выглядят яркими и выпуклыми, словно хромированная бритва.
Паршивая идея. Дурацкая.
Но я все же посылаю на частоте Слияния сдвоенные образы: моих товарищей, скрытых опушкой леса, и себя, осторожно вступающего в мертвый поселок: «Оставайтесь на месте. Я иду».
Слияние возвращает мне в основном эхо тревоги и недовольства со стороны Л’жанеллы, Кюлланни и Финналл, настолько сильное, что шарахаются кони, и уксусно-язвительную добавку братца Торронелла: мертвая мартышка с моей физиономией, гниющая на груде пропитанных маслом бревен: «Не жди, что я стану поджигать твой погребальный костер, когда человечья кровь сгубит тебя, обезьяныш».
Я криво усмехаюсь, отправляя в ответ образ Ррони, придерживающего коня за уздцы, покуда я вылетаю из деревни на манер ошпаренной кошки: «Будьте наготове. Возможно, выйду я куда быстрей, чем захожу».
Едва заметный ветерок тревожит лес, покачивая ветви над головой и заставляя зеленые Оболочки живых деревьев подрагивать, словно тени от факелов. Деревня кишит мелкими яркими Оболочками лесной живности – большая часть тает с исходом дня, перекрашиваясь в бурые оттенки сна. Мелкие птахи летят в гнезда под пологом леса. Земляные белки, полевки и прочая их родня зарывается поглубже в уютные норки, скрываясь от неслышно парящих сов, чья очередь пробуждаться уже пришла. Лес полон жизни… а деревня мертва.
В живой деревне перворожденных эти шалаши, кое-как сложенные из валежника, предстали бы для глаз и рук выращенными из живого дерева, натертыми благовониями, украшенными тончайшей филигранью из платины и червоного золота. В живой деревне плыл бы в воздухе аромат тушенных в масле грибов, пенистого пива, когда его разливают из дубовых бочонков, запах благоуханного дыма очагов, куда подкладывают ясень и омелу. В живой деревне даже тишина звенит от неслышного детского смеха.
В этой деревне тишину смел вороний грай над трупами.
В этой деревне пахнет падалью.
Паршивая идея, повторяю я себе. Дурацкая.
Но я принц, а это мой народ. Если не пойду я, сюда сунется Ррони. Хотя Торронелл в гораздо большей степени язвительный светский лев, нежели воитель, он тоже принц. Это моя работа. Я гораздо больше доверяю своим способностям пережить неожиданное. И, честно говоря, мне нечего терять по сравнению с ним.
Стоя на краю деревни, я упираю дужку обратного лука в башмак и, согнув его таким образом, надеваю тетиву. Из колчана на поясе вытягиваю стрелу с серебряным наконечником и прилаживаю на тетиву. Захожу в деревню – тихо, как растягиваются предзакатные тени. Кое-что удается мне не хуже, чем истинным перворожденным.
Шалаши жмутся к стволам лесных великанов, в чаще, чтобы тень гигантских крон сдерживала рост подлеска. Наши деревни открыты, как сам лес, и вся их защита – талант перворожденных создавать фантазмы. Я скольжу от дерева к дереву, ноздрями впитывая информацию, недоступную глазам – даже хирургически улучшенным; слишком глубокие тени лежат под грубыми крышами.
Из каждого окна сочатся миазмы гниющей крови.
За углом полуразваленной хибары сквозь просветы между рассевшимися жердями виднеется шумная куча черных крыльев и кривых клювов на хорошо вытоптанном пятачке. Я подхожу, протягивая вырост Оболочки, чтобы потревожить алые сполохи воронов, и те разлетаются – кто лениво встает на крыло, кто лишь отскакивает в сторону, не в силах оторваться от земли под тяжестью зобов, набитых плотью.
Вороны обсели тело малыша-фея, распластавшегося на земле, как сломанная кукла. Этот фей был совсем юн – шесть, может, семь лет – яркие краски его юбочки не выцвели еще на солнце. Чьи-то руки с любовью вывязывали эту юбочку, шнурок за шнурком, и с такой же любовью выбивали рисунок на широком кожаном ремне, вырезали деревянный меч и плели из гибких веток игрушечный лук, что валялся рядом.
Я приседаю рядом с телом, удерживая свой лук вместе со стрелой параллельно земле свободной левой рукой. Осторожно поворачивая голову малыша к последним лучам дневного света. В пустой глазнице, во рту и ноздрях шевелятся черви, но оставшийся глаз еще смотрит на меня с мертвого лица, как пыльный опал. Вороны исклевали только губы и язык; даже нежная плоть подбородка не тронута.
Сердце мое пускается в галоп. Судя по размеру червей, малыш мертв уже дня три; к этому времени вороны должны были ободрать его лицо до кости, добраться до легких и печени, разве что их отгонял другой стервятник, крупней – а на теле нет следов работы кого-то побольше птиц. Кто-то отгонял воронов.
В этой деревне есть живой.
«Убирайся оттуда!» – словами передает мне Кюлланни. Из четверых моих товарищей она лучшая охотница и прекрасно понимает, к чему здесь брошен детский трупик. Малыша оставили на улице нарочно – как наживку.
Ага. Меня тоже.
Я припадаю на колено и делаю вид, что все мое внимание занято разлагающимся трупом. Невдалеке, за спиной, слышатся тихие осторожные шаги и хриплое сдавленное дыхание.
«Подменыш, ну же, убирайся оттуда!» – присоединяются Л’жаннелла и Финналл, добавляя свои страхи к мольбам Кюлланни: образы смутной, чудовищной фигуры за моим плечом.
Я непроизвольно нагибаюсь над телом еще ниже. Ничего не могу с собой поделать – это инстинктивная реакция. Уменьшить площадь мишени.
«Оставьте его, – предлагает Торронелл, отправляя нам образ: мартышка с лицом Делианна старательно ковыряется в невозможно хитроумной головоломке. – Пусть наш обезъяныш поиграет. Иногда он даже знает, что делает».
Милосердные боги, хоть бы сейчас был такой случай!
Я аккуратно поворачиваю хрупкое тельце, но нигде не нахожу смертельной раны. Земля вокруг тела истоптана вороньими лапами, и следов на ней не найти. Руки малыша сведены предсмертной судорогой и до сих пор будто каменные, хотя трупное оцепенение давно уже сошло. Из расклеванного рта протекла, впитавшись в землю, слюна, оставив на щеке окаймленный запекшейся кровью след. Корка выглядит странно – будто фрактальный узор из пузырьков, точно засохшая мыльная пена.
Во рту у меня враз пересыхает, под ложечкой стягивается ледяной комок. Я внимательно вглядываюсь в засохшие пятна, сдерживая дыхание и проклиная сгущающиеся сумерки.
Твою мать.
Блин, блин, твою мать, господи, лишь бы я ошибся.
Это может быть все что угодно. Может. Может, мальчишка набрал полон рот сырых листьев рита – к примеру. Или жевал ради смеха мыльную кору, и тут его хватил удар.
Но поверить в это мне не удается. Детские страхи слишком крепко въедаются в подсознание, чтобы можно было ошибиться. Засохшая пена на лице, пальцы-когти – под ногти забилась грязь, когда он скреб землю в предсмертных корчах…
Будь тело хоть немного посвежей, я мог бы сказать точно. Черный язык, иссохший и растресканный, как солончак к концу лета. Железы на шее, вздутые так, что не повернуть головы.
Еще шаг слышен за спиной и еще. Я едва обращаю на них внимание, полностью поглощенный фантазиями: расколоть череп мальчишки, вырезать немного ткани из ствола мозга, соорудить какие-нибудь магические линзы для микроскопа, достаточно мощные, чтобы отыскать в нейронах тельца Негри…
Тихие шаги сливаются в отчаянный бросок, и сквозь Слияние до меня доносится вопль брата: «ДЕЛИАНН!»
Я откатываюсь вправо, упор на локоть позволяет мне перекатиться через плечо, пропустив неловкого противника мимо, так, что лук в левой руке не касается земли. Я притягиваю оперение к груди и отпускаю, не целясь, позволяя телу действовать без вмешательства рассудка.
Серебряный наконечник пробивает ребра моложавого крепкого фея. Тот оборачивается ко мне, рыча, царапая древко, точно раненая пума. Стрела ломается, и обломок древка глубоко царапает ему руку. «Убийца, – хрипит он сдавленно. – Убийца!» И бросается на меня безоружный, широко расставив руки. Пальцы его сведены судорогой и похожи на когти.
Бросив лук, я снова проскальзываю под его рукой и выхватываю из ножен на левом бедре рапиру. Обнаженный клинок звенит серебряным колокольчиком. Безумец бросается на меня снова, и я делаю выпад, пробивая острием его бедро чуть выше колена, чтобы бритвенно-острое лезвие рассекло подколенную жилу.
Нога подкашивается, и мой противник неловко падает на бок, извиваясь, бессловесно рыча и царапая землю когтями, подтягиваясь ко мне волосок за волоском.
«Может, он не один, – доходит до меня образ Ррони. – Я иду».
«НЕТ! – реву я так, что Слияние доносит до меня эхо ошеломления и боли всех четверых спутников. – СТОЙ НА МЕСТЕ!»
«Не кричи на меня, обезьяний детеныш. Громкий голос не дарит вечной жизни. Тебе нужен помощник».
Как я ему объясню?
«Ррони, честью нашего дома клянусь, что ты не должен идти сюда. Только войди в эту деревню – и ты покойник. Поверь мне».
«Это дело людской крови, братик?»
«Э-э, да, верно…»
Я с трудом выдавливаю из себя слова. В Слиянии ложь трудно передать и вовсе невозможно – скрыть. Едкая оранжевая вспышка, которой мои друзья встречают неловкое вранье, колет мое сердце, точно шип.
«Прошу тебя, Ррони. Теперь я тебя прошу. Не подходи».
«Я здесь старший, Делианн. Я должен был рисковать первым». Кажется, у нас неприятности. Ррони зовет меня по имени, только когда слишком встревожен, чтобы сыпать оскорблениями, а уж сколько лет он не пытался давить старшинством – не упомню. «Или выходи сам, или я тебя оттуда вытащу».
«Не надо. Только не надо».
Диалог занимает не больше секунды. Я сажусь на корточки на пути раненого фея и протягиваю к нему свою Оболочку. Его аура, алая с искрящимися лиловыми прожилками, бьется вокруг тела, словно холодное пламя. По мере того как я осторожно подстраиваю собственную Оболочку под этот кровавый оттенок с фиолетовыми молниями, чувство Слияния понемногу покидает меня. Впервые с тех пор, как мы пятеро покинули Митондионн, я остаюсь совершенно один.
Когда наши Оболочки полностью гармонизируются, я открываюсь течению Силы и, пока энергия окружающего нас леса льется в мой мозг, осторожно перехватываю управление мышцами поверженного, заставляя его замереть.
Он сопротивляется, но как мог бы сопротивляться человек или зверь, противопоставляя мысленной хватке силу воли; отказываясь поверить, что члены не повинуются ему, он подпитывает себя гневом. Я не самый опытный мыслеборец – любой из моих братьев меня одолеет, но силой со мной мериться не советую. Братья любят шутить, что я изящен, как лавина, но, как и лавину, грубой силой меня не одолеть.
Я пользуюсь им, точно марионеткой, заставляя собственные мускулы раненого перевернуть тело и запрокинуть голову, чтобы лучше было видно его лицо.
Вокруг глаз застыли отечные, иссиня-черные мешки; по краешкам век засохла желтоватая корка, налипнув на ресницы и щеки. На иссеченных трещинками черных губах стынет розовая, алыми жилками пронизанная пена, и язык тоже черный, рассохшийся до того, что из него сочится густая, желеобразная кровь. Железы под челюстью раздуло настолько, что кожа натянута, будто на барабане.
Зародившаяся при первом взгляде на мертвого ребенка холодная тошнота под ложечкой смерзается в айсберг.
Вообще-то такого не может быть.
Я пытаюсь выдавить «Блин, ой, блин, господи, блин…», но горло стискивает так, что даже шепотка не выцедить.
Т’ффар уходит за горизонт, и розовый свет заката сменяется леском встающей над восточными горами Т’ллан. Поднявшись на ноги, я подхожу к беспомощно распростертому у моих ног фею, глядя, как темнеет на глазах его кровь. Поднимаю тонкий клинок – лунное серебро струится по нему, будто вода, – представляя, как медленно, с влажным хрустом он вонзается в живот лежащему, ищет острием трепещущее сердце, чтобы пронзить его, чтобы высосать жизнь из безумных глаз.
Другого лекарства я не могу ему предложить.
Я не родился принцем перворожденных. Я мог отказаться от этой чести и долга. Даже в тот день, когда Т’фаррелл Воронье Крыло прочел слово усыновления перед собравшимся родом Митондионнов, я осознавал, что от меня потребуется когда-нибудь исполнить обязанность, сходную с нынешней.
Я сам выбрал эту судьбу. Отказываться поздно.
Опускаю посеребреный луною клинок, покуда острие не упрется под ложечку бессильному фею. Сквозь наши слившиеся, сродненные Оболочки пробиваются импульсы чего-то более глубокого и интимного, чем просто физический контакт. Он закатывает глаза, и наши взгляды встречаются. Я вхожу в него.
На долю мгновения я становлюсь раненым феем…
Недвижно лежащим на стынущей земле, заключенным в непослушном теле, когда при каждом вздохе сломанное крыло царапает пробившую легкое стрелу с мерзким «скррт !», а под раненой ногой натекает теплая лужа крови. Но это все мелочи, не стоящие упоминания, по сравнению с болью в распухшем горле.
Какая-то сволочь загнала мне в глотку горящее бревно и теперь тычет им в такт неровному биению сердца, пытаясь вколотить поглубже. Меня терзает жажда, мучительное стремление впитать хоть каплю влаги, причиняющее даже больше страданий, чем битое стекло во рту. Четыре ночи подряд я вижу во сне только воду – чистые, прозрачные лесные родники, способные утишить боль во рту и потушить пламя лихорадки. Тело снедает жар, лицо горит во внутреннем огне, превращая губы в кровавые угли, язык – в почернелую шкуру, застывшую в очаге рта. Вода – единственное мое спасение. Но даже утренняя роса, которую я выжимал из наросшего на деревьях за шалашом мха, жгла горло кислотой. Два дня прошло с той поры, как я последний раз заставил себя сделать глоток.
Вхождение длится едва ли миг, но меня начинает трясти. На лбу выступает липкий пот. Могло быть хуже – я мог полностью провалиться в чужое прошлое, пережив нервную гиперчувствительность, когда легчайший шепоток долотом пробивает барабанные перепонки, когда самая тусклая лучина ножом режет зрачки, и нестерпимый зуд, и неутолимый голод, и приступы неукротимой рвоты, и нарастающую убийственную паранойю, которая превращает жену, детей, даже родителей в глумливых кровожадных чудищ…
Все эти симптомы я знаю наизусть. Черными тенями они стоят на краю рассудка, принюхиваясь, выжидая, когда реальность совпадет с ними…
Сегодня я благодарен своей способности заглядывать в души. Она облегчает мой долг: он становится милосердием.
Придерживая фея, я всем весом налегаю на клинок. Острие вонзается в живот с явственным сопротивлением, подрагивая от мышечных спазмов, и ползет вверх, покуда клинок не находит сердце и не рассекает его насквозь, царапая кончиком позвонки.
И все равно фей умирает добрую минуту. Его разодранное сердце судорожно перекачивает кровь во вспоротую брюшную полость, а он еще жив и в сознании, смотрит на меня безумными, голодными глазами, пока тело его умирает по частями, пока кровь перестает притекать вначале к конечностям, потом – к кишкам и торсу, поддерживая пламень последней искры сознания.
Я вижу, как она, померцав, гаснет.
Вытерев рапиру, я не сую ее в ножны, как обычно, а вгоняю острием в выступивший из земли корень, и она покачивается маятником, поблескивая в лунном свете. Выдергиваю из трупа сломанную стрелу и поступаю с ней так же.
Я неторопливо распутываю перевязь из кожаных шнурков, поддерживающую мои ножны и колчан, снимаю, вешаю на эфес рапиры. Затем приходит очередь рубахи и штанов, и чулок, и башмаков. Все это я складываю на узловатом широком корне рядом с рапирой и сломанной стрелой. Подбираю с земли отброшенный в сторону лук и с торжественной, церемонной бережностью возлагаю сверху.
– Да что ты такое творишь ?! – В голосе Ррони слышится хрипотца – мы уже много дней не разговаривали вслух, – и привычная насмешка подозрительно испарилась. – Делианн, облачись! Или ты вовсе обезумел?
Он стоит за моей спиной; я оборачиваюсь и смотрю ему в глаза. Брат мой, мой лучший друг. Ррони стоит над детским трупиком; тонкие его черты корежат омерзение и ужас, и целую вечность – одно биение сердца – я могу только смотреть на него, не двигаясь, не моргая, не дыша. Все мое существо захвачено единственной мучительной мечтой – чтобы мой брат родился трусом.
Трус никогда не зашел бы в эту деревню. Трус не оставил бы Митондионн, чтобы отправиться в опасный бессмысленный поход на пару с полубезумным, полным людской скверны братом.
Трус выжил бы.
Я возвращаюсь в себя, будто ужимаясь – словно мир съежился за миг и я должен в нем поместиться.
– Что ты натворил здесь? Делианн, да ответь же! Что с тобой сотворили?
Я не могу уложить этого в голове – пока.
Скорее всего, Ррони уже мертв.
Он делает шаг, протянув ко мне вырост Оболочки, меняющий цвета в попытках подстроиться под меня и сковать. В тот миг, когда оттенок ее отходит от пламенной зелени Слияния, я выдергиваю из дерева рапиру и бросаюсь вперед. Одно из преимуществ моей смертной крови – Сила, с которой не сравниться ни одному из перворожденных. Когда эфес рапиры врезается Ррони в висок, тот падает как подкошенный.
Я стою над ним, задыхаясь, и мучительная боль жжет мне грудь.
Вонзив рапиру обратно, я опускаюсь на колени и проворно раздеваю брата. Одежду его я укладываю поверх собственной, башмаки ставлю рядом. Нагой, босой, безоружный, я обхожу деревню по околице, собирая Силу в фантоме, который стоит перед моим внутренним взором ясно, будто во сне. Земля за моей спиной горит.
Не находя ответов в Слиянии, мои друзья в лесу тревожно окликают меня, когда первые струйки дыма касаются их. Я касаюсь их мыслей единственным кратким: «Терпение».
Я возвращаюсь к центру деревни. Огонь льнет к моим ногам, будто верный щенок. Встав рядом с узловатым корнем, я поднимаю на руки своего брата и обращаю лицо к бесстрастным звездам.
Вокруг меня в языках пламени танцует смерть моего народа. Но я клянусь – Т’налларанн, Дух жизни, слышишь?! – я клянусь, что не дам ей пройти.
Одним неслышным зовом я окутываю очистительным огнем нас обоих. Пламень с громом обрушивается в лес, словно обломок солнца, и к небесам вздымается ядовитой поганкой дым. Землю вокруг нас усеивают ведьмовским кольцом тлеющие во тьме, словно мириады глаз, угли.