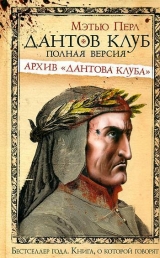
Текст книги "Дантов клуб. Полная версия: Архив «Дантова клуба»"
Автор книги: Мэтью Перл
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
III
На заседаниях Дантова клуба хозяин первым делом зачитывал корректуру, внесенную им с минувшей недели.
– Отличное решение, мой дорогой Лонгфелло, – воскликнул Холмс. Он радовался, когда одобрялась хотя бы одна из предложенных им поправок – с прошлой же среды в финальную корректуру Лонгфелло таковых вошло целых две. Холмс переключил внимание на песни, отобранные к нынешнему вечеру. Он готовился с особым тщанием, ибо нынче ему предстояло убеждать друзей в своем намерении защищать Данте.
– В седьмом круге, – говорил Лонгфелло, – Данте рассказывает, как они с Вергилием попали в черный лес. В каждую область Ада Данте вступает вслед за своим почитаемым проводником, римским поэтом Вергилием. По пути он узнает судьбу грешников и выделяет из всякой группы одного либо двух, дабы те обратились к миру живых.
– Этот утерянный лес рано или поздно становится личным кошмаром для всякого читателя Данте, – сказал Лоуэлл. – Поэт пишет подобно Рембрандту, погружая кисть в темноту, светом же ему служат отблески адского пламени.
У Лоуэлла, как обычно, всякая строка Данте была на кончике языка: он жил в поэме – и духовно, и телесно. Холмс едва ли не впервые в жизни завидовал чужому таланту.
Лонгфелло читал перевод. Голос его звенел глубиной и правдой без капли резкости и был подобен журчанию воды под свежим снегом. Видимо, он частично убаюкал Джорджа Вашингтона Грина, ибо сей ученый муж, что столь уютно расположился в обширном угловом кресле, все более погружался в сон, навеянный мягкими интонациями поэта и мирным теплом очага. Маленький терьер Трэп, растянув свой пухлый живот под креслом Грина, также задремал; их совместный храп сливался в ворчание басов Бетховенской симфонии.
В следующей песни Данте очутился в Лесу Самоубийц, тени грешников обратились там в деревья, истекавшие вместо сока кровью. После их настигают иные кары: жестокие гарпии с головами женщин и телами птиц, с когтистыми лапами и раздутыми животами, пробираясь сквозь ветви, клюют и терзают всякое дерево, что встает у них на пути. Но не одно лишь великое страдание несут деревьям раны и изломы, в них – возможность выразить боль, поведать Данте свою историю.
– Кровь и слова должны идти рука об руку, – заключил Лонгфелло.
После двух песней воздаяния, наблюдателем коего стал Данте, книги были отмечены закладками и сложены, бумаги перемешаны, а восхваления произнесены. Лонгфелло объявил:
– Урок окончен, джентльмены. Сейчас всего лишь половина десятого, и после работы нам потребно подкрепиться.
– Знаете, – сказал Холмс, – пару дней тому назад наши Дантовы труды представились мне в ином свете.
Постучал Питер, чернокожий слуга Лонгфелло, и неуверенным шепотом сообщил о чем-то Лоуэллу.
– Хочет видеть меня? – прерывая Холмса, изумился тот. – Кто станет искать меня здесь? – Питер, запинаясь, пробормотал что-то невнятное, и Лоуэлл загремел на весь дом: – Во имя небес, кому вздумалось явиться сюда в вечер заседания клуба?
Питер склонился еще ниже:
– Миста Лоуэлл, они говорят, они полицейские.
Войдя в прихожую, патрульный Николас Рей потоптался, отряхивая с башмаков свежий снег, и застыл перед целой армией скульптурных и живописных Джорджей Вашингтонов. В первые дни американской революции этот дом служил Вашингтону штаб-квартирой.
Питер с сомнением вздернул подбородок, когда Рей показал ему свою бляху. Гостю было сказано, что в среду вечером беспокоить мистера Лонгфелло никак не возможно, и будь ты хоть сто раз полицейским, придется ждать в гостиной. Комната, куда препроводили Рея, была облечена неосязаемой легкостью – обои в цветочек, готические карнизы с желудями, занавеси. В нише под охраной каминной доски стоял женский бюст розового мрамора: над мягко высеченным лицом вились нежные каменные кудри.
В гостиную вошли двое мужчин, и Рей поднялся. Первый обладал струящейся бородой и тем достоинством, что заставляет человека смотреться выше, хотя росту он был вполне среднего; спутник его выглядел крепко, уверенно и покачивал моржовыми усами так, будто они желали быть представлены прежде хозяина. То был Джеймс Рассел Лоуэлл – он изумленно и весьма надолго застыл на месте, а после ринулся вперед.
И рассмеялся с самодовольством человека, знавшего о чем-то заранее.
– Подумать только, Лонгфелло, я совсем недавно читал в газете освободившихся рабов про этого парня! Герой негритянского полка, пятьдесят четвертого, Эндрю назначил его в департамент полиции за пару дней до убийства президента Линкольна. Какая честь познакомиться с вами, мой друг!
– Пятьдесят пятого полка, профессор Лоуэлл, они схожи. Благодарю вас, – сказал Рей. – Профессор Лонгфелло, прошу меня простить, что отвлек вас от вашего общества.
– Мы как раз завершили серьезную часть, офицер, – с улыбкой ответил Лонгфелло. – Мистера вполне достаточно. – Из-за серебряных волос и ниспадающей бороды он походил на патриарха гораздо старше своих пятидесяти восьми лет. Глаза же оставались голубыми и юными. На Лонгфелло был безупречный сюртук с позолоченными пуговицами и облегавший фигуру жилет цвета воловьей кожи. – Я уже много лет как снял мантию, уступив место профессору Лоуэллу.
– Который так и не привык к этому дурацкому титулу, – пробормотал Лоуэлл.
Рей обернулся:
– Я зашел к вам в дом, и юная леди любезно направила меня сюда. Сказала, что в среду вечером вы и на выстрел не приблизитесь ко всякому иному месту.
– О, это, должно быть, моя Мэйбл! – рассмеялся Лоуэлл. – Надеюсь, она не выставила вас за дверь?
Патрульный улыбнулся.
– Очаровательнейшая юная леди, сэр. Меня прислали к вам, профессор, из Университетского Холла.
Лоуэлл ошеломленно застыл.
– Что? – прошипел он. Затем взорвался – щеки и уши полыхнули горячим бургундским, голос прожег горло. – Они послали ко мне офицера полиции! На каком основании? Эти люди способны лишь дергать за нитки марионеток из Городского Управления, а изложить свое мнение самостоятельно им не под силу! Я требую объяснений, сэр!
Рей хранил невозмутимость, подобно мраморному бюсту жены Лонгфелло. Поэт обвил ладонью руку своего друга:
– Видите ли, офицер, профессор Лоуэлл совместно с некоторыми нашими коллегами любезно помогает мне в одном литературном начинании, кое, однако, не встречает одобрения в правлении Колледжа. Потому-то и…
– Мои извинения, – сказал полицейский, задерживая взгляд на предыдущем ораторе, с чьего лица сошла краска столь же внезапно, сколь и появилась. – Я упомянул Университетский Холл, ничего не имея в виду. Я разыскиваю эксперта в языках, и студенты назвали мне ваше имя.
– В таком случае, офицер, моиизвинения, – произнес Лоуэлл. – Однако вам повезло, раз вы меня нашли. Я говорю на шести языках, подобно уроженцу… Кембриджа. – Поэт засмеялся и разложил протянутую Реем бумагу на инкрустированном столе розового дерева. Затем стал водить пальцем поперек небрежных наклонных букв. Рей увидал, как высокий лоб Лоуэлла собрался морщинами.
– Эти слова мне сообщил некий джентльмен. Что бы ни выражали они, говорил он очень тихо и весьма нежданно. Я смог лишь заключить, что сие – необычный иноземный язык.
– Когда это было? – спросил Лоуэлл.
– Недели три тому назад. Весьма странное и нежданное происшествие. – Рей прикрыл глаза. Он вспомнил, как тот человек сжимал ему голову. Он слышал эти слова совершенно явственно, однако произнести вслух ему не доставало воли. – Боюсь, моя транскрипция достаточно приблизительна, профессор.
– Чепуха какая-то! – Лоуэлл передал бумагу Лонгфелло. – Сомнительно, чтобы в этих иероглифах можно было что-либо разобрать. Почему бы вам попросту не спросить того человека, что он имел в виду? Или хотя бы – какой избрал язык?
Рей не решился ответить. Лонгфелло сказал:
– Офицер, у меня в кабинете заперты голодные филологи, чью мудрость можно подкупить лишь макаронами и устрицами. Не будете ли вы так любезны оставить нам эту бумагу?
– С радостью, мистер Лонгфелло, – сказал Рей. Он внимательно оглядел поэтов, а после добавил: – Должен вас просить не упоминать никому о моем визите. Он соотносится с неким щекотливым полицейским расследованием.
Лоуэлл скептически поднял брови.
– Конечно, – заверил его Лонгфелло и склонил голову, точно желая сказать, что подобное доверие в Крейги-Хаусе подразумевается само собою.
– Только не пускайте сегодня к ужину этого доброго Церберова крестника, мой дорогой Лонгфелло! – Филдс заправил салфетку за воротник рубашки. Они расселись по местам вокруг обеденного стола. Трэп протестующе заскулил.
– Как можно, Филдс, он же настоящий друг поэтов, – возразил Лонгфелло.
– Ага! Жаль, вас не было здесь в минувшую среду, мистер Грин, – не унимался Филдс. – Пока вы отлеживались в постели, а мы разбирались в кабинете с одиннадцатой песнью, этот настоящий друг поэтов великолепно разобрался с оставленной на столе куропаткой!
– Таковы его воззрения на «Божественную комедию», – с улыбкой произнес Лонгфелло.
– Странная история, – с рассеянным интересом заметил Холмс. – Я про то, что рассказал полицейский. – В теплом свете канделябра он некоторое время изучал оставленную Реем записку, затем перевернул ее и передал дальше.
Лоуэлл кивнул.
– Напоминает Нимрода: [21]21
Вавилонский царь, во время правления которого произошла неприятность с Вавилонской башней.
[Закрыть]что бы ни услыхал наш офицер Рей, для него это прозвучало младенческим лепетом мира.
– Я бы предположил, что это жалкая попытка итальянского. – Джордж Вашингтон Грин сконфуженно пожал плечами, затем глубоко вздохнул и передал записку Филдсу.
И вновь сосредоточился на еде. Всякий раз, когда, отложив книги, Дантов клуб отдавался застольной беседе, историк погружался в себя – ему было не под силу соперничать в яркости с вращавшимися вокруг Лонгфелло звездами. Жизнь Грина складывалась из кое-как подогнанных друг к другу малых посулов и великих провалов. Как публичный лектор он никогда не был достаточно силен, дабы удержать профессорский титул, на посту же священника так и не дослужился до собственного прихода (его лекции, говорили очернители, своей чопорностью напоминают проповеди, в проповедях же он чересчур увлекается историей). Сочувствуя старому другу, Лонгфелло всегда посылал на тот конец стола лучшую порцию любимого, по его разумению, стариковского кушанья.
– Патрульный Рей, – с восхищением произнес Лоуэлл. – Образцовый человек, вы согласны, Лонгфелло? Солдат великой войны и первый цветной полицейский. Увы, наш профессорский удел – стоять у причала и смотреть на тех немногих, кто уплывает вместе с пароходом.
– Однако благодаря нашим интеллектуальным упражнениям мы будем дольше жить, – возразил Холмс. – Ежели верить статье из последнего «Атлантика», ученость положительно влияет на долголетие. Кстати, поздравляю с очередным прекрасным выпуском, мой дорогой Филдс.
– Да-да, я также видел! Отличный матерьял. Весьма недурно для столь юного автора, Филдс, – заметил Лоуэлл.
– Гм-м… – Филдс усмехнулся. – Скоро я буду принужден консультироваться с вами, прежде чем позволять своим авторам касаться пером бумаги. Легко же разделалось «Ревью» с нашей «Жизнью Персиваля». [22]22
Книга Джулиуса Уорда «Жизнь и письма Джеймса Гейтса Персиваля» в действительности была выпущена издательством «Тикнор и Филдс» в 1866 г.
[Закрыть]Посторонний читатель, должно быть, весьма удивлен – как же это вы проявили ко мне столь мало почтения!
– Полноте, Филдс, на эту чушь и дуть не следует, сама рассыпается, – отвечал Лоуэлл. – Вам лучше знать, надо ли было публиковать книгу, коя мало того что ничтожна сама по себе, так еще преграждает путь куда более достойным работам на тот же предмет.
– Я спрашиваю присутствующих, верно ли поступил Лоуэлл, напав в моемпериодическом издании «Норт-Американ Ревью» на книгу, выпущенную моимже издательством!
– В свой черед я спрошу, – парировал Лоуэлл, – читал ли кто-либо эту книгу и согласен ли он опровергнуть мое заключение.
– От имени присутствующих я бы рискнул ответить «нет», – заявил Филдс, – ибо уверяю вас, с того дня как вышла статья Лоуэлла, не было продано более ни единой книги!
Холмс постучал вилкой по стакану.
– Настоящим обвиняю Лоуэлла в убийстве, ибо он безвозвратно уничтожил «Жизнь».
Все засмеялись.
– Она умерла, не родившись, судья Холмс, – отвечал подсудимый, – я всего лишь заколотил гроб!
– Скажите… – Грин как бы между прочим решил вернуться к излюбленной теме. – Кто-либо обратил внимание, как выпали в этом году Дантовы числа?
– Они точно сходятся с 1300 годом, – кивнул Лонгфелло. – И тогда, и теперь Страстная пятница выпадает на двадцать пятое марта.
– Великолепно! – воскликнул Лоуэлл. – Пятьсот шестьдесят лет назад Данте снизошел в citta dolente,город скорби. Путь это будет год Данте! Добрый знак для перевода. – Затем он спросил с ребячливой улыбкой: – Или недобрый? – Собственные слова напомнили ему об упорстве Гарвардской Корпорации, и улыбка поникла.
Лонгфелло сказал:
– Завтра я возьму наши последние песни «Inferno»и снизойду в преисподнюю типографии – к Malebranche [23]23
В «Божественной Комедии» Данте так зовутся демоны, охраняющие рвы восьмого круга Ада.
[Закрыть]из «Риверсайд-Пресс»; мы подтягиваемся к финалу. В конце года я пообещал прислать Флорентийскому Комитету частное издание «Inferno»,дабы внести скромный вклад в поминовение шестисотой годовщины рождения Данте.
– Знаете, мои дорогие друзья, – хмуро проговорил Лоуэлл, – проклятые гарвардские остолопы все не угомонятся – довели себя до белого каления от страсти закрыть мой Дантов курс.
– Плюс к тому Огастес Маннинг предупредил меня о последствиях публикации, – вставил Филдс, расстроено барабаня по столу пальцами.
– Отчего они решили зайти так далеко? – с тревогой спросил Грин.
– Не мытьем так катаньем они жаждут отодвинуться от Данте как можно далее, – мягко объяснил Лонгфелло. – Они боятся его влияния, он чужак – и католик, мой дорогой Грин.
Холмс принялся на ходу изобретать объяснение:
– Полагаю, некоторым образом можно понять, отчего они подобным образом отнеслись к Данте. Скольким отцам, дабы навестить своих сыновей, пришлось в этом июне отправиться на Гору Оберн вместо выпускной церемонии? Скольким иным не потребен более ад, ибо все мы совсем недавно из него воротились?
Лоуэлл налил себе уже третий или четвертый бокал красного фалернского. Филдс с противоположного конца стола успокаивающими взглядами тщетно пытался привести поэта в чувство. Наконец Лоуэлл воскликнул:
– Начав однажды бросать книги в огонь, они отправят нас в такую преисподнюю, из коей мы нескоро выберемся, мой дорогой Холмс!
– Ох, не нужно думать, будто я сплю и вижу, как бы надеть на американские мозги плащ, чтоб они, не дай Бог, не промокли под дождем адских вопросов, мой дорогой Лоуэлл. Но возможно ведь… – Холмс колебался. Минута была подходящей. Он обернулся к Лонгфелло: – Возможно ведь представить менее амбициозный способ публикации, мой дорогой Лонгфелло, – сперва частное издание тиражом в несколько дюжин, кои наши друзья и коллеги, несомненно, оценят, увидят всю силу поэмы, а уж после распространять ее среди публики.
Лоуэлл едва не подпрыгнул в кресле:
– Доктор Маннинг вам что-либо говорил? Доктор Маннинг посылал к вам кого-либо с угрозой, Холмс?
– Лоуэлл, прошу вас. – Филдс дипломатично улыбнулся. – Маннинг и близко не появится подле Холмса, да еще с подобными вещами.
– Что? – Холмс притворился, будто не разобрал последней реплики. Лоуэлл по-прежнему ждал от него ответа. – Разумеется, нет, Лоуэлл. Маннинг из тех грибов, что произрастают во всяком из старейших университетов. Однако мне видится, нам ни к чему разжигать новые конфликты. Я лишь пытаюсь отвлечь вас от столь лелеемого нами Данте. Речь о войне, а не о поэзии. Слишком часто врачи стремятся затолкать в горло больным как можно больше лекарств. Нам потребно судить с благоразумием даже самые добрые наши порывы и к литературным продвижениям относиться с осторожностью.
– Чем больше союзников, тем лучше, – сказал Филдс. обращаясь ко всем сразу.
– Но нельзя же ходить вокруг тиранов на цыпочках! – объявил Лоуэлл.
– Но нельзя и сражаться впятером против всего мира, – дополнил Холмс. Он с волнением отметил, что мысль о задержке пришлась Филдсу по душе, а значит, Холмс завершит свой роман до того, как нация прослышит о Данте.
– Я устрою самосожжение, – вскричал Лоуэлл. – Нет, я раньше соглашусь час просидеть взаперти вместе со всей Гарвардской Корпорацией, нежели позволю отсрочить публикацию перевода.
– Разумеется, мы не станем менять наших планов, – сказал Филдс. Паруса, на которых уже собрался лететь Холмс, тут же поникли. – Однако Холмс прав, мы напрасно несем это бремя сами, – продолжал издатель. – Настоятельно необходимо найти поддержку. Я постараюсь призвать старого профессора Тикнора, дабы он пустил в дело остатки своего влияния. И, возможно, мистера Эмерсона [24]24
Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский просветитель, поэт и эссеист, основоположник новоанглийского трансцендентализма. Призывал американцев развивать интеллектуальную независимость от Европы.
[Закрыть]– не зря же он прочел Данте много лет назад. Никто на свете не предскажет заранее, возможно ли будет продать пять тысяч книг. Но ежели проданы первые пять тысяч, следующие двадцать пять разойдутся уже с более чем абсолютной уверенностью.
– Они надумали уволить вас с преподавательской должности, мистер Лоуэлл? – перебил Грин, все еще поглощенный мыслями о Гарвардской Корпорации.
– Джейми для этого – чересчур известный поэт, – возразил Филдс.
– Мне наплевать, что они сделают со мной, наплевать на все их уважение! Я не отдам филистерам Данте!
– Так же как любой из нас! – быстро подхватил Холмс. К его удивлению, победа досталась ему; более того, все убедились не только в его правоте, но и в том, что он может защитить друзей от Данте, а Данте – от излишнего рвения друзей. Его последнее восклицание снискало за столом одобрительные отклики.
– Верно, верно, – а также: – Именно! Именно! – раздавалось со всех сторон, и голос Лоуэлла звучал громче прочих.
Поглядев на остатки наколотого на вилку фаршированного помидора, Грин склонился, намереваясь разделить это богатство с Трэпом. Из-под стола он заметил, что Лонгфелло встал.
И хотя в надежном и уютном Крейги-Хаусе собралась всего лишь пятерка друзей, та радостная торжественность, с которой Лонгфелло вознамерился произнести тост, погрузила столовую в полную тишину.
– За здоровье присутствующих.
Вот и все, что он сказал. Однако по громогласности прокатившегося «ура» можно было решить, будто провозглашается новая Декларация Независимости. Потом настал черед вишневого пирога и мороженого, коньяка с горящими сахарными кубиками и сигар, что освобождались от оберток и прикуривались от расставленных в середине стола свечей.
Прежде чем вечер подошел к концу, Филдс уговорил Лонгфелло рассказать гостям историю этих сигар. Дабы вынудить поэта говорить о себе, потребны были уловки, и лучше прочих в дело шел какой-либо посторонний предмет, к примеру – те же сигары.
– Я зашел по делам на Угол, – начал Лонгфелло, и Филдс уже заранее рассмеялся, – а там мистер Филдс уговорил меня заглянуть с ним в табачную лавку по соседству: ему был потребен для кого-то подарок. Табачник вынес коробку сигар особого сорта – клянусь, я о таких и не слыхивал. А после и говорит с честнейшим видом: «Эти сигары, сэр, предпочитает курить Лонгфелло».
– И что ж вы ему ответили? – сквозь всеобщее ликование поинтересовался Грин.
– Поглядел на табачника, поглядел на сигары, ну и говорю: «Что ж, надо попробовать», – заплатил и велел прислать всю коробку.
– И как они вам теперь, мой дорогой Лонгфелло? – У Лоуэлла в горле застрял от смеха десерт.
Лонгфелло вздохнул:
– Что делать, табачник был прав. Они весьма хороши.
* * *
– «Все к лучшему, придется вооружиться предусмотрительностью, и, раз уж меня изгоняют из самого дорогого для меня места, я стану…» – недовольно бубнил студент, водя пальцем по итальянскому тексту.
Вот уже который год кабинет Лоуэлла в Элмвуде служил ему классной комнатой для уроков Данте. В свой первый семестр, едва вступив в должность Смитовского профессора, Лоуэлл потребовал у администрации помещение, но получил лишь унылую конуру в подвале Университетского Холла: столами и профессорской кафедрой там служили длинные деревянные доски, оставшиеся, должно быть, еще от пуритан. Курс его недостаточно заполнен, было сказано Лоуэллу, дабы претендовать на ту классную комнату, которая была бы ему желанна. Значит, так тому и быть. В собственной резиденции в распоряжении профессора была трубка, дровяной камин и лишний повод не покидать дом.
Студенты собирались дважды в неделю, дни назначал Лоуэлл – порой то были воскресенья, и профессору нравилось думать, что они встречаются в тот же день недели, в каковой Боккаччо несколько веков назад проводил во Флоренции свои первые лекции, посвященные Данте. В соседней комнате, соединенной с кабинетом двумя арочными проемами, часто сидела, слушая отца, Мэйбл Лоуэлл.
– Вспомните, Мид, – проговорил профессор Лоуэлл, когда студент умолк, состроив кислую мину. – Вспомните, как в пятом небе рая, в небе мучеников, Каччагвида предсказала Данте, что вскоре после возвращения в мир живых поэт будет изгнан из Флоренции – под угрозой смерти на костре ему запретят даже приближаться к городским вратам. А теперь, Мид, зная об этом, переведите следующую фразу: «Io non perdessi li altri per miei carmi».
По-итальянски Лоуэлл говорил бегло и технически безупречно. Однако Мид, гарвардский третьекурсник, предпочитал думать, что американский акцент профессора проявляется в слишком тщательном выговаривании слогов – будто те никак друг с другом не связаны.
– «Я не потеряю других мест из-за моих стихов».
– Следите за текстом, Мид! Carmi– это песни: не одни лишь стихи, но именно музыка его поэтического голоса. В те времена, уплатив менестрелю деньги, можно было избрать одно и то же как рассказ, песню либо проповедь. Проповедь в песнях и песнь в молитвах – вот что такое «Комедия» Данте. «С моими песнями я не утрачу мест иных». Гладко читаете, Мид, – добавил Лоуэлл и провел рукой, точно потянулся, – что означало у него некое общее одобрение.
– Данте повторяется, – уныло заявил Плини Мид. Сидевший рядом Эдвард Шелдон беспокойно поежился. – Вы же сами говорите, – продолжал Мид, – небесный пророк предсказал Данте, что он найдет убежище и покровительство Кенагранде. [25]25
Кангранде делла Скал в (1291–1329) – правитель Вероны и с 1316 г. – покровитель изгнанного из Флоренции Данте. Этому человеку Данте посвятил третью часть «Божественной Комедии» и ему же сын Данте Джакопо отправил после смерти отца тринадцать незавершенных песней «Рая».
[Закрыть]Так какие еще ему потребны «иные места»? Абсурд во имя поэзии.
На это Лоуэлл ответил:
– Когда Данте со всем мужеством своих трудов пишет о будущем доме, об «иных местах», которые ищет, он говорит не о том, как жил в 1302-м – году изгнания, а о своей второй жизни – о той, что на сотни лет вперед уготована его поэме.
Мид упорствовал:
– Но ведь «дражайший город» в действительности никто и никогда у него не отнимал, Данте сам его отверг. Флоренция давала ему возможность вернуться домой к жене и детям, однако он отказался!
Плини Мид был не из тех, кто поражает гениальностью соучеников либо преподавателей, однако, узнав не так давно свои оценки за минувший семестр – и в высшей степени не удовлетворясь ими, – он стал смотреть на Лоуэлла с кислой миной. Свой низкий балл, благодаря которому в выпуске 1867 года Мид скатился с двенадцатого места на пятнадцатое, он объяснял тем, что посмел возражать Лоуэллу в дискуссиях о французской литературе, и, соответственно, – нежеланием профессора признавать свою неправоту. Мид с радостью покинул бы курс новых языков, но, согласно установленным Корпорацией правилам, однажды вступив, студент обязан оставаться в департаменте не менее трех семестров – хитрость, побуждавшая юношей опасаться макнуть в это море хотя бы палец. Таким образом, Мид принужден был терпеть этого великого краснобая Джеймса Расселла Лоуэлла. И Данте Алигьери.
– Какую такую возможность? – рассмеялся Лоуэлл. – Полное прощение и восстановление прав на жилище во Флоренции в ответ на требование поэта об оправдании и выплате внушительной суммы! Даже Джонни-мятежника [26]26
Общее обозначение восставших против Федерации южных штатов.
[Закрыть]мы приняли обратно в Союз с куда меньшим ущемлением. Кем нужно быть, чтобы, громогласно требуя справедливости, удовлетвориться столь гнилостным сговором со своими гонителями?
– И все же Данте остается флорентийцем, что бы мы ни говорили! – провозгласил Мид, заговорщически поглядывая на Шелдона и как бы ища у того поддержки. – Шелдон, неужто вы не видите? Данте беспрерывно вспоминает о Флоренции, с флорентийцами встречается в загробной жизни, говорит с ними и пишет о том в изгнании! Для меня очевидно, друзья, – он жаждет одного лишь возвращения. Смерть в изгнании и нищете для такого человека – великое и окончательное поражение.
Эдвард Шелдон с раздражением отметил, сколь радуется Мид тому, что принудил Лоуэлла умолкнуть; поднявшись, профессор сунул руки в карманы весьма потертого смокинга. Однако Шелдон знал Лоуэлла и по пыхтению трубки видел, как меняется у того настроение. Профессор вступал в иную плоскость умственного знания, расположенную много выше элмвудского кабинета, где он вышагивал сейчас по ковру в своих туго зашнурованных башмаках. Обычно Лоуэлл не допускал первокурсников до усложненных литературных курсов, однако юный Шелдон был настойчив, и профессор решился поглядеть, как пойдут дела. Благодарный за предоставленную возможность, Шелдон давно искал случая защитить Лоуэлла и Данте от нападок Мида – последний был из тех, кто мальчишкой ничтоже сумняшеся укладывает медяки на железнодорожные рельсы. Шелдон открыл было рот, однако Мид стрельнул глазами, и все шелдоновские мысли сами собою затолкались обратно.
Лоуэлл взглянул на него с нескрываемым разочарованием, затем обернулся к Миду.
– У вас в роду не было евреев, мой мальчик? – спросил он.
– Что? – воскликнул оскорбленный Мид.
– Ладно, это неважно, очевидно – не было. Мид, тема Данте – человек, но не просто человек. – Последние слова Лоуэлл произнес с тем кротким смирением, кое приберегал специально для студентов. – Итальянцы вечно дергают Данте за полы одежды, принуждая встать на их сторону в политике и образе мыслей. Как это на них похоже! Ограничить поэта Флоренцией либо Италией означает отнять его у человечества. Мы читаем «Потерянный рай» [27]27
«Потерянный рай» – поэма Джона Мильтона (1608–1674), одного из величайших поэтов Англии, крупнейшего публициста и деятеля Великой английской революции, опубликованная им в 1667 г.
[Закрыть]как поэму, но «Ко медию» Данте – как хронику нашей внутренней жизни. Помните, мальчики, Исайю, 38:10?
Шелдон глубоко задумался; Мид сидел с упрямым каменным лицом, нарочно не желая вспоминать отрывок.
– «Ego dixi: In dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi»! – провозгласил Лоуэлл и, бросившись к заставленной книгами полке, в мгновение ока нашел латинскую библию, а в ней – процитированный стих. – Видите? – Он опустил раскрытую книгу на ковер у ног своих студентов, радуясь более всего, что точно помнит цитату. – Перевести? – спросил он. – «Я сказал себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней». Не о том ли самом думали наши старые сочинители Священного Писания? В середине нашей жизни мы все, всякий из нас, встаем лицом к лицу с заключенным в нас адом. Какова первая строка Дантовой поэмы?
– Пройдя до середины нашей жизни, – с радостной готовностью отозвался Шелдон; сидя у себя в комнате в Стоутон-Холле он по многу раз опять и опять перечитывал вступительные строки «Inferno»:никакие иные стихи не захватывали его столь полно, ничей иной плач не вселял в него столько мужества. – Я очутился в темном лесу, ибо потерял верную дорогу.
– «Nel mezzo del cammln dl nostra vita.Пройдя до середины нашейжизни». – Лоуэлл повторил эти слова, столь пристально всматриваясь туда, где находился камин, что Шелдон оглянулся, подумав, что за спиной у него наверняка стоит красавица Мэйбл Лоуэлл, однако тень от ее сидящей фигуры все так же виднелась в смежной комнате. – «Нашейжизни». С первых строк своей поэмы Данте вовлекает в путешествие нас, мынаравне с ним совершаем это паломничество, и мы обязаны смотреть в лицо нашему аду с той же прямотой, с коей делает это Данте. Поймите, величайшая и вечная ценность поэмы в том, что она – автобиография человеческой души. Вашей и моей в той же мере, в коей и Дантовой.
Слушая, как Шелдон читает по-итальянски следующие пятнадцать строк, Лоуэлл размышлял про себя: как хорошо учить студентов чему-то стоящему. До чего же глуп был Сократ, когда надумал изгнать поэтов из Афин! И с какой радостью станет смотреть Лоуэлл на посрамление Огастеса Маннинга, как только перевод Лонгфелло снискает огромный успех.
Назавтра, прочтя лекцию о Гёте, Лоуэлл выходил из Университетского Холла. И был немало ошеломлен, когда едва не столкнулся с мчавшимся на всех парах итальянцем, одетым в потертое, однако старательно отглаженное мешковатое пальто.
– Баки? – воскликнул Лоуэлл.
Много лет назад Лонгфелло взял Пьетро Баки преподавателем итальянского языка. Корпорация, однако, с опаской относилась к иностранцам, особенно – к итальянским папистам, а что Баки был изгнан из своей страны как раз Ватиканом, на это мнение не влияло. Когда же руководство департаментом принял Лоуэлл, Корпорация отыскала подходящий повод, дабы отстранить Пьетро Баки от работы – таковым стала его невоздержанность и денежная несостоятельность. В день увольнения итальянец кричал профессору Лоуэллу:
– Ноги моей здесь не будет, я лучше умру. – Теперь по странной прихоти Лоуэллу захотелось поймать Баки на слове.
– Мой дорогой профессор. – Баки протянул руку бывшему начальнику, который, по обыкновению, энергично ее пожал.
– Э-э, – начал было Лоуэлл, раздумывая, спросить или нет, как же это Баки, вполне живого и здорового, занесло на Гарвардский Двор.
– Решил погулять, профессор, – объяснил итальянец. При этом он с беспокойством поглядывал в сторону, и профессор решил оставить шутки при себе. Однако, еще только оборачиваясь и удивляясь появлению итальянца, Лоуэлл отметил, что направляется тот навстречу смутно знакомой фигуре. Неподалеку мелькнул человек в черном котелке и клетчатом жилете – поклонник, что пару недель назад стоял, привалясь к стволу вяза. Какие у них с Баки дела? Лоуэлл решил посмотреть, поздоровается ли итальянец с неизвестным персонажем, явно сейчас кого-то дожидавшимся. Но тут во Двор выплеснулось море студентов, счастливых оттого, что завершились наконец греческие чтения, и загадочная пара – ежели эти двое и вправду соотносились друг с другом – скрылась из виду.
Выбросив из головы встречу, Лоуэлл направился к школе юриспруденции, подле которой Оливер Уэнделл-младший объяснял обступившим его соученикам их ошибку в трактовании некоего закона. Внешне он не так уж сильно отличался от доктора Холмса – можно было подумать, что маленького доктора натянули на распялку вдвое выше его роста.
Доктор Холмс топтался без дела у подножия черной лестницы своего дома. Задержавшись перед низким зеркалом, он достал гребень и зачесал набок густой каштановый чуб. Подумал, что наружность не очень-то ему льстит. «Более удобства, менее украшений», – часто говорил он людям. Лицо смуглого оттенка, четкой формы изогнутый нос, крепкая шея – он точно видел в зеркале отражение Уэнделла-младшего. Недди, другой сын Холмсов, оказался невезуч настолько, что, повторив наружность отца, унаследовал вдобавок его неполадки с дыханием. Доктор Холмс и Недди были Уэнделлами, как часто говорил преподобный Холмс, Уэнделл же младший – истинным Холмсом. С такой кровью Младший, несомненно, вознесет отцовское имя – что там Холмс, эсквайр, берите выше – его превосходительство Холмс, а то и Президент Холмс. [28]28
Доктор не ошибся. Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841–1935) – знаменитый американский юрист, член Верховного суда США с 1902 по 1932 гг., автор классических трудов по юриспруденции.
[Закрыть]Заслышав топот тяжелых башмаков, доктор вздрогнул и поспешно ретировался в соседнюю комнату. Затем в другой раз неспешным шагом приблизился к лестнице, уставив глаза в некую старую книгу. В дом ворвался Оливер Уэнделл Холмс-младший и одним мощным скачком взлетел на второй этаж.








